Текст книги "Сила и правда России. Дневник писателя"
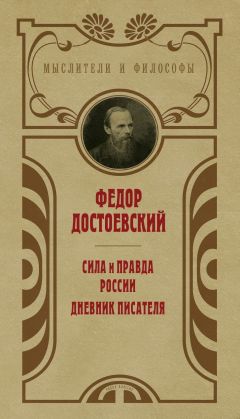
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 49 страниц)
Май – июнь
Прежние земледельцы – будущие дипломаты
Но куда я удалился от дела? Я начал с того, что я в деревне и рад тому. Давненько-таки я не живал в русской деревне. Но о деревне потом, а здесь лишь вставлю, что я уже потому, между прочим, рад, что я в деревне, а не за границей, что не увижу за границей слоняющихся там наших русских. В самом деле, в наше, столь народное, столь единительное и патриотическое время, когда именно всюду ищешь у себя дома русских, ждёшь русских, желаешь и требуешь русских, в такое время слишком тяжело видеть за границей, куда вот уже двадцать лет ежегодно экспатрируется и где колонизируется наша интеллигенция, – претворение чисто русского, сырого и превосходного, может быть, материала в жалкую международную дрянь, обезличенную, без характера, без народности и без Оте чества. Я не про отцов говорю, – отцы неисправимы и Бог с ними, – а про их несчастных детей, которых они губят за границей. Отцы же даже отъявленным нашим русским европейцам становятся наконец смешны. Г-н Буренин, отправившийся корреспондентом на войну, рассказывает в одном из своих писем забавную встречу с одним из наших европейцев сороковых годов, «в седых почтенных кудрях», проживающим постоянно за границей, но приехавшим нарочно на войну посмотреть, на «зрелище борьбы» (разумеется, с самого почтительного расстояния) и разострившимся в вагоне над всем, над чем вот уж сорок лет острят эти господа, то есть над русским духом, над славянофилами и проч. и проч. Он потому-де живёт за границей, что у нас в России «всё ещё нечего делать серьёзному и порядочному человеку». (NB: я привожу цитаты на память.) Одна из удачнейших острот его состояла в том, что «уже сделано распоряжение по железным дорогам привезти в особом вагоне, ввиду вступления наших войск в Болгарию и обновления славянства, – тень Хомякова». Но этому седокудрому господину можно бы было заметить, что сам он очень тоже похож на тень какого-нибудь, может быть, и весьма почтенного западнолиберального говорильщика сороковых годов, но который теперь, если б столько лет спустя и дожив до седых кудрей, повторял бы то же самое, на чём остановился в своих сороковых годах, то, уж конечно, даже будь он хоть сам Грановский, казался бы непременно точь-в-точь таким же самым шутом, как и этот господин, извещавший о распоряжении доставить по железной дороге на театр войны тень Хомякова и о том, что в нашей России все ещё нечего делать порядочному человеку.
Эмигрировали из России (я удерживаю это слово) двадцать лет назад наиболее помещики, и с тех пор эмиграция продолжается с каждым годом. Конечно, в этом числе много и не помещиков, были всякие, но, в огромном большинстве, если не все, более или менее ненавидящие Россию, иные нравственно, вследствие убеждения, «что в России таким порядочным и умным, как они, людям нечего делать», другие уже просто ненавидя её безо всяких убеждений, так сказать, натурально, физически: за климат, за поля, за леса, за порядки, за освобождённого мужика, за русскую историю – одним словом, за всё, за всё ненавидя. Замечу, что такая ненависть может быть и весьма пассивная, очень спокойная и до апатии равнодушная. А тут как раз почувствовались в руках выкупные и, сверх того, ужасно многих озарило убеждение, что с освобождением крестьян всё погибло – и деревня, и землевладение, и дворянство, и Россия. Правда и то, что с освобождением крестьян сельский труд остался без достаточной организации и обеспечения, и личное землевладение натурально струсило и сконфузилось так, как ни в какой исторический переворот не могло бы случиться больше. Вот и пустились помещики продавать и продавать, и часть их (слишком не малая) бросилась за границу. Но что бы ни выставляли они себе в оправдание, но не могут же они утаить, и перед согражданами, и перед детьми своими, что главная причина их эмигрирования была тоже и приманка эгоистического «ничегонеделанья». И вот с тех пор русская личная поземельная собственность в полнейшем хаосе, продаётся и покупается, меняет своих владетелей поминутно, меняет даже вид свой, обезлесивается, и во что обратится она, за кем останется она окончательно, из кого составится окончательно обновлённое русское землевладельческое сословие, в какую форму преобразится оно в конце концов – всё это трудно предсказать, а между тем, если хотите, в этом главнейший вопрос русской будущности. Это уж какой-то закон природы, не только в России, но и во всём свете: кто в стране владеют землёй, те и хозяева той страны, во всех отношениях. Так бывало везде и всегда. Но у нас, скажут, сверх того община, – вот, значит, и хозяева. Но… вопрос об общине разве из решённых у нас окончательно? Разве пятнадцать лет назад он не вошёл у нас тоже в новый фазис, как и всё остальное? Но об этом обо всём потом, а заключу пока мою мысль голословно: если в стране владение землёй серьёзное, то и всё в этой стране будет серьёзно, во всех то есть отношениях, и в самом общем и в частностях. Хлопочут, например, у нас теперь о просвещении, о народных школах, а я вот верю только тому, что школы тогда только примутся у нас серьёзно и основательно, когда землевладение и земледелие наше организуются у нас серьёзно и основательно, и что скорее не от школы получится хорошее земледелие, а, напротив, от хорошего лишь земледелия (то есть от правильного землевладения) получится хорошая школа, но никак не раньше. Параллельно же с этим примером и всё: и порядки, и законы, и нравственность, и даже самый ум нации, и всё, наконец, всякое правильное отправление национального организма организуется лишь тогда, когда в стране утвердится прочное землевладение. То же самое можно сказать и о характере землевладения: будь характер аристократический, будь демократический, но каков характер землевладения, таков и весь характер нации.
Но теперь пока наши бывшие помещики гуляют за границей, по всем городам и водам Европы, набивая цены в ресторанах, таская за собой, как богачи, гувернанток и бонн при своих детях, которых водят в кружевах и в английских костюмчиках, с голыми ножками, напоказ Европе. А Европа-то смотрит и дивится: «Вот ведь сколько у них там богатых людей и, главное, столь образованных, столь жаждущих европейского просвещения. Это ведь из-за деспотизма им до сих пор не выдавали заграничных паспортов, и вдруг сколько у них оказалось землевладетелей и капиталистов и удалившихся от дел рантьеров, – да больше, чем даже во Франции, где столько рантьеров!» И расскажите Европе, растолкуйте ей, что это чисто русское явление, что никакого тут нет рантьерства, а, напротив, пожирание основных своих фондов, сжигание свечки с обоих концов, то Европа, конечно, не поверит этому, невозможному у ней, явлению, да и не поймёт его вовсе. И ведь, главное, эти сибариты, слоняющиеся по германским водам и по берегам швейцарских озер, эти Лукуллы, проживающиеся в ресторанах Парижа, ведь сами они знают и с некоторою даже болью всё же предчувствуют, что ведь фонды-то они свои наконец проедят и что детям их, вот этим самым херувимчикам в английских костюмчиках, придётся, может быть, просить по Европе милостыню (и будут просить милостыню!) или обратиться во французских и немецких рабочих (и обратятся в французских и немецких рабочих!). «Но, думают они, après nous le déluge, да и кто виноват: виноваты всё те же наши русские порядки, наша неуклюжая Россия, в которой порядочному человеку до сих пор ещё ничего сделать нельзя». Вот как они думают, а либеральнейшие из них, те, которые могут назваться высшими и чистейшими западниками сороковых годов, те прибавляют ещё, может быть, про себя: «Ну что ж, что дети останутся без состояния, зато унаследуют идею, благородную закваску истинного священного образа мыслей. Воспитанные вдали от России, они не будут знать попов и глупое слово „отечество“. Они поймут, что отечество есть предрассудок и даже самый пагубнейший из всех существующих в мире. Из них выйдут благородные общечеловеческие умы. Мы и только мы, русские, положим начало этим новым умам.
Именно тем, что проживаем за границей наши выкупные, мы полагаем основание новому, грядущему международному гражданству, которое рано ли, поздно ли, а обновит Европу, и вся честь за то нам, потому что мы начали раньше всех». Впрочем, так говорят лишь «седокудрые», то есть ещё очень немногие, ибо много ли передовых-то? Более же практические, и даже из «седокудрых» не столь благородные, в конце концов всё ещё надеются на «связишки»: «Мы-то здесь проживаемся, это правда, да ведь и наживаем же что-нибудь всё-таки, ну, там знакомства, связишки, которые потом, в „отечестве“-то, и пригодятся. К тому же хоть и в либеральном духе воспитываем деток, да ведь всё ж джентльменами, а в этом ведь и всё главное. Будут они витать в сферах исключительных и высших, а либерализм в высших сферах всегда обозначал и сопровождал у нас джентльменство, ибо джентльменский либерализм для высшего-то, так сказать, консерватизма и полезен, это всегда у нас различать умели. И что ж, мы детей растим за границей и – как раз, значит, готовим их в дипломаты. Что за прелесть здесь все эти места при посольствах, при консульствах и какая бездна-бездная этих милейших местечек, и как восхитительно дотированных! Вот и хватит на наших детишек: и покойно, и хорошо, и денежно, и прочно, да и служба всегда на виду. Да и служба чистенькая, щегольская, джентльменская; а работа, – ну, а работа прелёгкая: знай знакомься с русскими за границей, из тех, кто попорядочнее, а из тех, кто накуролесят да защитить себя консула просят, мы тех свысока обернём, поначальственнее, и слушать-то не станем: „Не верим вам, дескать, беспорядки производите сами, всё ещё воображаете себя в милом отечестве, тогда как здесь место чистое. Из-за вас неприятности получай, да и стоит ещё из-за такого, как вы, иноземное начальство беспокоить: вы только посмотрите на себя в зеркало, до чего вы дошли-с!“ Вот и вся служба в этом! Одним словом, сумеют и наши деточки выйти в люди, да-с, были бы только связи – вот что первее всего надо родительскому сердцу наблюсти, а прочее всё приложится по востребованию».
Итак, все не столь благородные из проживающихся за границей более или менее рассчитывают на связишки. Но ведь что такое связи? Ну хоть и значат что-нибудь, но ведь эта материя ужасно скоро изнашивается. И далеко бы не мешало, кроме связей, запасти себе ну хоть немножко знания России и собственного ума, хоть на всякий случай. Теперь же именно, в эпоху реформ и новых начал, у нас как нарочно все собственным умом хотят жить, все того захотели, – идея, бесспорно, просвещённая, но то беда, что никогда ещё у нас не бывало столь мало собственного ума, как теперь, при общем желании иметь его. Почему это так – решать не возьмусь, да и трудно, но одну из причин, почему херувимчики наши, бесспорно, будут дурачками, основательно знаю, и хоть она стара, но укажу на неё. А впрочем, всё то же самое, о чём я говорил и в прошлом году. Причина – русский язык, то есть недостаток русского, отечественного языка от воспитания за границей, с гувернантками и боннами иностранками. Это у нас и всегда водилось, и прежде, то есть недостаток этот, но никогда как теперь, когда столько херувимчиков взрастёт за границей. Положим, они готовятся в дипломаты, а дипломатический язык, известно, французский язык; русский же язык довольно знать лишь и грамматически. Но так ли это? Вопрос этот хоть и до пошлости старый, а между тем он до того ещё нерешённый, что недавно даже в печати о нём опять заговорили, хоть и косвенно, по поводу сочинений г-на Тургенева на французском языке. Выражено было даже мнение, что «не всё ли равно г-ну Тургеневу сочинять на французском или на русском языке и что тут такого запрещённого?». Запрещённого, конечно, нет ничего и особенно такому огромному писателю и знатоку русского языка, как Тургенев, и если у него такая фантазия, то почему же ему не писать на французском, да и к тому же если он французский язык почти как русский знает. И потому о Тургеневе ни слова, но… но я вижу, что я решительно повторяюсь и в прошлом году говорил решительно то же самое, на ту же самую тему, и в этих же заграничных месяцах, толкуя с загранично-русской маменькой о вреде французского языка для её херувимчиков. Но маменька готовит теперь херувимчиков в дипломаты, и вот собственно лишь по поводу дипломатии-то хоть и неприятно повторяться, но рискну и ещё ей словцо.
«Но ведь дипломатический язык французский», – прерывает меня маменька на этот раз, не дав мне даже и начать. Увы, она с прошлого года приготовилась, она третирует меня свысока. «Так, сударыня, – отвечаю я, – возражение ваше сильное, и я согласен с вами бесспорно. Но, во-первых, ведь что я говорил о знании русского языка, надо приложить и к французскому, ведь не правда ли? Ведь, чтоб выразить богатства своего организма на французском языке, надо и французский язык усвоить себе богатейшим образом. Ну так знайте же, есть такая тайна природы, закон её, по которому только тем языком можно владеть в совершенстве, с каким родился, то есть каким говорит тот народ, которому принадлежите Вы. Вы морщитесь, я Вас обидел, Вы смотрите насмешливо. Вы махаете ручкой и уверяете меня, что слышали это ещё прошлого года и что я повторяюсь. Хорошо-с, я Вам уступаю, да и тема эта не дамская. Я Вам просто-запросто уступлю и соглашусь с Вами, что можно и русскому усвоить себе французский язык в совершенстве, но с огромным условием: родиться во Франции, вырасти в ней и с самого первого часа своей жизни преобразиться во француза. О, Вы развеселились, Вы уже улыбаетесь, но заметьте, однако, сударыня, что это даже и для Вас не совсем возможно будет исполнить касательно Вашего херувимчика, несмотря даже на все удобства, то есть эмиграцию, выкупные, парижскую бонну и проч. и проч. К тому же возьмите в соображение и природные, так сказать, дары, потому что нельзя же ведь сравнивать г-на Тургенева и Вашего, например, херувимчика относительно этих даров. Много ль, скажите, родится Тургеневых-то… Ах нет, нет, что я! Я опять ошибся, сболтнул: из Вашего херувимчика выйдет наверно Тургенев или даже три Тургенева разом, оставим это, но…» – «Но, – прерываете Вы вдруг меня, – ведь дипломаты и без того все умны, так зачем же уж так хлопотать об уме? Поверьте, были бы только связи. Mon mari…» – «Вы совершенно правы, сударыня, – перебиваю и я поскорее, – были бы связи, и, оставляя Вашего супруга как можно более в стороне, всё-таки прибавлю, что к связям не худо бы хоть немного ума. И, во-первых, дипломаты вовсе не потому умны, что они дипломаты, а потому только, что они и до дипломатии были умные люди, а поверьте, что есть даже чрезвычайно много дипломатов замечательно глупых людей». – «Ах нет, вот уж извините, – прерываете Вы меня в нетерпении, – дипломаты все всегда умные, и все на превосходных местах, и это самая благородная служба!» – «Сударыня, сударыня! – восклицаю я, – Вы говорите: связи и знание языков, но ведь связи только место доставят, а там, потом… Ну представьте себе: Ваш херувимчик взрастает в ресторанах Европы, кутит с модными кокотками в товариществе заграничных виконтов и наших русских графов, но ведь потом… Вот он знает все языки, и уже по тому одному никакого. Не имея же своего языка, он естественно схватывает обрывки мыслей и чувств всех наций, ум его, так сказать, сбалтывается ещё смолоду в какую-то бурду, из него выходит международный межеумок с коротенькими, недоконченными идейками, с тупою прямолинейностью суждения. Он дипломат, но для него история наций слагается как-то по-шутовски. Он не видит, даже не подозревает того, чем живут нации и народы, какие законы в организме их и есть ли в этих законах целое, усматривается ли общий международный закон. Он готов выводить все события мира из того только, что такая-то, например, королева рассердила фаворитку такого-то короля, вот и произошла от того война двух королевств. Позвольте, я буду с Вашей точки зрения судить. Пусть связи… Но ведь для приобретения связей нужен характер, нужна, так сказать, любезность характера, мягкость, доброта и в то же время твёрдость, настойчивость… Дипломат ведь должен быть пленителен, так сказать, пленять, побеждать, не правда ли? Ну, так поверите ли Вы или нет, когда я Вам прямо и в высшей степени определённо скажу, что без знания натурального своего языка, без обладания им нельзя даже выровнять себе и характера, особенно если херувимчик хорошо и богато одарён от природы: у него начнут же в своё время рождаться мысли, идеи, чувства, его будут давить, так сказать, изнутри эти мысли и чувства, ища и требуя себе выражения, а без богатых, усвоенных с детства, готовых форм выражения, то есть без языка, без развития его, без утончённостей его, без обладания оттенками его – сын Ваш будет вечно недоволен собою: обрывки мыслей перестанут его удовлетворять, накопляющийся в уме и сердце материал потребует основательного уже выражения… Молодой человек станет озабочен, рассеян, беспредметно задумчив, потом брюзглив, несносен, потом расстроит своё здоровье, даже желудок, может быть, верите ли тому…»
Но вижу, вижу, Вы покатились со смеху, я опять увлёкся, согласен (а ведь, боже, какую я правду говорю!), но позвольте мне закончить, позвольте мне Вам напомнить, что я давеча Вам уступил, я с Вами согласился, для виду, что дипломаты всё же умные люди, но Вы меня до того довели, сударыня, что я принуждён теперь не скрыть от Вас даже самую секретнейшую подкладку взгляда моего на этот предмет. Именно, сударыня, мне как нарочно несколько уже раз в жизни приходило на мысль, что в дипломатии, то есть во всеобщей дипломатии, всех народов и всего девятнадцатого столетия, чрезвычайно даже мало было умных людей. Даже поражает. Напротив, скудоумие этого сословия в истории Европы нынешнего столетия… то есть, видите ли, все они умны, более или менее, это бесспорно, все остроумны, но умы-то это какие! Проникал ли хоть один из этих умов в сущность вещей, понимал ли, предчувствовал ли таинственные законы, ведущие к чему-то Европу, к чему-то неизвестному, странному, страшному – но теперь уже очевидному, почти воочию совершающемуся в глазах тех, которые чуть-чуть умеют предчувствовать? Нет-с, положительно можно изречь, что не было ни одного такого дипломата и ни одного такого ума в этом столь почтенном и фаворизированном сословии! (Я, уж конечно, говоря так, исключаю Россию и всё отечественное, потому что мы, по самой сущности нашей, в этом деле «особ-статья».) Напротив, во всё столетие являлись дипломатические умы, положим, прехитрейшие, интриганы, с претензией на реальнейшее понимание вещей, а между тем дальше своего носу и текущих интересов (да ещё самых поверхностных и ошибочных) никто из них ничего не усматривал! Порванные ниточки как бы там связать, заплаточку на дырочку положить, «пену подбить, вызолотить, за новое сойдёт» – вот наше дело, вот наша работа! И всему тому есть причины – и главнейшая, по-моему, – разъединение начал, разъединение с народом и обособление дипломатических умов в слишком уж, так сказать, великосветской и отвлечённой от человечества сфере. Ну, возьмите, например, графа Кавура – это ль был не ум, это ль не дипломат? Я потому и беру его, что за ним уже решена гениальность, да к тому же и потому ещё, что он умер. Но что ж он сделал, посмотрите: о, он достиг своего, объединил Италию, и что же вышло: 2500 лет носила в себе Италия мировую и объединяющую мир идею – не отвлечённую какую-нибудь, не спекуляцию кабинетного ума, а реальную, органическую, плод жизни нации, плод мировой жизни: это было объединение всего мира – сначала древнеримское, потом папское. Народы, взраставшие и переходившие в эти два с половиной тысячелетия в Италии, понимали, что они носители мировой идеи, а непонимавшие чувствовали и предчувствовали это. Наука, искусство – всё облекалось и проникалось этим же мировым значением. О, положим, что мировая эта идея там, под конец, сама собой износилась и вся истратилась, вся вышла (хотя вряд ли так?), но ведь что ж наконец получилось вместо-то неё, с чем поздравить теперь-то Италию, чего достигла она лучшего-то после дипломатии графа Кавура? А явилось объединённое второстепенное королевствицо, потерявшее всякое мировое поползновение, променявшее его на самое изношенное буржуазное начало (тридцатое повторение этого начала со времени первой французской революции), – королевство, вседовольное своим единством, ровно ничего не означающим, единством механическим, а не духовным (то есть не прежним мировым единством), и, сверх того, в неоплатных долгах и, сверх того, именно недовольное своею второстепенностью. Вот что получилось, вот создание графа Кавура! Одним словом, современный дипломат есть именно «великий зверь на малые дела»! Князь Меттерних считался одним из самых глубоких и тончайших дипломатов в мире и уж бесспорно имел всеевропейское влияние. А между тем в чём была его идея, как понял он свой век, в его время лишь начинавшийся, как предчувствовал он грядущее будущее? Увы, он со всеми основными идеями начинавшегося столетия решил справиться полицейским порядком и вполне был уверен в успехе! Посмотрим теперь на князя Бисмарка, вот этот так уж бесспорно гений, но…
– Finissons, monsieur, – строго прерывает меня маменька с видом глубоко и свысока оскорблённого достоинства. Я, разумеется, тотчас же и ужасно пугаюсь. Конечно, я не понят, конечно, с маменьками ещё нельзя теперь заговаривать на такие темы, и я дал страшного маху. Но с кем можно-то теперь заговаривать о дипломатии, вот ведь вопрос? А ведь какая интереснейшая тема и как раз в наше время! Но…
Дипломатия перед мировыми вопросами
И какая серьёзная тема! Ибо что такое теперь наше время? Все, кто одарены мудростью, говорят, что наше время есть время по преимуществу дипломатическое, время решения всех мировых судеб одной лишь дипломатией, утверждают, например, что будто бы где-то теперь у нас идёт война. И я даже слышал о том, что идёт война, но мне говорят, и я читаю везде, что если и есть там что-то и где-то вроде войны, то всё это наверно не так понимается. По крайней мере, решено, что эта война ничему не помешает, то есть никаким здравым отправлениям нации, совмещающимся, по последним взглядам всего того, что называется вообще «премудростью», преимущественно и даже единственно в одной лишь дипломатии; и что самые даже эти военные прогулки, маневры и проч., всегда, впрочем, необходимые, – в истинном смысле вещей составляют не более, как лишь один из фазисов высшей дипломатии и ничего более. Так и надо веровать. С моей стороны, я очень наклонен этому верить, ибо всё это очень успокоительно, но вот, однако, что любопытно и что ужасно как выдаётся: у нас, например, загорелся Восточный вопрос, загорелся он и во всей Европе тотчас же, как и у нас, даже раньше, – и это ужасно понятно: все и даже не дипломаты (и даже особенно если недипломаты) – все знают давным-давно, что Восточный вопрос есть, так сказать, один из мировых вопросов, один из главнейших отделов мирового и ближайшего разрешения судеб человеческих, новый грядущий фазис этих судеб. Известно, что тут дело не только одного Востока Европы касается, не только славян, русских и турок или там специально болгар каких-нибудь, но тоже и всего Запада Европы, и вовсе не относительно только морей и проливов, входов и выходов, а гораздо глубже, основнее, стихийнее, насущнее, существеннее, первоначальнее. А потому понятно, что Европа тревожится и что дипломатии так много дела. Но какое же, однако, дело у дипломатии? – вот мой вопрос! Чем она-то (по преимуществу теперь) в Восточном вопросе занята? Дело дипломатии (а иначе она и дипломатией бы не была), дело её теперь – конфисковать Восточный вопрос во всех отношениях и поскорей уверить всех, кого следует и не следует, что никакого вопроса вовсе и не начиналось, что всё это только так, манёврики и прогулочки – и даже, если только можно, то уверить, что Восточный вопрос не только не начинался, но и никогда его не бывало на свете, не существовало, а только туману лет сто назад напустили, из видов, и тоже дипломатических, так вот и лежит этот нерастолкованный туман до сих пор. Откровенно скажу, что этому можно бы даже и поверить, если б тут как раз не представлялась одна загадка, но уже не дипломатическая (вот беда!), ибо дипломатия никогда и ни за что не берётся за такие загадки, мало того, отворачивается от них с презрением, ибо считает их недостойными высших умов фантазиями. Эту загадку можно бы формулировать в таком виде: почему это всегда так происходит и особенно в последнее время, с половины то есть девятнадцатого столетия, и чем далее, тем нагляднее и осязательнее, почему – чуть лишь дело коснётся в мире до чего-нибудь мирового, всеобщего, как тотчас же, рядом с одним поднявшимся где-нибудь мировым вопросом, подымаются параллельно тому и все остальные мировые вопросы, так что мало, например, теперь Европе одного поднявшегося мирового вопроса, Восточного, нет, она рядом с ним нежданно-негаданно вдруг поднимает во Франции вопрос, и тоже мировой, католический? И католический вопрос не потому только, что вот-де умрёт скоро папа, то Франция, как представительница католичества, должна позаботиться о том, чтоб отнюдь не исчезло и не изменилось ничего в установившейся веками организации католичества, а и потому ещё, что католичество принято тут видимо за общее знамя соединения всего старого порядка вещей, за все девятнадцать веков, – соединения против чего-то нового и грядущего, насущного и рокового, против грозящего вселенной обновления новым порядком вещей, против социального, нравственного и коренного переворота во всей западноевропейской жизни, или, по крайней мере, если и не совершится обновление это, то против страшного потрясения и колоссальной революции, которая несомненно грозит потрясти все царства буржуазии во всём мире, везде, где они организовались и процвели, по шаблону французскому 1789 года, грозит сковырнуть их прочь и стать на их место. Кстати, на минутку отступлю от темы и сделаю одно необходимое Nota bene, ибо предчувствую как смешно покажется иным мудрецам, особенно либеральным, что я, в самом разгаре девятнадцатого столетия, называю Францию державою католической, представительницей католичества! А потому в разъяснение моей мысли и объявлю пока голословно, что Франция есть именно такая страна, которая, если б в ней не оставалось даже ни единого человека, верящего не только в папу, но даже в Бога, всё-таки будет продолжать оставаться страной по преимуществу католической, представительницей, так сказать, всего католического организма, знаменем его, и это пребудет в ней чрезвычайно долгое время, даже до невероятности, до того, может быть, времени, когда Франция перестанет быть Францией и обратится во что-нибудь другое. Мало того, и социализм-то самый начнётся в ней по католическому шаблону, с католической организацией и закваской, не иначе, до такой степени эта страна есть страна католическая! Ничего этого подробно теперь не стану доказывать, а покамест укажу лишь, например, на то: почему это так вдруг подтолкнуло маршала Мак-Магона возбудить и поднять, ни с того ни с сего, именно католический вопрос? Этот храбрый генерал (впрочем, почти везде побеждённый, а в дипломатии отличившийся коротенькой фразой «J’y suis et j’y reste») – этот генерал вовсе не из таких, кажется, деятелей, чтоб в состоянии был сознательно поднять что-либо в этом роде. А вот начал же, поднял же самый капитальный из староевропейских вопросов, и именно в том виде, в каком и должно было ему подняться, – но главное: почему, почему именно как раз в ту минуту поднять, как на другом конце мира загорелся другой мировой вопрос, Восточный вопрос? Почему вопрос к вопросу жмётся, почему один другой вызывает, тогда как, казалось бы, между ними и связи-то нет? Да и не одни эти два вопроса поднялись вместе: с Восточным поднялись и ещё вопросы, поднимутся и ещё и ещё, если он правильно разовьётся. Одним словом, все главнейшие вопросы Европы и человечества в наш век начали подниматься всегда одновременно. И вот одновременность-то эта и поражает. Условие-то это непременно всем вопросам являться вместе и составляет загадку! Но для чего я это всё говорю. А вот именно ввиду того, что дипломатия на такие именно вопросы и смотрит с презрением. Она не только не признаёт никаких подобных совпадений, но и думать-то о них не желает. Миражи, дескать, вздоры и пустяки: «Нет этого всего ничего, а просто маршалу Мак-Магону, а пуще его супруге чего-то захотелось, вот всё и вышло». А потому, несмотря на то, что сам же я провозгласил, начиная этот отдел главы, что время наше по преимуществу дипломатическое, а прочее всё мираж, сам же я принуждён этому не поверить первый. Нет, тут загадка! Нет, тут решает дело не одна дипломатия, а и ещё что-то другое. И, признаюсь, я чрезвычайно смущён этим выводом; я так наклонен был верить в дипломатию, а все эти новые вопросы – всё это только новые хлопоты и больше ничего…
Никогда Россия не была столь могущественною, как теперь, – решение не дипломатическое
В самом деле, я вот предложил один вопрос и пока лишь развил его голословно. Но всегда мне представлялся, и ещё задолго до этого теперешнего вопроса (то есть вопроса о совокупности появления разом всех мировых вопросов, чуть лишь один из них подымется), ещё другой вопрос, несравненно простейший и естественнейший, но на который, именно потому что он так прост и естествен, люди мудрости и не обращают почти никакого внимания. Вот этот другой вопрос: да, пусть дипломатия есть и была, всегда и везде, решительницей всех основных и важнейших вопросов человечества, и будет впредь; но всегда ли окончательное решение европейских вопросов от неё зависит? Не бывает ли, напротив, такого фазиса, такой точки в каждом вопросе, когда уже нельзя разрешить его всем известным успокоительным способом, дипломатическим, то есть заплаточками. И хоть и бесспорно, что все мировые вопросы, с точки зрения дипломатического, а стало быть, и здравого смысла, всегда объясняются не более как тем, что таким-то вот державам захотелось расширения границ, или лично чего-то захотелось такому-то храброму генералу, или не понравилось что-нибудь какой-нибудь знатной даме и проч. и проч. (пусть, это бесспорно, я это уж уступлю, ибо здесь премудрость), но всё-таки не бывает ли в известный момент, даже вот и при этих-то самых реальных причинах и их объяснениях, такой точки в ходе дел, такого фазиса, когда появляются вдруг какие-то странные другие силы, положим и непонятные и загадочные, но которые овладевают вдруг всем, захватывают всё разом в совокупности и влекут неотразимо, слепо, вроде как бы под гору, а пожалуй, так и в бездну? В сущности я хотел бы только узнать: всегда ли так уж надеется на себя и на средства свои дипломатия, что никаких подобных сил и точек, и фазисов не боится вовсе, а пожалуй, так и не предполагает их вовсе? Увы, кажется, что всегда, а потому: как я поверю ей и доверюсь ей и могу ли принять её за окончательную решительницу судеб столь блажного и беспутного ещё человечества!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































