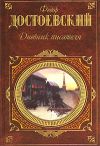Текст книги "Сила и правда России. Дневник писателя"
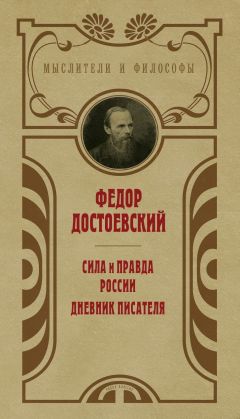
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 49 страниц)
Анекдот этот случился со мной уже слишком давно, в моё доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году, когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду, по дороге из Москвы в Петербург. Я и старший брат мой ехали с покойным отцом нашим в Петербург, определяться в Главное инженерное училище. Был май месяц, было жарко. Мы ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три. Помню, как надоело нам, под конец, это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали о чём-то ужасно, обо всём «прекрасном и высоком», – тогда это словечко было ещё свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали всё, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух. И вот раз, перед вечером, мы стояли на станции, на постоялом дворе, в каком селе не помню, кажется в Тверской губернии; село было большое и богатое. Через полчаса готовились тронуться, а пока я смотрел в окно и увидел следующую вещь.
Прямо против постоялого двора через улицу приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире, с узенькими тогдашними фалдочками назади, в большой трехугольной шляпе с белыми, жёлтыми и, кажется, зелёными перьями (забыл эту подробность и мог бы справиться, но мне помнится, что мелькали и зелёные перья), фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж наверно «хлопнул» там рюмку водки. Помню, мне тогда сказал наш извозчик, что такой фельдъегерь всегда на каждой станции выпивает по рюмке, без того не выдержал бы «такой муки». Между тем к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка, и ямщик, молодой парень лет двадцати, держа на руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбежал со ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперёд, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые. Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегеря почти так же ездят, а что этот особенно, и его все уже знают; что он, выпив водки и вскочив в тележку, начинает всегда с битья и бьёт «всё на этот самый манер», безо всякой вины, бьёт ровно, подымает и опускает и «продержит так ямщика с версту на кулаках, а затем уж перестанет. Коли соскучится, может, опять примется середи пути, а может, Бог пронесёт; зато уж всегда подымается опять, как подъезжать опять к станции: начнёт примерно за версту и пойдёт подымать и опускать, таким манером и подъедет к станции, чтобы все в селе на него удивлялись; шея-то потом с месяц болит». Парень воротится, смеются над ним: «Ишь тебе фельдъегерь шею накостылял», а парень, может, в тот же день прибьёт молоду жену: «Хоть с тебя сорву»; а может, и за то, что «смотрела и видела»…
Без сомнения, бесчеловечно со стороны ямщика так хлестать и нахлестать лошадей: к следующей станции они прибежали, разумеется, едва дыша и измученные. Но кто же бы из Общества покровительства животным решился привлечь этого мужика к ответственности за бесчеловечное обращение со своими лошадками, ведь не правда ли?
Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом наклонен был объяснять, уж конечно, слишком односторонне. Вы поймёте, что дело идёт лишь о давно минувшем. Картинка эта являлась, так сказать, как эмблема, как нечто чрезвычайно наглядно выставлявшее связь причины с её последствием. Тут каждый удар по скоту, так сказать, сам собою выскакивал из каждого удара по человеку. В конце сороковых годов, в эпоху моих самых беззаветных и страстных мечтаний, мне пришла вдруг однажды в голову мысль, что если б случилось мне когда основать филантропическое общество, то я непременно дал бы вырезать эту курьерскую тройку на печати общества как эмблему и указание.
О, без сомнения, теперь не сорок лет назад, и курьеры не бьют народ, а народ уже сам себя бьёт, удержав розги на своём суде. Не в этом и дело, а в причинах, ведущих за собою следствия. Нет фельдъегеря, зато есть «зелено-вино». Каким образом зелено-вино может походить на фельдъегеря? – Очень может, – тем, что оно так же скотинит и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его перед всякой доброй пропагандой. Пьяному не до сострадания к животным, пьяный бросает жену и детей своих. Пьяный муж пришёл к жене, которую бросил и не кормил с детьми много месяцев, и потребовал водки, и стал бить её, чтобы вымучить ещё водки, а несчастная каторжная работница (вспомните женский труд и во что он у нас пока ценится), не знавшая, чем детей прокормить, схватила нож и пырнула его ножом. Это случилось недавно, и её будут судить. И напрасно я рассказал о ней, ибо таких случаев сотни и тысячи, только разверните газеты. Но главнейшее сходство зелена-вина с фельдъегерем бесспорно в том, что оно так же неминуемо и так же неотразимо стоит над человеческой волей.
Почтенное Общество покровительства животным состоит из семисот пятидесяти членов, людей, могущих иметь влияние. Ну что, если б оно захотело поспособствовать хоть немного уменьшению в народе пьянства и отравления целого поколения вином! Ведь иссякает народная сила, глохнет источник будущих богатств, беднеет ум и развитие, – и что вынесут в уме и сердце своём современные дети народа, взросшие в скверне отцов своих? Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят кабак, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли. Примеры эти ещё пока ничтожные, ввиду неисчисленных будущих ужасов. Почтенное Общество, если б захотело хоть немного поспособствовать устранению первоначальных причин, тем самым наверно облегчило бы себе и свою прекрасную пропаганду. А то как заставить сострадать, когда вещи сложились именно как бы с целью искоренить в человеке всякую человечность? Да и одно ли вино свирепствует и развращает народ в наше удивительное время? Носится как бы какой-то дурман повсеместно, какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом я называю, в данном случае, преклонение народа перед деньгами, перед властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь всё, заключает в себе всякую силу, а что всё, о чём говорили ему и чему учили его доселе отцы, – всё вздор. Беда, если он укрепится в таких мыслях; как ему и не мыслить так? Неужели, например, это недавнее крушение поезда на Одесской железной дороге с царскими новобранцами, где убили их более ста человек, – неужели вы думаете, что на народ не подействует такая власть развратительно? Народ видит и дивится такому могуществу: «Что хотят, то и делают», – и поневоле начинает сомневаться: «Вот она где, значит, настоящая сила, вот она где всегда сидела; стань богат, и всё твоё, и всё можешь». Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой. А она носится и проницает всё мало-помалу. Народ же ничем не защищён от таких идей, никаким просвещением, ни малейшей проповедью других противоположных идей. По всей России протянулось теперь почти двадцать тысяч вёрст железных дорог, и везде, даже самый последний чиновник на них, стоит пропагатором этой идеи, смотрит так, как бы имеющий беззаветную власть над вами и над судьбой вашей, над семьёй вашей и над честью вашей, только бы вы попались к нему на железную дорогу. Недавно один начальник станции вытащил, собственною властью и рукой, из вагона, ехавшую даму, чтобы отдать её какому-то господину, который пожаловался этому начальнику, что это жена его и находится от него в бегах, – и это без суда, без всякого подозрения, что он сделать это не вправе: ясно, что этот начальник, если был и не в бреду, то всё же как бы ошалел от собственного могущества. Все эти случаи и примеры прорываются в народ беспрерывным соблазном, он видит их каждый день и выводит неотразимые заключения. Я прежде осуждал было г-на Суворина за случай его с г-ном Голубевым. Мне казалось, что нельзя же так вывести совсем неповинного человека на позор, да ещё с описанием всех душевных его движений. Но теперь я несколько изменил свой взгляд даже и на этот случай. И какое мне дело, что г-н Голубев не виноват! Г-н Голубев может быть чист, как слеза, но зато Воробьёв виноват. Кто такой Воробьёв? Совершенно не знаю; да и уверен, что его нет вовсе, но это тот самый Воробьёв, который свирепствует на всех линиях, который налагает произвольные таксы, который силой выносит пассажиров из вагона, который крушит поезда, который гноит по целым месяцам товары на станциях, который беспардонно вредит целым городам, губерниям, царству и только кричит диким голосом: «Прочь с дороги, я иду!» Но главная вина этого пагубного пришельца в том, что он стал над народом как соблазн и развратительная идея. А впрочем, что ж я так на Воробьёва, один ли он стал как развратительная идея? Повторяю, что-то носится в воздухе полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что и прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесятерилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование. В Петербурге, две-три недели тому, молоденький паренёк, извозчик, вряд ли даже совершеннолетний, вёз ночью старика и старуху и, заметив, что старик без сознания пьян, вынул перочинный ножичек и стал резать старуху. Их захватили, и дурачок тут же повинился: «Не знаю, как и случилось и как ножичек очутился в руках». И вправду, действительно не знал. Вот тут так именно среда. Его захватило и затянуло, как в машину, в современный зуд разврата, в современное направление народное; – даровая нажива, ну, как не попробовать, хоть перочинным ножичком.
«Нет, в наше время не до пропаганды покровительства животным: это барская затея» – вот эту самую фразу я слышал, но глубоко её отвергаю. Не будучи сам членом Общества, я готов, однако, служить ему, и, кажется, уже служу. Не знаю, выразил ли я хоть сколько-нибудь ясно желание моё о том «равновесии действий Общества с временными случайностями», о которых написал выше; но, понимая человеческую и очеловечивающую цель Общества, всё же ему глубоко предан. Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованны, очеловечены и счастливы. Я знаю и верую твёрдо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, ещё скорее, может быть, чем где бы то ни было, ибо у нас и теперь никто не захочет стать за идею о необходимости озверения одной части людей для благосостояния другой части, изображающей собою цивилизацию, как это везде во всей Европе. У нас же добровольно, самим верхним сословием, с царскою волею во главе, разрушено крепостное право! И потому, ещё раз, приветствую Общество покровительства животным от горячего сердца; а хотел я лишь только высказать мысль, что желалось бы действовать не всё с конца, а хоть отчасти бы и с начала.
Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти
Но вот, однако же, я исписал всю бумагу, и нет места, а я хотел было поговорить о войне, о наших окраинах; хотелось поговорить о литературе, о декабристах и ещё на пятнадцать тем по крайней мере. Вижу, что надобно писать теснее и сжиматься, – указание впредь. Кстати, словечко о декабристах, чтобы не забыть: извещая о недавней смерти одного из них, в наших журналах отозвались, что это, кажется, один из самых последних декабристов; – это не совсем точно. Из декабристов живы ещё Иван Александрович Анненков, тот самый, первоначальную историю которого перековеркал покойный Александр Дюма-отец, в известном романе своём «Les Mémoires d’un maitre d’armes». Жив Матвей Иванович Муравьёв-Апостол, родной брат казнённого. Живы Свистунов и Назимов; может быть, есть и ещё в живых.
Одним словом – многое приходится отложить до февральского номера. Но заключить настоящий январский дневник мне хотелось бы чем-нибудь повеселее. Есть одна такая смешная тема, и, главное, она в моде: это – черти, тема о чертях, о спиритизме. В самом деле, что-то происходит удивительное: пишут мне, например, что молодой человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате, – и это в Петербурге, в столице! Да почему же прежде никто не скакал, поджав ноги, в креслах, а все служили и скромно получали чины свои? Уверяют, что у одной дамы, где-то в губернии, в её доме столько чертей, что и половины их нет столько даже в хижине дядей Эдди. Да у нас ли не найдётся чертей! Гоголь пишет в Москву с того света утвердительно, что это черти. Я читал письмо, слог его. Убеждает не вызывать чертей, не вертеть столов, не связываться: «Не дразните чертей, не якшайтесь, грех дразнить чертей… Если ночью тебя начнёт мучить нервическая бессонница, не злись, а молись, это черти; крести рубашку, твори молитву». Подымаются голоса пастырей, и те даже самой науке советуют не связываться с волшебством, не исследовать «волшебство сие». Коли заговорили даже пастыри, значит, дело разрастается не на шутку. Но вся беда в том: черти ли это? Вот бы составившейся в Петербурге ревизионной над спиритизмом комиссии решить этот вопрос! Потому что если решат окончательно, что это не черти, а так, какое-нибудь там электричество, какой-нибудь новый вид мировой силы, – то мигом наступит полное разочарование: «Вот, скажут, невидальщина, какая скука!» – и тотчас же все забросят и забудут спиритизм, а займутся по-прежнему делом. Но чтобы исследовать: черти ли это? нужно чтобы хоть кто-нибудь из учёных составившейся комиссии был в силах и имел возможность допустить существование чертей, хотя бы только в предположении. Но вряд ли между ними найдётся хоть один, в чёрта верующий, несмотря даже на то, что ужасно много людей, не верующих в Бога, верят, однако же, чёрту с удовольствием и готовностью. А потому комиссия в этом вопросе некомпетентна. Вся беда моя в том, что я и сам никак не могу поверить в чертей, так что даже и жаль, потому что я выдумал одну самую ясную и удивительную теорию спиритизма, но основанную единственно на существовании чертей; без них вся теория моя уничтожается сама собой. Вот эту-то теорию я и намерен, в завершение, сообщить читателю. Дело в том, что я защищаю чертей: на этот раз на них нападают безвинно и считают их дураками. Не беспокойтесь, они своё дело знают; это-то я и хочу доказать.
Во-первых, пишут, что духи глупы (то есть черти, нечистая сила: какие же тут могут быть другие духи, кроме чертей?), – что когда их зовут и спрашивают (столоверчением), то они отвечают всё пустячки, не знают грамматики, не сообщили ни одной новой мысли, ни одного открытия. Так судить – чрезвычайная ошибка. Ну что вышло бы, например, если б черти сразу показали своё могущество и подавили бы человека открытиями? Вдруг бы, например, открыли электрический телеграф (т. е. в случае, если б он ещё не был открыт), сообщили бы человеку разные секреты: «Рой там-то – найдёшь клад или найдёшь залежи каменного угля» (а кстати, дрова так дороги), – да что, это ещё всё пустяки! – Вы, конечно, понимаете, что наука человеческая ещё в младенчестве, почти только что начинает дело и если есть за ней что-либо обеспеченное, так это покамест лишь то, что она твёрдо стала на ноги; и вот вдруг посыпался бы ряд открытий вроде таких, что Солнце стоит, а Земля вокруг него обращается (потому что наверно есть ещё много таких же точно, по размерам, открытий, которые теперь ещё не открыты, да и не снятся мудрецам нашим); вдруг бы все знания так и свалились на человечество и, главное, совершенно даром, в виде подарка? Я спрашиваю: что бы тогда сталось с людьми? О, конечно, сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человека, как мечтают наши русские социалисты, – словом, ешь, пей и наслаждайся. «Вот, – закричали бы все филантропы, – теперь, когда человек обеспечен, вот теперь только он проявит себя! Нет уж более материальных лишений, нет более заедающей „среды“, бывшей причиною всех пороков, и теперь человек станет прекрасным и праведным! Нет уже более беспрерывного труда, чтобы как-нибудь прокормиться, и теперь все займутся высшим, глубокими мыслями, всеобщими явлениями. Теперь, теперь только настала высшая жизнь!» И какие, может, умные и хорошие люди это закричали бы в один голос и, может быть, всех увлекли бы за собою с новинки, и завопили бы, наконец, в общем гимне: «Кто подобен зверю сему? Хвала ему, он сводит нам огонь с небеси!»
Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них всё украл разом; что исчез человеческий лик, и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что он стал скотиной. И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за «камни, обращённые в хлебы». Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку и что счастье не в счастье, а лишь в его достижении. Настанет скука и тоска: всё сделано и нечего более делать, всё известно и нечего более узнавать. Самоубийцы явятся толпами, а не так, как теперь, по углам; люди будут сходиться массами, схватываясь за руки и истребляя себя все вдруг, тысячами, каким-нибудь новым способом, открытым ими вместе со всеми открытиями. И тогда, может быть, и возопиют остальные к Богу: «Прав ты, Господи, не единым хлебом жив человек!» Тогда восстанут на чертей и бросят волхвование… О, никогда Бог не послал бы такой муки человечеству! И провалится царство чертей! Нет, черти такой важной политической ошибки не сделают. Политики они глубокие и идут к цели самым тонким и здравым путём (опять-таки, если в самом деле тут черти!).
Идея их царства – раздор, то есть на раздоре они хотят основать его. Для чего же им раздор именно тут понадобился? А как же: взять уже то, что раздор страшная сила и сам по себе; раздор, после долгой усобицы, доводит людей до нелепости, до затмения и извращения ума и чувств. В раздоре обидчик, сознав, что он обидел, не идёт мириться с обиженным, а говорит: «Я обидел его, стало быть, я должен ему отомстить». Но главное в том, что черти превосходно знают всемирную историю и особенно помнят про всё, что на раздоре было основано. Им известно, например, что если стоят секты Европы, оторвавшиеся от католичества, и держатся до сих пор как религии, то единственно потому, что из-за них пролита была в своё время кровь. Кончилось бы, например, католичество, и непременно затем разрушились бы и протестантские секты: против чего же бы им осталось тогда протестовать? Они уж и теперь почти все наклонны перейти в какую-нибудь там «гуманность» или даже просто в атеизм, что в них, впрочем, уже давно замечалось, и если всё ещё лепятся как религии, то потому, что ещё до сих пор протестуют. Они ещё прошлого года протестовали, да ещё как: до самого папы добирались.
О, разумеется, черти в конце концов возьмут своё и раздавят человека «камнями, обращёнными в хлебы», как муху: это их главнейшая цель; но они решатся на это не иначе, как обеспечив заранее будущее царство своё от бунта человеческого и тем придав ему долговечность. Но как же усмирить человека? Разумеется: «divide et impera» (разъедини противника и восторжествуешь). А для того надобен раздор. С другой стороны, люди соскучатся от камней, обращённых в хлебы, а потому надо приискать им занятие, чтоб не скучали. А раздор ли не занятие для людей!
Теперь проследите, как черти у нас вводят раздор и, так сказать, с первого шагу начинают у нас спиритизм с раздора. Как раз этому способствует наше мечущееся время. Вот уже сколько у нас обидели людей из поверивших спиритизму. На них кричат и над ними смеются за то, что они верят столам, как будто они сделали или замыслили что-либо бесчестное, но те продолжают упорно исследовать своё дело, несмотря на раздор. Да и как им перестать исследовать: черти начинают с краю, возбуждают любопытство, но сбивают, а не разъясняют, путают и явно смеются в глаза. Умный и достойный всякого постороннего уважения человек стоит, хмурит лоб и долго добивается: «Что же это такое?» Наконец махает рукой и уже готов отойти, но в публике хохот пуще, и дело расширяется так, что адепт поневоле остаётся из самолюбия.
Перед нами ревизионная над спиритизмом комиссия во всеоружии науки. Ожидание в публике, и что же: черти и не думают сопротивляться, напротив, как раз постыднейшим образом пасуют: сеансы не удаются, обман и фокусы явно выходят наружу. Раздаётся злобный хохот со всех сторон; комиссия удаляется с презрительными взглядами, адепты спиритизма погружаются в стыд, чувство мести закрадывается в сердца обеих сторон. И вот, кажется бы, погибать чертям, так вот нет же. Чуть отвернутся учёные и строгие люди, они мигом и покажут опять какую-нибудь штучку посверхъестественнее своим прежним адептам, и вот те опять уверены пуще прежнего. Опять соблазн, опять раздор! В Париже, прошлым летом, судили одного фотографа за спиритские плутни; он вызывал покойников и снимал с них фотографии; заказов получал пропасть. Но его накрыли, и на суде он во всём сознался, даже представил и ту даму, которая помогала ему и представляла вызванные тени. Что же вы думаете, те, которых обманул фотограф, поверили? Ничуть; один из них, говорят, сказал так: «У меня умерло трое детей, а портретов их не осталось; и вот фотограф мне снял с них карточки, все похожи, я всех узнал. Какое мне теперь дело, что он сознался вам в плутовстве? На то у него свой расчёт, а у меня в руках факт, и оставьте меня в покое». Это было в газетах; не знаю, так ли я передал подробности, но сущность верна. Ну что, например, если у нас произойдёт такое событие: только что учёная комиссия, кончив дело и обличив жалкие фокусы, отвернётся, как черти схватят кого-нибудь из упорнейших членов её, ну хоть самого г-на Менделеева, обличившего спиритизм на публичных лекциях, и вдруг разом уловят его в свои сети, как уловили в своё время Крукса и Олькота, – отведут его в сторонку, подымут его на пять минут на воздух, оматериализуют ему знакомых покойников, и всё в таком виде, что уже нельзя усомниться, – ну, что тогда произойдёт? Как истинный учёный, он должен будет признать совершившийся факт – и это он, читавший лекции! Какая картина, какой стыд, скандал, какие крики и вопли негодования! Это, конечно, лишь шутка, и я уверен, что с г-ном Менделеевым ничего подобного не случится, хотя в Англии и в Америке черти поступали, кажется, точь-в-точь по этому плану. Ну, а что, если черти, приготовив поле и уже достаточно насадив раздор, вдруг захотят безмерно расширить действие и перейдут уже к настоящему, к серьёзному? Это народ насмешливый и неожиданный, и от них станется. Ну что, например, если они вдруг прорвутся в народ, ну хоть вместе с грамотностью? А народ наш так незащищён, так предан мраку и разврату, и так мало, кажется, у него в этом смысле руководителей! Он может поверить новым явлениям со страстью (верит же он Иванам Филипповичам), и тогда – какая остановка в духовном развитии его, какая порча и как надолго! Какое идольское поклонение материализму и какой раздор, раздор: в сто, в тысячу раз больше прежнего, а того-то и надо чертям. А раздор несомненно начнётся, особенно если спиритизм добьётся стеснения, преследования (а оно может даже неминуемо последовать от остального же народа, не уверовавшего спиритизму) – тогда он мигом разольётся, как зажжённый керосин, и всё запылает. Мистические идеи любят преследование, они им созидаются. Каждая такая преследуемая мысль подобна тому самому петролею, которым обливали полы и стены Тюльери зажигатели перед пожаром и который, в своё время, лишь усилит пожар в охраняемом здании. О, черти знают силу запрещённого верования, и, может быть, они уже много веков ждали человечество, когда оно споткнётся о столы! Ими, конечно, управляет какой-нибудь огромный нечистый дух, страшной силы и поумнее Мефистофеля, прославившего Гёте, по уверению Якова Петровича Полонского.
Без всякого сомнения, я шутил и смеялся с первого до последнего слова, но вот что, однако, хотелось бы мне выразить в заключение: если взглянуть на спиритизм как на нечто, несущее в себе как бы новую веру (а почти все, даже самые трезвые из спиритов наклонны капельку к такому взгляду), то кое-что из вышеизложенного могло бы быть принято и не в шутку. А потому дай Бог поскорей успеха свободному исследованию с обеих сторон; только это одно и поможет как можно скорее искоренить распространяющийся скверный дух, а может быть, и обогатит науку новым открытием. А кричать друг на друга, позорить и изгонять друг друга за спиритизм из общества – это, по-моему, значит лишь укреплять и распространять идею спиритизма в самом дурном её смысле. Это начало нетерпимости и преследования. Чертям того и надо!
Одно слово по поводу моей биографии
На днях мне показали мою биографию, помещённую в «Русском энциклопедическом словаре», издаваемом профессором С.-Петербургского университета И. Н. Березиным (год второй, выпуск V, тетрадь 2-я. 1875 г.) и составленную г-ном В. З. Трудно представить, чтоб на одной полстранице можно было наделать столько ошибок. Я родился не в 1818-м году, а в 1822-м. Покойный брат мой, Михаил Михайлович, издатель журналов «Время» и «Эпоха», был моим старшим братом, а не младшим четырьмя годами. После срока моей каторги, в которую я сослан был в 1849-м году как государственный преступник (о характере преступления ни слова не упомянуто у г-на В. З., а сказано лишь, что «замешан был в дело Петрашевского», то есть в Бог знает какое, потому что никто не обязан знать и помнить про дело Петрашевского, а «Энциклопедический словарь» назначается для всеобщих справок, и могут подумать, что я сослан был за грабёж); после каторги я прямо, по воле покойного государя, поступил в рядовые и через три года службы был произведён в офицеры; водворён же на поселении (поселён) в Сибири, как рассказывает г-н В. З., я никогда не был.
Порядок сочинений моих перемешан: повести, принадлежащие к самому первому периоду моей литературной деятельности, отнесены в биографии как к последнему. Таких ошибок множество, и я их не перечисляю, чтоб не утомить читателя, в случае же вызова все укажу. Но есть уже чистые выдумки. Г-н В. З. уверяет, что я был редактором газеты «Русский мир»; объявляю на это, что редактором газеты «Русский мир» я никогда не бывал, мало того, не напечатал в этом уважаемом издании никогда ни единой строки. Бесспорно, г-н В. З. (г-н Владимир Зотов?) может иметь свою точку зрения и считать самым последним делом, в биографическом сведении о писателе, верное указание на то, когда он родился, какие именно испытал приключения, где, когда и в каком порядке печатал свои произведения, какие труды его считать первоначальными, а какие заключительными, какие издания издавал, какие редактировал и в каких был только сотрудником; тем не менее, хоть для аккуратности, желалось бы побольше толку. Не то, пожалуй, читатели подумают, что и все статьи в словаре г-на Березина составлены так же неряшливо.
Одна турецкая пословица
Кстати и на всякий случай, вверну здесь одну турецкую пословицу (настоящую турецкую, не сочинённую): «Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдёшь до цели».
По возможности буду следовать в «Дневнике» моём этой премудрой пословице, хотя, впрочем, и не желал бы связывать себя заранее обещаниями.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.