Текст книги "Сила и правда России. Дневник писателя"
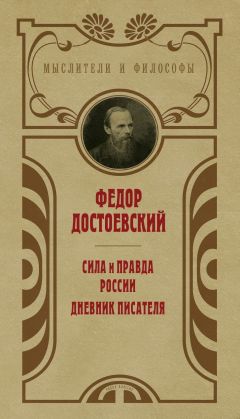
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 46 (всего у книги 49 страниц)
Дневник писателя. 1881
Январь
Финансы. Гражданин, оскорблённый в Ферсите. Увенчание снизу и музыканты. Говорильня и говоруны
Господи, неужели и я, после трёх лет молчания, выступлю, в возобновлённом «Дневнике» моём, со статьей экономической? Неужели и я экономист, финансист? Никогда таковыми не был. Несмотря даже на теперешнее поветрие, не заразился экономизмом, и вот туда же за всеми выступаю со статьей экономической. А что теперь поветрие на экономизм – в том нет сомнения. Теперь все экономисты. Всякий начинающийся журнал смотрит экономистом и в смысле этом рекомендуется. Да и как не быть экономистом, кто может теперь не быть экономистом: падение рубля, дефицит! Этот всеобщий экономический вид появился у нас наиболее в последние годы, после нашей турецкой кампании. О, и прежде у нас рассуждали много о финансах, но во время войны и после войны все бросились в финансы по преимуществу, – и опять-таки, конечно, всё это произошло натурально: рубль упал, займы на военные расходы и проч. Но тут, кроме собственно рубля, была и отместка, да и теперь продолжается, именно за войну отместка: «Мы, дескать, говорили, мы предрекали». Особенно пустились в экономизм те, которые говорили тогда, в семьдесят шестом и седьмом годах, что денежки лучше великодушия, что Восточный вопрос одно баловство и фикция, что не только подъёма духа народного нет, не только война не народна и не национальна, но, в сущности, и народа-то нет, а есть и пребывает по-прежнему всё та же косная масса, немая и глухая, устроенная к платежу податей и к содержанию интеллигенции; масса, которая если и даёт по церквам гроши, то потому лишь, что священник и начальство велят. Все русские Ферситы (а их много развелось в интеллигенции нашей) были тогда страшно оскорблены в своих лучших чувствах. Гражданин в Ферсите был оскорблён. Вот и начали они мстить, попрекая финансами. Мало-помалу примкнули к ним уже и не Ферситы, даже бывшие «герои» примкнули. Все понемногу надулись, некоторые, впрочем, очень. Правда, и мир невыгодный поспособствовал, берлинская конференция. (NB. Кстати об этой берлинской конференции: меня тогда одна баба в глуши, в захолустье, на просёлочной дороге, хозяйка постоялого дворика, вдруг спрашивает: «Батюшка, скажи ты мне, как нас там за границей-то теперь порешили, не слыхать ли чего?» Подивился я тогда на эту бабу. Но об этом, то есть о тогдашнем подъёме духа народного, потом.) Я только хочу теперь сказать, что о рубле и о дефиците все теперь пишут, и, уж конечно, тут отчасти и стадность: все пишут, все тревожатся, так как же и мне не тревожиться, подумают, что не гражданин, не интересуюсь. Впрочем, есть кое-где и настоящая гражданская тревога, есть боль, есть болезненные сомнения за будущее, – не хочу душой кривить. Но, однако же, хоть и истинные гражданские боли, а почти везде всё на тему: зачем-де у нас всё это не так, как в Европе? «В Европе-де везде хорош талер, а у нас рубль дурён. Так как же это мы не Европа, так зачем же это мы не Европа?» Умные люди разрешили наконец вопрос, почему мы не Европа и почему у нас не так, как в Европе: «Потому-де, что не увенчано здание». Вот и начали все кричать об увенчании здания, забыв, что и здания-то ещё никакого не выведено, что и венчать-то, стало быть, совсем нечего, что вместо здания всего только несколько белых жилетов, вообразивших, что они уже здание, и что увенчание, если уж и начать его, гораздо пригоднее начать прямо снизу, с армяка и лаптя, а не с белого жилета. Тут сделаем необходимую оговорку: увенчание снизу на первый взгляд, конечно, нелепость, хотя бы лишь в архитектурном смысле, и противоречит всему, что было и есть в этом роде в Европе. Но так как у нас всё своеобразно, всё не так, как в Европе, а иногда так совсем наоборот, то и в таком важном деле, как увенчание здания, дело это может произойти наоборот Европе, к удивлению и негодованию наших русских европейских умов. Ибо, к удивлению Европы, наш низ, наш армяк и лапоть, есть в самом деле в своём роде уже здание, – не фундамент только, а именно здание, – хотя и незавершённое, но твёрдое и незыблемое, веками выведенное, и действительно, взаправду всю настоящую истинную идею, хотя ещё и не вполне развитую, нашего будущего уже архитектурно законченного здания в себе одном предчувствующее. Впрочем, все эти возгласы европейцев наших об увенчании, если уж всю правду сказать, имеют характер, именно как и сказали мы выше, более стадный и механически-успокоительный, чем рассудочный и действительно гражданский, нравственно-гражданский. И потому так набросились все на это новое утешение, что все эти внешние, именно механически-успокоительные утешения всегда легки и приятны и чрезвычайно сподручны: «Нужна-де только европейская формула, и всё как раз спасено; приложить её, взять из готового сундука, и тотчас же Россия станет Европой, а рубль талером». Главное, что приятно в этих механических успокоениях – это то, что думать совсем не надо, а страдать и смущаться и подавно. Я про стадо говорю, я праведников не трогаю. Праведники везде есть, даже и из европейцев русских, и я их чту. Но согласитесь, что у нас, в большинстве случаев, всё это как-то танцуя происходит.
Чего думать, чего голову ломать, ещё заболит; взять готовое у чужих – и тотчас начнётся музыка, согласный концерт —
Мы верно уж поладим,
Коль рядом сядем.
Ну, а что коль вы в музыканты-то ещё не годитесь, и это в огромнейшем, в колоссальнейшем большинстве, господа? А что коль из белых жилетов выйдет лишь одна говорильня? А что коли колоссальнейшее большинство белых-то жилетов в увенчанное здание и вовсе бы пускать не надо (на первый случай, конечно), если уж так случится когда-нибудь, что оно будет увенчано? То есть их бы и можно пустить и должно, потому что всё ж они русские люди (а многие так и люди хорошие), если б только они, со всей землёй, захотели смиренно, в ином общем великом деле, свой совет сказать. Но ведь не захотят они свой совет вместе с землёй сказать, возгордятся над нею. До сих пор, целых два столетия, были особо, а тут вдруг и соединятся! Это ведь не водевиль, это требует истории и культуры, а культуры у нас нет и не было. Посмотрите, вникните в азарт иного европейского русского человека и притом иной раз самого невиннейшего и любезного по личному своему характеру, посмотрите, вникните, с каким нелепым, ядовитым и преступным, доходящим до пены у рта, до клеветы азартом препирается он за свои заветные идеи, и именно за те, которые в высшей степени не похожи на склад русского народного миросозерцания, на священнейшие чаяния и верования народные! Ведь такому барину, такому белоручке, чтоб соединиться с землёю, воняющею зипуном и лаптем, – чем надо поступиться, какими святейшими для него книжками и европейскими убеждениями? Не поступится он, ибо брезглив к народу и высокомерен к земле русской уже невольно. «Мы, дескать, только одни и можем совет сказать, – скажут они, – а те, остальные (то есть вся-то земля), пусть и тем довольны будут пока, что мы, образуя их, будем их постепенно возносить до себя и научим народ его правам и обязанностям». (Это они-то собираются поучать народ его правам и, главное, – обязанностям! Ах, шалуны!) «Русское общество не может-де пребывать в уездной кутузке вместе с оборванным народом, одетым в национальные лапти». Так ведь, выходя с таким настроением, можно (и даже неминуемо) дойти опять до закрепощения народного, зипуна-то и лаптя, хотя и не прежним крепостным путём, так интеллигентной опекой и её политическими последствиями, —
А народ опять скуём!
Ну и, разумеется, кончат тем, что заведут для них у себя говорильню. Заведут, да и сами себя и друг друга, с первого же шагу, не поймут и не узнают, – и это наверно случится так. Будут лишь в темноте друг о друга стукаться лбами. Не обижайтесь, господа: это и не с таким обществом, целых два века оторванным от всякого дела и не имеющим никакой самобытной культуры, как ваше, случалось, когда доходила до него очередь в первый раз свой совет сказать, это и с культурнейшими народами случалось. Но так как те всё-таки за собой имели вековую культуру и, что прежде всего, всегда более или менее на народ опирались, то и оправлялись скоро, и выступали на дорогу твёрдую, конечно, тоже не без предварительных шишек на лбу. Ну, а вы, наши европейцы, на что обопрётесь, чем сладитесь? – тем только, что рядом сядете. А сколько, сколько расплодилось у нас теперь говорунов? Точно в самом деле готовятся. Сядет перед вами иной передовой и поучающий господин и начнёт говорить: ни концов, ни начал, всё сбито и сверчено в клубок. Часа полтора говорит и, главное, ведь так сладко и гладко, точно птица поёт. Спрашиваешь себя, что он: умный или иной какой? – и не можешь решить. Каждое слово, казалось бы, понятно и ясно, а в целом ничего-то не разберёшь. Курицу ль впредь яйца учат, или курица будет по-прежнему на яйцах сидеть, – ничего этого не разберёшь, видишь только, что красноречивая курица, вместо яиц, дичь несёт. Глаза выпучишь под конец, в голове дурман.
Это тип новый, недавно народившийся; художественная литература его ещё не затрагивала. Много чего не затронула ещё наша художественная литература из современного и текущего, много совсем проглядела и страшно отстала. Всё больше типами сороковых годов пробиваются, много что пятидесятых. Даже и в исторический-то роман, может, потому ударилась, что смысл текущего потеряла.
Возможно ль у нас спрашивать европейских финансов?
А что же финансы? Что ж финансовая-то статья? – скажут мне. Но опять-таки: какой я экономист, какой финансист? Да и не смею я вовсе писать о финансах. Почему же осмелился-то и собираюсь писать? А вот именно потому, что уверен, что, начав о финансах, перееду совсем на другое, и выйдет у меня не финансовая, а совсем иная какая-нибудь статья. Вот этим только я и ободрён. Ибо и недостоин я вовсе писать о финансах, так как сам знаю, что смотрю на наши финансы совсем не с европейской точки и не верую даже, что её можно к нам приложить – и именно потому, что мы вовсе не Европа и что всё у нас до того особливо что мы, в сравнении с Европой, почти как на луне сидим. В Европе, например, рабское, феодальное отношение низших сословий к высшим уничтожалось веками и, наконец-то, раздалась революция; всё, одним словом, совершилось культурно и исторически. У нас же крепостное право рушилось в один миг со всеми последствиями, и, слава Богу, без малейшей революции. И вот, казалось бы, откудова быть потрясению, то есть капитальному, очень большому? Правда и то: всё, что вдруг падает, падает всегда очень опасно, то есть с большим потрясением. Не я, разумеется, пожалею, что вдруг упало. Страшно хорошо, напротив, что весь этот мерзостный исторический грех наш упразднился разом по великому слову освободителя. Тем не менее закон природы нельзя миновать, и потрясение вышло большое. Пусть бы большое, но почему столь великое? Разумеется, на всё законы истории, и уж, без сомнения, есть весьма многие, которые и теперь ясно различают, почему всё так вышло. Но, не развивая эту тему дальше – (велика она и огромна, историку будущего века разве только по силам) – не прибавляя больше ни слова, укажу лишь на иные частности, что прежде всего бросаются в глаза и смущают. Вот, например, посмотрите: рухнуло крепостное право, мешавшее всему, даже правильному развитию земледелия, – и вот тут-то бы, кажется, и зацвести мужику, тут-то бы, кажется, и разбогатеть ему. Ничуть не бывало: в земледелии мужик съехал прямо на минимум того, что может ему дать земля. И, главное, в том беда, что ещё неизвестно: найдётся ли даже и впредь такая сила (и в чём именно она заключается), чтоб мужик решился возвыситься над минимумом, который даёт ему теперь земля, и попросить у ней максимума. Скажут умники: вопрос пустой и уже всем понятный, но я твёрдо уверен, что ещё далеко не разрешённый и несравненно огромнейший, несравненно более захватывающий в себе содержания, чем предполагают его. Затем посмотрите опять: всё прежнее барское землевладение упало и понизилось до жалкого уровня, а вместе с тем видимо началось перерождение всего бывшего владельческого сословия в нечто иное, чем прежде, в народ, в интеллигентный народ – ибо во что же, казалось бы, переродиться ему? Вот бы и прекрасно и уж лучше, кажется, нельзя бы и быть, ибо страшно нужна народу интеллигенция, предводящая его, сам он жаждет и ищет её. Но, к сожалению, и это у нас пока ещё в идеале и представляется лишь прелестным журавлём, летающим в небе; в действительности же далеко не так. Захочет ли сословие и прежний помещик стать интеллигентным народом? – вот вопрос, и, знаете ли: самый важный, самый капитальный, какой только есть у нас теперь и от которого зависит, может быть, всё наше будущее! А между тем вопрос этот далеко ещё не решён, и даже представить нельзя, каким путём разрешится. Не захочет ли, напротив, сословие опять возгордиться и стать опять над народом властью силы, уж конечно, не прежним крепостным путём, но не захочет ли, например, оно, вместо единения с народом, из самого образования своего создать новую властную и разъединительную силу и стать над народом аристократией интеллигенции, его опекающей. Захочет ли оно искренно признать народ своим братом по крови и духу, впредь навсегда, почтит ли оно то, что чтит народ наш, согласится ли возлюбить то, что возлюбил народ даже более самого себя. А ведь без этого никогда и никто не сойдётся с нашим народом, ибо то, что он чтит и любит, у него крепко, и он не поступится им ни для какой интеллигенции, как бы ни жаждал её сам. Всё это у нас страшно насущно и страшно не решено. И вообще у нас всё теперь в вопросах. И, что главное, всё ведь это требует времени, истории, культуры, поколений, а у нас, напротив того, предстоит разрешить в один миг. В том-то и главная наша разница с Европой, что не историческим, не культурным ходом дела у нас столь многое происходит, а вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз даже никем до того неожиданным предписанием начальства. Конечно, всё произошло и идёт не по вине чьей-нибудь, и, уж если хотите, так даже и исторически, но согласитесь и с тем, что такой истории не знала Европа. Как же спрашивать с нас Европы, да ещё с европейской системой финансов? Я, например, верю как в экономическую аксиому, что не железнодорожники, не промышленники, не миллионеры, не банки, не жиды обладают землёю, а прежде всех лишь одни земледельцы; что кто обрабатывает землю, тот и ведёт всё за собою, и что земледельцы и суть государство, ядро его, сердцевина. А так ли у нас, не навыворот ли в настоящую минуту, где наше ядро и в ком? Не железнодорожник ли и жид владеют экономическими силами нашими? Вот у нас строятся железные дороги и, опять факт, как ни у кого: Европа чуть не полвека покрывалась своей сетью железных дорог, да ещё при своём-то богатстве. А у нас последние пятнадцать-шестнадцать тысяч вёрст железных дорог в десять лет выстроились, да ещё при нашей-то нищете и в такое потрясённое экономически время, сейчас после уничтожения крепостного права! И, уже конечно, все капиталы перетянули к себе именно тогда, когда земля их жаждала наиболее.
На разрушенное землевладение и создались железные дороги. А разрешён ли у нас до сих пор вопрос о единичном, частном землевладении? Уживётся ли впредь оно рядом с мужичьим, с определённой рабочей силой, но здоровой и твёрдой, а не на пролетарьяте и кабаке основанной? А ведь без здравого разрешения такого вопроса что же здравого выйдет? Нам именно здравые решения необходимы, – до тех пор не будет спокойствия, а ведь только спокойствие есть источник всякой великой силы. Как же спрашивать у нас теперь европейских бюджетов и правильных финансов? Тут уж не в том вопрос, почему у нас нет европейской экономии и хороших финансов, а вопрос лишь в том: как ещё мы устояли? Опять-таки крепкой, единительной, всенародной силой устояли.
А спокойствия у нас мало, спокойствия духовного особенно, то есть самого главного, ибо без духовного спокойствия никакого не будет. На это особенно не обращают внимания, а добиваются только временной, материальной глади. Спокойствия в умах нет, и это во всех слоях, спокойствия в убеждениях наших, во взглядах наших, в нервах наших, в аппетитах наших. Труда и сознания, что лишь трудом «спасён будеши», – нет даже вовсе. Чувства долга нет, да и откуда ему завестись: культуры полтора века не было правильной, пожалуй, что и никакой. «К чему я стану трудиться, коли я самой культурой моей доведён до того, что всё, что кругом меня, отрицаю? А если и есть колпаки, которые думают спасти здание какими-то европейскими измышлениями, – то я и колпаков отрицаю, а верю лишь в то, что чем хуже, тем лучше, и вот вся моя философия». Уверяю вас, что у нас теперь это очень многие говорят, про себя по крайней мере, а иные так и вслух. И, однако, говорящий такие афоризмы человек сам-то ведь из костей и плоти. «Чем хуже, тем лучше, – говорит он, – но это ведь только для других, для всех, а самому-то мне пусть будет как можно лучше», – вот ведь как он разумеет свою философию. Аппетит же у него волчий. Мужчина с медведя, а нервы у него женские, расстроенные, избалованные; жесток и сластолюбив, ничего перенесть не может, «да и к чему-де утруждать себя и переносить?». Пресеклись обеды в ресторане, пресеклись кокотки, так для чего же и жить, – бац и пулю в лоб. Ещё хорошо, если себе пулю в лоб, а то ведь пойдёт да другого обокрадёт, законно-юридическим образом. А ход-то дела не ждёт, бедность нарастает всеобщая. Вон купцы повсеместно жалуются, что никто ничего не покупает. Фабрики сокращают производство до минимума. Войдите в магазин и спросите, как дело идет: «Прежде, – скажут вам, – к празднику человек по крайней мере полдюжины рубах себе купит, а теперь всё по одной берёт». Спросите даже в ресторанах модных – так как это последнее место, где бедность появляется. «Нет, – скажут вам, – уж теперь не кутят по-прежнему, все прижались, много что придёт и обыкновенный обед спросит» – и это ведь прежний щёголь, бонбансник. Выкупные прожили. Теперь ещё всё-таки валят последние леса, а повалят – и ничего уж не будет. А какие уж теперь леса? Поедете по железной дороге, заметьте у станций дрова: прежде всё-таки бревна рубили, а теперь совсем не редкость встретить какие-то тоненькие палочки вместо дров, – не дерево, а кусты уж рубят, подросточки. Вам, конечно, наблюдение это покажется мелочью ввиду прочих громадных вопросов нашего времени. Но ведь про леса наши финансисты решительно игнорируют, точно и не хотят знать, как будто даже по какому-то принципу. А без лесов ведь и финансы понизятся в страшном размере, если всё-то сообразить и в самую глубь войти. Но в лесном вопросе все как будто слово дали себе лишь скользить по поверхности, пока не пришла беда. Она придёт вдруг, ибо все пока успокоены тем, что цена лесу на рынке всё ещё стоит подходящая, и знать не хотят, что она, так сказать, искусственная, от усиленного предложения тех, которые валят леса и кусты даже, потому что уже всё прожили. Повалят, и вдруг ничего не окажется, нечего будет предложить. Но об этом потом. Я ведь начал речь о повсеместной нищете и, обратном ей, развитии аппетитов.
Я хочу только, между прочим, заметить, что страшно развелось много капитанов Копейкиных, в бесчисленных видоизменениях, начиная с настоящих, до великосветских и раздушенных. И всё-то на казну и на общественное достояние зубы точат. Разумеется, все они быстро превратятся у нас если не в разбойников на больших дорогах, как было с настоящим Копейкиным, то в карманных промышленников, иные в дозволенных, а иные так и прикрывать себя юридически не станут. Иной даже гордо скажет: «Я потому таков, что всё отрицаю и отрицанию способствую». О, разве нет Копейкиных-либералов? Они слишком поняли, что в моде либерализм и что на нём можно выехать. Кто их не видывал: либерал всесветный, атеист дешёвый, над народом величается своим просвещением в пятак цены! Он самое пошлое из всех пошлых проявлений нашего лжелиберализма, но всё-таки у него неутолимо развит аппетит, а потому он опасен. Вот такие-то первые и примыкают прежде всего ко всякой идее о пересадках извне для механического врачевания, группируются и составляют толпу, которую ведут весьма часто весьма честные люди, в сущности не виноватые в том, что у них такой контингент: «Пусть всякая перемена, только чтоб без труда и готовая, – говорит либеральный Копейкин, – всё-таки лучше мне будет с внешней-то переменой, с какой бы там ни было, чем теперь, потому что наверное найду, чем поживиться на первых порах», – так ведь с этой стороны он очень опасен, хотя всего только Копейкин. Но оставим Копейкина. Всё сказанное теперь ещё только самый малый краюшек на тему о том, что у нас нет спокойствия. Сам вижу, что предисловие моё вышло слишком уж длинно. Но к финансам, к финансам!
Забыть текущее ради оздоровления корней. По неуменью впадаю в нечто духовное
По свойству натуры моей начну с конца, а не с начала, разом выставлю всю мою мысль. Никогда-то я не умел писать постепенно, подходить подходами и выставлять идею лишь тогда, когда уже успею её всю разжевать предварительно и доказать по возможности. Терпения не хватало, характер препятствовал, чем я, конечно, вредил себе, потому что иной окончательный вывод, высказанный прямо, без подготовлений, без предварительных доказательств, способен иногда просто удивить и смутить, а пожалуй, так вызвать и смех, а у меня – я уже предчувствую – именно такой вывод, что над ним можно сразу рассмеяться, если не подготовить к нему читателя предварительно. Мысль моя, формула моя – следующая: «Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней – и получишь финансы».
Ну разумеется, тотчас же раздаётся смех: «Это-де все знают – скажут мне, – в вашей формуле нет ровно ничего неизвестного; кто ж не знает, что не надо истощать корней, что, засушив корни, плодов не получишь» и т. д. и т. д. Но, однако же, дайте оговориться, я ещё не всю мою мысль сказал, и, увы, в том-то и беда моя, что если б я даже целую книгу написал, развивая эту мысль мою, то и тогда (о, опять-таки предчувствую это) не сумел бы разъяснить её настолько, чтоб её можно было понять во всей полноте. Ибо в этой мысли заключается некий своего рода фатум.
Видите ли: об оздоровлении корней, конечно, все знают, и какой же наш министр финансов более или менее о них не заботился, а уж особенно министр нынешний: он прямо приступил к корням, и вот уже соляной налог уничтожен. Ожидаются и ещё реформы, и чрезвычайные, капитальные, именно «корневые». Кроме того, всегда, и прежде, и десять лет тому, употреблялись многие средства на оздоровление корней: назначались ревизии, устраивались комиссии для исследования благосостояния русского мужика, его промышленности, его судов, его самоуправления, его болезней, его нравов и обычаев, и проч., и проч. Комиссии выделяли из себя подкомиссии на собрание статистических сведений, и дело шло как по маслу, то есть самым лучшим административным путём, какой только может быть. Но я вовсе, вовсе не про то говорить теперь начал. Мало того, не только подкомиссии, но даже и такие капитальные реформы, как отмена соляного налога или ожидаемая великая реформа податной системы, – по-моему, суть лишь одни пальятивы, нечто внешнее и не с самого корня начатое, – вот что я хочу выставить. С самого корня будет то, когда мы, если не совсем, то хоть наполовину забудем о текущем, о злобе дня сего, о вопиющих нуждах нашего бюджета, о долгах по заграничным займам, о дефиците, о рубле, о банкротстве даже, которого, впрочем, никогда у нас и не будет, как ни пророчат его нам злорадно заграничные друзья наши. Одним словом, когда обо всём, обо всём текущем позабудем и обратим внимание лишь на одно оздоровление корней, и это до тех пор, пока получим действительно обильный и здоровый плод. Ну, тогда можно будет и опять въехать в текущее или, лучше сказать, уже в новое текущее, потому что в этот антракт, надо думать, что прежнее (то есть современное, теперешнее наше текущее) изменится всё радикально и преобразит свой характер до того, что мы сами его не узнаем. И что же: я, разумеется, понимаю, что всё, что я сказал сейчас, покажется диким, что не думать о рубле, о платежах по займам, о банкротстве, о войске нельзя, что это надо удовлетворить и удовлетворять и, по-видимому, прежде всего. Но уверяю же вас, что и я понимаю это. Видите, я вам признаюсь: я нарочно поставил мою мысль ребром и желания мои довёл до идеала почти невозможного. Я думал, что именно начав с абсурда и стану понятнее. Я и сказал: «Что если б мы хоть наполовину только смогли заставить себя забыть про текущее и направили наше внимание на нечто совсем другое, в некую глубь, в которую, по правде, доселе никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности?» Но я сейчас же готов смягчить мою формулу, и вот что вместо неё предложу: не наполовину забыть о текущем – от половины я отказываюсь, – а всего бы только на одну двадцатую долю, но с тем (непременно с тем), чтобы, начав с двадцатой доли забвения текущего, в каждый следующий год прибавлять к прежней доле ещё по одной двадцатой и дойти – ну, дойти, например, таким образом, до трёх четвертей забвения. Важна тут не доля, а важен тут принцип, который взять, поставить перед собой и затем уже следовать ему неуклонно. О, на это всё тот же вопрос: куда ж девать текущее-то, – не похерить же его как несуществующее? Я и не говорю: похерить; знаю сам, что существующее, нельзя сделать несуществующим, – но знаете, господа, иногда и можно. Ведь если только перестать лишь на одну двадцатую долю ежегодно удостоивать его столь болезненно тревожного внимания, как теперь, а обратить это болезненно тревожное внимание, в размере тоже одной двадцатой доли ежегодно, на нечто другое, то дело-то представится почти что и не фантастическим, а совсем даже возможным к начатию, тем более что о текущем (повторяю это), пренебрегаемом на одну двадцатую долю ежегодно, уже по тому одному нечего беспокоиться, что оно всё не утратится, вовсе не похерится, а, повторяю это, оно само собою преобразится в нечто совсем иное, чем теперь, само подчинится новому принципу и войдёт в смысл и дух его, преобразится непременно к лучшему, к самому даже лучшему. Мне скажут, что я говорю загадками, и, однако же, это ничуть. Для примера и на первый случай закину лишь одно только самое маленькое предисловное словцо на тему о том, каким образом можно сразу начать переход от текущего к «оздоровлению корней».
Ну что, если б, например, Петербург согласился вдруг, каким-нибудь чудом, сбавить своего высокомерия во взгляде своём на Россию, – о, каким бы славным и здоровым первым шагом послужило бы это к «оздоровлению корней»! Ибо что же Петербург, – он ведь дошёл до того, что решительно считает себя всей Россией, и это от поколения к поколению идёт нарастая. В этом смысле Петербург как бы следует примеру Парижа, несмотря на то, что на Париж совсем не похож! Париж уж так сам собою устроился исторически, что поглотил всю Францию, всё значение её политической и социальной жизни, весь смысл её, и отнимите Париж у Франции – что при ней останется: одно географическое определение её. И вот у нас воображают иные почти так же, как в Париже, что в Петербурге слилась вся Россия. Но Петербург совсем не Россия. Для огромного большинства русского народа Петербург имеет значение лишь тем, что в нём его царь живёт. Между тем, и это мы знаем, петербургская интеллигенция наша, от поколения к поколению, всё менее и менее начинает понимать Россию, именно потому, что, замкнувшись от неё в своём чухонском болоте, всё более и более изменяет свой взгляд на неё, который у иных сузился, наконец, до размеров микроскопических, до размеров какого-нибудь Карлсруэ. Но выгляните из Петербурга, и вам предстанет море-океан земли русской, море необъятное и глубочайшее. И вот сын петербургских отцов самым спокойным образом отрицает море народа русского и принимает его за нечто косное и бессознательное, в духовном отношении ничтожное и в высшей степени ретроградное. «Велика-де Федора, да дура, годится лишь нас содержать, чтобы мы её уму-разуму обучили и порядку государственному». Танцуя и лоща паркеты, создаются в Петербурге будущие сыны отечества, а «чернорабочие крысы», как называл их Иван Александрович Хлестаков, изучают отечество в канцеляриях и, разумеется, чему-то научаются, но не России, а совсем иному, подчас очень странному. Это что-то иное и странное России и навязывают. А между тем море-океан живёт своеобразно, с каждым поколением всё более и более духовно отделяясь от Петербурга. И не говорите, что живёт он хотя мощною жизнью, но ещё бессознательною, как уверены до сих пор не только петербуржцы, но даже и понимающие Россию иные немногие русские люди. О, если б знали, как это неверно, и уже сколько сознания накопилось в народе русском, например, хотя бы только в теперешнее царствование! Да, сознание уже растёт, растёт, и уже столь многое народом понято и осмыслено, что петербургские люди и не поверили бы. Это видится тем, которые видеть умеют, это предчувствуется и только ещё не обнаруживается в целом, хотя сильно обнаруживается по местам, по углам, по домам и по избам. Где же обнаружиться ещё в целом – ведь это океан, океан! Но если когда обнаружится или только начнёт обнаруживаться, то в какое внезапное удивление повергнет оно петербургского интеллигентного человека! Правда, долго он будет отрицать и не верить своим пяти чувствам, долго не сдастся европейский человечек, – иные так и умрут, не сдавшись. Но, чтобы избегнуть великих и грядущих недоразумений, о, как бы желательно было, повторяю это, чтобы Петербург, хотя бы в лучших-то представителях своих, сбавил хоть капельку своего высокомерия во взгляде своём на Россию! Проникновения бы капельку больше, понимания, смирения перед великой землёй русской, перед морем-океаном, – вот бы чего надо. И каким бы верным первым шагом послужило это к «оздоровлению корней»…
– Но позвольте, – прервут меня, – всё это пока лишь только старые, истрёпанные славянофильские бредни, совсем даже не реальное, а какое-то даже духовное; но что такое «оздоровление корней», – вы ещё это не разъяснили. И что за корни? Какие корни? Что вы под этим разумеете?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































