Текст книги "Воспоминания кавказского офицера"
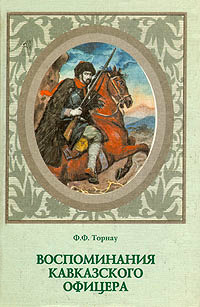
Автор книги: Федор Торнау
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
В конце января генерал *** уехал с Кубани в отпуск. Карамурзин тотчас воспользовался этим обстоятельством, для того чтобы завести с Аслан-Гиреем переговоры насчет моего освобождения. Он принялся убеждать его в выгоде примириться с русскими, выдав меня добровольно, и говорил, что за это он может получить, в виде награды, своих крестьян и все чего теперь напрасно требует как выкупа. Пока генерал *** находился на Кубани, Аслан-Гирей не хотел и слышать о подобных вещах, опасаясь, что ему воздадут обманом за обман; но после отъезда его, надеясь вести дело прямо с главным кавказским начальником, бароном Розеном, через меня и Карамурзина, склонился на предложение, сделанное ему сим последним. Прежде всего Карамурзину надо было переговорить со мною и, если я сочту дело возможным, взять от меня письмо к главнокомандующему. Для этого он приехал в наш аул с хаджи Джансеидом и имамом Хази. Тамбиев, боявшийся всех и всего, когда дело шло обо мне, скрепя сердце, после многих уверений, ручательств и присяги в том, что меня не увезут, согласился разлучиться со мною на сутки, которые я должен был провести с Карамурзиным. Свидание с ним доставило мне первую радостную минуту в моем заточении. Душевная благодарность и непритворная дружба его тронули меня до глубины души. Мы обнялись как два брата и долго, ни он, ни я, не могли выговорить ни слова. Расставаясь в Тифлисе, он не воображал встретить меня в подобном положении; да и я никогда не полагал быть в нем. Впрочем, черкесы не любят оглядываться назад и жалеть о невозвратном прошедшем, в чем я с ними совершенно согласен. Не теряя времени и слов на пустое, бесполезное сожаление о том что со мною случилось, мы пообедали и потом принялись за дело. Хаджи Джансеид начал с объяснения обстоятельств завязки в моей драме. Зачинщиком всего дела был Тамбиев: он завлек в него Аслан-Гирея, а хаджи должен был идти за ними обоими. Генерал *** сделал в этом случае большую неосторожность: сначала он обещал возвратить кабардинцам задержанных крестьян, если они примирятся; потом объявил, что для этого надо сперва провести меня по берегу Черного моря. Недоверчивый Аслан-Гирей увидел в этой необдуманной случайности подготовленный обман, который должен был опутать его и отдать вполне в руки генералу ***. Теперь еще он был свободен оставаться у абадзехов или, покорившись русским, выселиться на Уруп, если исполнят его требование; проехав же со мною в горах, он не мог более жить между враждебными нам черкесами и должен был во всяком случае перейти на сторону русских, отдадут ли ему крестьян или нет. Первое движение Аслан-Гирея было отказаться от предложения генерала ***, но всегда покорный воле его, Тамбиев неожиданно восстал против его мнения и требовал настоятельно заманить меня в горы, схватить и поставить условием моего освобождения возвращение им всего имущества и крестьян, задержанных русскими. Недальновидный и столько же упрямый, Тамбиев не хотел отступиться от своей мысли и угрожал, если товарищи его не согласятся, разгласить у абадзехов их тайные сношения с русскими. Аслан-Гирей, имевший и без того слишком много врагов, видя себя поставленным между двух огней, должен был согласиться на план, составленный Тамбиевым, а однажды согласившись, принялся за исполнение его со всею свойственною ему хитростью. Теперь Тамбиев, видя, что его расчет не удался, казалось, был готов испытать способ, предложенный Карамурзиным к достижению его постоянной цели: добиться своих крестьян, задержанных в Кабарде. Я надеялся на справедливость и на доброжелательный характер барона Розена, имел, кроме того, сильных заступников в генерале Вольховском и бароне Ховене. Государь также требовал, чтобы для моего освобождения не жалели денег; поэтому для меня были готовы сделать многое, но без ущерба для значения русской силы и прав в глазах горцев. Те выгоды, которые могли быть им предоставлены, в виде награды, за мое добровольное освобождение с изъявлением их безусловной покорности русскому правительству, не должны были достаться кабардинцам как плод преступления, требовавшего строгого наказания. Понимая это слишком хорошо, я не роптал на бездействие наших властей и никогда не просил уступок в мою пользу, которые могли бы обратиться впоследствии ко вреду каждого русского, попавшегося, по несчастью, в плен к черкесам. Вельяминов был вообще недоволен всем ходом дела, говорил, что он меня никогда не отдал бы черкесам; но ничего не предпринимал для моего освобождения на первых порах, опасаясь довести требования горцев до невозможных размеров и продлить мой плен до бесконечности. Не упуская из вида цели, для которой я ехал в горы и из-за которой попался в плен, я предложил Джансеиду переселиться со мною на время к шапсугам и потом, как это случалось очень часто, проехать для размена на линию, избрав дорогу по берегу Черного моря. Эта мысль показалась ему весьма удобоисполнимою, и я упомянул о ней в письме к главнокомандующему, которое Тембулат должен был везти в Тифлис. Уезжая, он оставил мне табаку, полное черкесское платье и пару чувяк, за которые я ему был очень благодарен, не чувствуя себя в силах привыкнуть к отсутствию белья и зарождавшейся от этого нечистоте.
Тамбиев, не опасаясь более попыток со стороны генерала *** освободить меня силою или хитростью и зная, что я сам не убегу до получения ответа из Тифлиса, совершенно изменил мое положение, освободил меня от оков и почти ежедневно ходил со мною гулять в окрестностях аула или в гости к знакомым. В ауле не было абадзехов, а жили только около ста кабардинских семейств, которых домашний быт я имел время вполне изучить. Черкесский дворянин проводит жизнь на лошади, в воровских набегах, в делах с неприятелем или в разъездах по гостям. Дома у себя он проводит весь день лежа в кунахской, открытой для каждого прохожего, чистит оружие, поправляет конскую сбрую, а чаще всего ничего не делает. В эти минуты совершенного безделья он напевает песни, аккомпанируя их на пшиннере, или стругает палочку ножом, без всякой цели. Днем он видится очень редко с своим семейством и идет к жене только вечером. На ней лежит обязанность смотреть за хозяйством; она ткет с помощью женской прислуги сукно, холст и одевает детей и мужа с ног до головы. Рабы обрабатывают поле; их жены и дочери прислуживают в доме и ходят за скотиной. Если черкес имеет несколько жен, то каждая из них, занимая отдельное помещение, пользуется особым хозяйством и поочередно обязана готовить для мужа пищу, относимую к нему в кунахскую. Черкешенки отличаются замечательным искусством в женских работах; скорее изорвется материя, чем шов, сделанный их рукой; серебряный галун их работы неподражаем. Во всем, что они приготовляют, обнаруживается хороший вкус и отличное практическое приспособление. Черкесы высших классов пренебрегают учением; зато черкешенки учатся нередко читать и писать по-турецки, в состоянии разбирать Коран и часто ведут переписку за своих отцов и мужей. Замужних женщин никто не видит; они сидят дома, занимаются детьми и хозяйством и не выходят за двери без длинного белого покрывала, похожего на грузинскую чадру. Девушки, напротив того, показываются в мужском обществе с открытым лицом, и им позволено даже, в присутствии другой старой женщины, принимать в своей комнате чужого. Умение хорошо работать считается, после красоты, первым достоинством для девушки и лучшею приманкой для женихов. Черкесы чрезвычайно щекотливы насчет женской добродетели и мстят за оскорбление ее беспощадно. Девушки отвечают за свое поведение перед родителями, женщина перед мужем, а вдова не отвечает ни перед кем и обязана только не нарушать общественной стыдливости. Для девушки потеря невинности считается не преступлением, а несчастьем, поправляемым женитьбою или смертью соблазнителя, если он не может или не хочет жениться. Утрата чести вменяется замужней женщине в преступление, влекущее за собою смерть или рабство. Участника в подобном преступлении убивают. Вдова может жить как ей угодно, и никто не в праве мешаться в ее дела, когда приличие не было нарушено; она может даже надеяться выйти снова замуж, если она знатна, хороша или богата. Еще до моего плена я имел случай видеть на линии, чем кончаются у черкесов похождения с замужними женщинами.
Между множеством черкесов, ежедневно приезжавших в Прочный Окоп, мы все, русские, не могли довольно налюбоваться молодым Алчигиром, бесленеевским узденем, соединявшим с редкою красотою всегда веселый и беззаботный нрав. Нежные, женообразные черты его лица, на котором едва начинал пробиваться пушок над губою, и крайняя молодость – ему было не более восемнадцати лет – нисколько не мешали ему слыть у черкесов молодцом, славным наездником и отчасти повесою. Генерал *** очень полюбил его и часто возил с собою на минеральные воды, где наш ловкий и красивый горец привлекал внимание приезжих дам, глядевших не без удовольствия на его чудные черты, прекрасный рост и стройную, маленькую ножку, составляющую одно из отличительных качеств красоты черкеса. На Кубани жил в то время против Невинномысской станицы молодой ногайский князь Н*…, про жену которого носился слух, будто она не уступала в красоте знаменитой Гуаше-фудже, жене Адел-Гирея; но никто не мог похвалиться тем, что ее видел, хотя бы мельком: с такою ревностью муж скрывал ее от посторонних взоров. Рассказы о ней воспламенили воображение Алчигира, и он объявил нам однажды, что решился удостовериться в ее красоте собственными глазами, как бы ее ни сторожили. Дело это у черкесов нелегкое, и мы советовали ему не навлекать на себя опасности без нужды и прока; но Алчигир не послушал доброго совета. Несколько времени спустя он приехал в Прочный Окоп совершенно изменившись: прежняя веселость его исчезла, он сидел задумавшись по целым часам, рассеянно отвечал на наши вопросы и никак не хотел высказать, что его заботило. Потом он пропадал несколько месяцев, не подавая о себе слуха, так что стали опасаться, не бежал ли он в горы с целью сделаться абреком. В одно утро Алчигир неожиданно прискакал в крепость, соскочил с измученной лошади и, не дожидаясь, пока о нем доложат, ворвался прямо к генералу ***. Бледное лицо его выражало глубокое отчаяние. Первые минуты он мог только выговорить: “Спаси ее, спаси меня!” Генерал *** успокоил его и приказал рассказать всю правду. Как можно было догадаться, дело шло о княгине Н…; Алчигир совершил проделку, какая может родиться только в голове восемнадцатилетнего черкеса, совершенно отуманенного страстью.
Разными уловками он добился случая увидать тайком жену князя Н* и с первого раза страстно в нее влюбился. Он стал бродить около аула, успел обратить на себя ее внимание и через подкупленную служанку начал домогаться свидания. На это не предвиделось никакой возможности, и красавица, которой сердце также было затронуто, просила его отказаться от своего желания. Муж не выпускал ее из виду; когда он уезжал по делам из дому, его мать проводила с нею весь день и ночевала в ее комнате. Для того чтобы ее видеть, следовало удалить мужа, не дав ему времени отдать ее под надзор матери. Дело нелегкое, но Алчигир нашелся. Для того чтобы свидеться с женою, он заставил мужа в буквальном смысле прогуляться. У редкого мирного черкеса, ногайца или иного горца не лежало на совести против русского закона какого-нибудь тайного грешка, заставлявшего его иногда с беспокойством следить за тем, что делалось и говорилось на нашей стороне. Алчигир узнал, по-видимому, что-то в этом роде насчет князя Н*, и решился обратить это в свою пользу. Подобрав в товарищи подобного себе смельчака, он поехал с ним ночью к аулу своей возлюбленной, сам спрятался за плетнем, а его послал разбудить мужа и увести его в поле под тем предлогом, что Алчигир имеет будто бы сообщить ему, под покровом ночи, очень важную тайну, касающуюся до него. Вся хитрость состояла в том, чтобы водить его по оврагам и балкам, отыскивая Алчигира, пока тот будет у его жены, и потом привести на назначенное место, где они должны были действительно встретиться. Сначала дело ладилось как нельзя лучше. Молодой черкес, товарищ Алчигира, постучал в ставню к князю и, когда тот выглянул, передал ему поручение с просьбою никого не будить, для того чтобы скрыть от всех ночную поездку, ибо малейшая нескромность, особенно со стороны женщин, могла повредить не только ему, но и у Алчигира отнять возможность узнавать, что делается у русских. Н* имел, видно, сильную причину бояться генерала ***, у которого Алчигир бывал так часто; потому тотчас принял приглашение, сам тихонько оседлал лошадь, находящуюся у черкеса всегда под рукою, и поехал узнавать новости с русской стороны. Что Алчигир приехал не сам, а ожидал его ночью в стороне от аула, в этом не было ничего необыкновенного, так как в то время русские и черкесы прибегали ко всякого рода предосторожностям, чтобы скрывать друг от друга свои действия.
Князь не успел отъехать от своего дома десяти шагов, как Алчигир прокрался в спальню и занял его место.
Ночь была очень темна. Молодой черкес, провожавший князя Н*, скоро сбился с дороги и никак не мог найти места, на котором оставил Алчигира. Это так редко случается с черкесами, что ненаходчивость провожатого могла действительно показаться весьма подозрительною; ревнивая мысль мелькнула в уме мужа, в первый раз покинувшего жену без надзора; он, не говоря ни слова, бросил своего проводника и опрометью поскакал домой.
Скок лошади коснулся до слуха любовников, когда Алчигиру уже поздно было бежать. Верная смерть ожидала обоих. В эту страшную минуту черкешенка не потерялась: громким голосом она стала звать мужа на помощь. Услыхав отчаянный крик жены, князь потерял совершенно голову. Вместо того чтобы стать перед дверьми и созвать людей для поимки вора, который бы в этом случае никуда не мог уйти, он соскочил с лошади и бросился в неосвещенную комнату с пистолетом в руке. Тут он был опрокинут сильным толчком, пистолет разрядился в потолок, а незнакомый человек между тем выскочил из дверей и скрылся в темноте. В руках князя остался кинжал, который он нечаянно успел сорвать у беглеца. На выстрел сбежались люди со всех концов аула, дело нельзя было скрыть; поднялась невыразимая суматоха. Зажгли свечи. Взбешенный муж грозил тут же убить жену, если она не скажет всей правды и не назовет ему, кто у нее был. Она клялась, что человек, к ней ворвавшийся, был ей совершенно незнаком, в лицо она его не видала, потому что было темно, а голос его слышала в первый раз в жизни. Самое происшествие она рассказывала следующим образом, умоляя притом мужа и народ позволить ей перед шариатом доказать свою невиновность. Она говорила, что муж покинул ее, не сказав, куда и надолго ли он отлучается, даже не разбудил ее вполне, и не приказал запереть двери изнутри. Это была правда. Потом она заснула, не помнит, долго ли спала, и не знает, как отворились двери. Почувствовав возле себя кого-то, она была уверена, что это муж, но скоро заметила, что имеет дело с чужим, стала с ним бороться и звать мужа на помощь, не зная, куда он девался. К счастью, он поспел вовремя, и она, чистая и невинная, предает свою судьбу на волю правосудного Аллаха. Муж отказывался верить и продолжал грозить смертью. Тогда народ, между которым женщины кричали громче всего, принял сторону княгини, доказывая, что сам муж виноват, покинув ее без защиты, что какой-нибудь вор, карауливший украсть лошадь или другую скотину, видя, как он уехал, легко мог на нее польститься, что для обвинения ее в неверности не имеется ясных доказательств, что их надо разлучить и дело предать на суд шариата. Перед этим требованием князь Н* должен был смягчить свой гнев. Тут же его обязали присягой не покушаться на жизнь жены, отвели ее в дом к матери и положили созвать эфендиев для решения дела.
Между тем Алчигир скакал в Прочный Окоп, где единственно мог надеяться на помощь, если она была возможна.
Прежде чем муллы собрались для суда, генерал *** успел через верных людей склонить их ни в каком случае не признавать княгиню виновною и не находить достаточных улик против ночного посетителя. Судьи на Востоке понимают свою обязанность не хуже европейских и знают, что никакого дела нельзя рассматривать с точки зрения абсолютной правды, для которой люди даже не созданы, а надо принимать в соображение господствующие обстоятельства, которыми в то время управлял генерал ***; они торжественно признали невинность подсудимой княгини и сложили всю вину на неизвестного человека, покусившегося силой на ее честь, которого и следовало наказать, если он будет отыскан. Одного высокостепенные эфендии не могли устранить: кинжал, оставшийся в руках князя, дагестанской работы и весьма замечательной оправы, был признан принадлежащим Алчигиру; некоторые свидетели указывали даже, от кого из русских он его получил в подарок. Алчигира потребовали к ответу, и обвинители его стали в тупик, а эфендии очень обрадовались, когда он явился, имея на поясе своем весьма многим знакомый кинжал. Сравнили оба кинжала и нашли их неимоверно сходными. Таким образом, и эта улика совершенно утратила свое значение: видно, кто-то другой имел такой же кинжал. Кроме того, Алчигир объявил, что он в ночь происшествия, ожидая князя Н* в овраге, заметил свежую сакму (след), из любопытства поехал по ней и неожиданно наткнулся на четырех молодых абреков, выжидавших удобного случая переправиться через Кубань, что эти абреки продержали его несколько часов и отпустили только перед утром, когда трое товарищей их приехали сказать, что теперь переправа невозможна, и что после этого он поскакал к генералу *** дать известие о их намерении. Он назвал абреков по имени. Действительно, два дня спустя названные им абреки были встречены казаками в наших пределах, четверо из них убиты, а трое спаслись бегством. Один из эфендиев поехал к абадзехам допросить абреков под присягою и привез полное подтверждение Алчигировых показаний. Алчигир имел везде добрых друзей, готовых выручить его из беды. Обиженный муж понял, откуда дует ветер, и что ему не по силам бороться с покровителями его соперника. Затаив чувство мщения в глубине сердца, он, казалось, с удовольствием принял решение шариата, и до того убедился в невинности жены и в непричастности к делу Алчигира, что жену оставил при себе, оказывал ей прежнее расположение, а с Алчигиром свел тесную дружбу. Но Алчигиру, знавшему за собою вину, было с ним как-то неловко; он избегал оставаться с ним наедине, и при каждом свидании, при каждой поездке их непременно случался кто-нибудь из Алчигировых приятелей. Таким образом протекло около года, и дело стали забывать; муж казался совершенно беззаботным; недоверчивость Алчигира почти исчезла.
Однажды оба они возвращались из Прочного Окопа за Кубань; с ними было человек двадцать знакомых им черкесов. Светлый, прекрасный день и бесконечная, гладкая равнина так и манили джигитовать. Черкесы, находясь в веселом расположении духа, не могут ехать спокойным шагом, без джигитовки. Провожавшие их молодые люди начали выказывать один перед другим свое удальство в скачке и в стрельбе из ружей. Князь Н* предложил Алчигиру испытать, кто из них ловчее попадет на всем скаку в шапку, брошенную на землю. В этом не предвиделось никакой опасности, потому что пули были уже выпущены, и князь зарядил при всех свое ружье холостым зарядом, как это делается, когда стреляют в шапку. Алчигир выскакал первый, бросил свою шапку на землю и стал возле нее, чтобы судить о выстреле. Дав промах, принятый с громким смехом, князь Н* сделал то же самое для Алчигира, который так ловко попал в шапку, что она на несколько шагов отлетела в сторону. Тогда он попросил Алчигира бросить опять свою шапку, надеясь в этот раз иметь более удачи. Поравнявшись с ним, он сначала опустил дуло ружья к земле, будто намерен стрелять в шапку, потом поднял его и спустил курок, крикнув: “В шапку даю иногда промах, а в грудь врага никогда!” Алчигир, не вздохнув, упал мертвый с лошади: две пули пробили ему сердце. Прежде чем черкесы успели опомниться, убийца, имевший под собою отличную лошадь, умчался от них далеко. Они погнались за ним, скакали без отдыха верст тридцать, настигнув, убили лошадь ружейным выстрелом и схватили его живого, когда он с нею покатился на землю. Это случилось на русской стороне, на правом берегу Кубани; поэтому они не посмели его убить, а привезли связанного в Прочный Окоп. Оттуда его отправили в ставропольскую тюрьму. На дороге, говорят, он сделал попытку бежать, причем один из конвойных казаков убил его из ружья. Так кончился характеристический эпизод черкесской семейной жизни.
Наступил рамазан, магометанский пост, в продолжение которого правоверные ничего не едят от утренней зари до вечерней звезды, беспрестанно творят намаз, спят, слушают Коран и всю ночь пируют. Для рамазана и для байрама, которым кончается пост, черкес приберегает что у него есть лучшего из съестных припасов, считая совершенным несчастьем не иметь на это время мяса для себя и для гостей, делающих ему честь посещением его кунахской. Аслан-бек Тамбиев жил в крайней бедности и очень часто нуждался в хлебе для своего семейства. Все его богатство состояло тогда из двадцати полуимпериалов, доставшихся на его долю, когда меня ограбили. Каждый день он их пересматривал, считал и перетирал, не решаясь с ними расстаться. Наконец он объявил мне со вздохом, что на деньги хотя и хорошо смотреть, да нет в этом проку, и что бараны все-таки лучше; к тому же неприлично кабардинскому дворянину не иметь для рамазана куска мяса на своем столе. Дня три он пропадал после этого вместе с Бечиром и вернулся в аул со связкой холщового товара, в котором его дом очень нуждался. Жену его, Кочениссу, я видал только издали, всегда укутанную самым приличным образом; зато его сынок и дочь, хорошенькая Коченагу, являлись ко мне в одних дырявых рубашках греться около огня. Бечир торжественно гнал перед собою двух буйволиц и штук двадцать баранов. В течение всего рамазана мы кормились мясом, которого я не видал в продолжение четырех месяцев, кроме случаев, когда приезжали Аслан-Гирей и Карамурзин.
У более зажиточных кабардинцев почти каждый вечер народ собирался слушать Коран, читаемый муллою по-арабски и переводимый потом, с пояснениями, на черкесский язык. Сидя около стены, вокруг кунахской, черкесы с благоговением слушали чтение; некоторые из них позволяли себе иногда делать мулле вопросы насчет непонятных для них изречений. Тамбиеву доставляло, как я заметил, особенное удовольствие, когда я соглашался с ним посещать эти сходбища. Обыкновенно, когда я появлялся, мне уступали место возле самого почетного человека, князя Магомета Атажукина, временно гостившего в ауле. Это был абрек, о котором я уже упомянул, вернувшийся из Константинополя, куда он ездил лечить раненую руку, в чем успел до такой степени, что мог стрелять из ружья и колоть шашкой, только не рубить. Его называли поэтому Магомет-аша, то есть сухорукий. Мы были одних лет, он чисто говорил по-русски, очень меня полюбил и поэтому с охотою переводил для меня все, что сказывал мулла, позволявший себе иногда пояснения не совсем сходные со смыслом текста. Вот один из подобных случаев, в который я сам дерзнул вмешаться.
В главе о бегстве Магомета сказано, что гяуры принудили его спасаться из Мекки в Медину. Кто-то из присутствующих спросил: “Кто же были эти гяуры?” – “Кто? – отвечал мулла не запинаясь, – известно русские!” Все мусульмане обратили на меня взгляды, полные негодования. “А! – прошептали некоторые. – Видишь, русский, даже пророку вы были враги!” Тогда я попросил муллу просветить и меня и наставить на путь истины в деле, которое нехорошо понимаю. Я попросил Атажукина вынуть буссоль, которую богатые черкесы всегда имеют при себе, для того чтобы знать направление, куда обращаться лицом во время молитвы. По кабалару, как называют здесь магнитную стрелку, я просил мне указать, где находится гроб Магомета. Показали на юг. А где живут русские? Разумеется, указали в противоположную сторону. И всегда там жили? Черкесы переглянулись между собою в недоумении. “Кажется, всегда”, – отвечали некоторые из них. Тогда я попросил муллу наставить меня, какими непонятными путями русские, проживая на севере, успели выгнать Магомета из Мекки. Мулла нашелся. “Не поддавайтесь хитрым внушениям гяура! – сказал он черкесам с рассерженным видом. – Если бы даже не русские преследовали пророка, так это были их братья и сродники: все гяуры принадлежат к одной семье и одинаково ненавистны Аллаху, который терпит их на земле только в наказание за наши грехи”.
В конце марта наступил байрам. С раннего утра начали собираться в наш аул соседние кабардинцы и абадзехи для общей молитвы, после которой должен был сказать проповедь некий Дагестан-эфенди, имевший между горцами большую славу. Тамбиев очень хлопотал о том, чтобы я принарядился почище, что было не совсем легко, потому что он постоянно захватывал мое хорошее платье в пользу своих детей, которым из него выкраивали праздничные наряды, – на его исполинский рост и широкие плечи оно не приходилось, – и пригласил меня сопутствовать ему на молитву. Собрание происходило на большой поляне, лежавшей в лесу, недалеко от аула. Более трех тысяч черкесов, образуя обширный полукруг, стояли там на снегу на коленях, с поникшими головами, и следили за молитвой, произносимою громким голосом тремя эфендиями в белых чалмах и такого же цвета длинных мантиях, накинутых на черкески. Водруженные перед ними палки с рукоятками в виде полумесяца означали ту сторону, в которой лежала Мекка. По окончании молитвы необыкновенно толстый Дагестан-эфенди звучным голосом прочитал главу из Корана и потом сказал проповедь, побуждавшую народ не дружиться и не сближаться с гяурами, а в особенности драться с русскими до последней капли крови. Понимая уже несколько по-черкесски, я мог заметить, что эфенди хорошо владел языком, хотя он, как видно из прозвища, родился у лезгин. Картины, изображавшие райские утехи правоверных, павших в бою с русскими, и адские муки, ожидавшие тех из них, которые им покорились, были столько приспособлены к понятиям и к характеру черкесов, что должны были сильно поразить их воображение.
За впечатлением, которое проповедник производил на слушателей, можно было следить по их выразительным лицам, быстро изменявшимся при каждом его слове. Исчисляя все грехи, принимаемые на душу черкесскими племенами, признавшими над собою силу русского закона, он заметил, что, по дошедшим до него слухам, они, – от чего да избавит Аллах каждого правоверного, чаящего вечной жизни, – даже едят свинину, без чего гяуры не стали бы им покровительствовать. Этого не вынесли черкесы. Они затрепетали от досады. Неистовые проклятия и крики омерзения: “Харам! Харам!” покрыли последние слова проповедника. Вполне довольный эффектом своей речи и необузданною ревностию слушателей, он благословил собрание, после чего все начали расходиться по домам.
Мой приятель, Магомет-аша, как его звали черкесы, пригласил нас к себе закусить. Чинно, по летам и по званию, на первом месте Дагестан-эфенди, расселись званые гости, а за ними вошли в кунахскую знакомые и незнакомые, кому было угодно, и остановились недалеко от дверей в ожидании угощения. Кунахская всегда открыта для каждого и тем более в байрам, когда черкес считает священным долгом разделить с бедняком свой последний кусок. Магомет был не беден. Мяса жареного и вареного, проса, молока, даже хлеба, приготовляемого в самых редких случаях, достало на всех. Запивали кушанье водой с распущенным медом и брагой из просяной муки, подаваемыми гостям в деревянных ковшах. Дагестан эфенди полюбопытствовал со мною познакомиться и долго разговаривал с приличною важностью. Потом он подозвал Тамбиева и, поглядывая на меня, завел с ним тихую речь. Атажукин рассказал мне позже содержание их разговора. Эфенди убеждал Аслан-бека не льститься на выкуп, а для спасения души стараться обратить меня в мусульманина, могущего сделаться впоследствии твердым оплотом веры и полезным руководителем горцев в войне с русскими. В нашем ауле был и другой мулла, не помню его имени, много хлопотавший переманить меня в исламизм, с тем чтоб я остался жить в горах и своим знанием помог черкесам защищаться от русских. Он просиживал со мною по целым часам, объясняя Коран и уговаривая меня на языке, составленном из черкесских, татарских и русских слов, который только разве я да он могли понимать. Из некоторых его намеков я имел повод думать, что в этом деле принимал тайное участие хаджи Джансеид, знавший обо мне много подробностей от Карамурзина. Обыкновенно в подобных случаях я заводил с муллой прения и, не оскорбляя его самолюбия и религиозных понятий, отводил разговор на посторонний предмет, так что он уходил от меня с чем пришел.
Между тем время уходило, а от Карамурзина я не получал никакого известия. Нечего было сомневаться в том, что дело не пошло на лад; но по какой именно причине, – я не мог добиться никаким образом. Тамбиев, в глупости своей, рассказывал мне разные басни с целью поддержать во мне надежду на скорое освобождение, потому что он крайне боялся довести меня до отчаяния, зная мою вспыльчивость. Не имея иногда чем кормить жену и детей, он в моем выкупе видел последнее средство поправить свое бедственное положение. Моя смерть или бегство угрожали ему окончательным разорением. Поэтому он ухаживал за мною, как мать за своим ребенком, когда надежды его на выкуп начинали возрастать, и подвергал меня самым нестерпимым мучениям, когда они исчезали, стараясь только не оскорблять моей гордости. И в этот раз Тамбиев не изменил своему обыкновенному правилу. После одной поездки он вернулся с нахмуренным лицом; меня сковали, и я пролежал опять около трех недель, не имея возможности тронуться с постели. Число моих караульных удвоили; сам Тамбиев вставал ночью по нескольку раз и с ружьем в руках осматривал окрестности дома. Он молчал, и я с ним не заговаривал. Раз только он проговорил, что я должен винить в том, что со мною делается, не его, а моих друзей, которые думают его обмануть, да что он не так глуп и не хочет верить ни Тембулату, ни Аслан-Гирею, ни Джансеиду.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































