Текст книги "Воспоминания кавказского офицера"
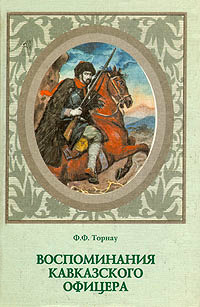
Автор книги: Федор Торнау
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
В конце февраля человек сто черкесов, между которыми был и Тамбиев, напали на двадцать донских казаков, ехавших с Чанлыка на Кубань, тринадцать из них убили, а семерых захватили в плен. Когда стали делить добычу, на долю Аслан-Бека достался молодой казак, которого он, по приезде в аул, поместил в одном доме с прикованным ногайцем. Русских пленных простого звания черкесы держат обыкновенно для работы, продают их далее в горы или, женив, обращают в потомственное рабство. Тамбиев, желавший сделать для себя работника из пленного казака, дозволял ему ходить свободно, очень ласкал его и хлопотал приискать для него невесту. Меня также вернули из лесу и поселили у одного абадзеха, занимавшегося пчеловодством. Дом его, окруженный ульями, стоял над оврагом, за которым лежало кладбище. Мой новый хозяин, страдая бессонницею, благодаря этому недугу стоил десяти караульных. Бессемейный, он проводил весь день возле пчел, а ночью редко засыпал и мне не давал спать. Только что-нибудь зашевелится на дворе, мой абадзех вскочит, растворит ставню и начинает натравливать своих злых собак на невидимого хищника. Крик его: “авлю! авлю!” беспрестанно ночью будил меня. Это обстоятельство имело для меня особенную важность, так как я решился в течение ожидаемого лета непременно спастись бегством и принял на себя личину совершенной покорности судьбе, даже некоторой робости, с целью усыпить надзор черкесов. Я успел в этом до некоторой степени, и Тамбиев совершенно уверился, что я никак не решусь подвергнуться случайностям одиночного путешествия по горам и лесам, без оружия, без знания местности и переправ через реки, между которыми быстрая и глубокая Сагуаша составляла для меня непреодолимое препятствие, потому что я не умел плавать, о чем Тамбиев знал очень хорошо. По этой причине он считал мой побег весною, в полноводье, совершенно несбыточным, и в это время предоставлял мне полную свободу. А именно в это время, для меня, не умеющего плавать, переправа через реки была не только возможна, но даже довольно удобна. Он не думал, что я, русский, знаком со всеми подробностями горной природы и сумею воспользоваться ими наравне с черкесом, а я всеми силами поддерживал в нем это заблуждение. В полноводье все значительные горные реки уносят с собою пни и даже целые деревья, носящие на Кавказе название карчей; весьма нетрудно было дождаться на берегу подобной карчи и на ней переплыть через реку, не подвергаясь опасности потонуть. Имея в голове одну только мысль уйти, я обрадовался как ребенок, увидав нашего пленного казака. В нем я находил товарища для бегства, который должен был помочь мне в переправах через реки, так как все донцы плавают отлично, а я бы заплатил ему за услугу, указывая дорогу, которой он не мог знать. В том, что я его уговорю бежать, не было никакого сомнения. Поэтому, не обнаруживая нисколько моих тайных мыслей, я продолжал вести самую беззаботную жизнь, заходил очень часто к Аслан-Коз, занимавшей один дом с своею овдовевшею теткой, а с казаком встречался редко и никогда не говорил без свидетелей, чтобы не подать подозрения.
Пишу не исповедь моих чувств и мыслей, а вспоминаю только действительные происшествия, факты, постепенно развивавшиеся в течение моего продолжительного плена; потому не касаюсь никаких обстоятельств, естественно порождающихся из ежедневной встречи нестарого мужчины с молодою, хорошенькою женщиной, где бы ни было: в щегольской гостиной или в черкесской хижине, – не касаюсь, не имея желания придавать нашим отношениям поэтическое значение. Припоминаю только доказательства чистого, безрасчетного участия, данные мне молодою черкесскою девушкой, так как они имели некоторое влияние на мое тогдашнее существование и выказывают с выгодной стороны характер и нравственные понятия лучшей половины народа, среди которого мне суждено было жить более двух лет. Про черкешенок можно сказать, что они вообще хороши, имеют замечательные способности, чрезвычайно страстны, но в то же время обладают необыкновенною силою воли. Аслан-Коз могла считаться между ними во всех отношениях счастливо одаренным существом. Чрезвычайно стройная, тонкая в талии, как бывают одни черкешенки, с нежными чертами лица, черными, несколько томными глазами и черными волосами, достававшими до колен, она везде была бы признана очень красивою женщиной. Притом она была добродушна и чрезвычайно понятлива. Никогда я не слыхал от нее бессмысленного вопроса или неуместного замечания на то, о чем я ей рассказывал. Неутолимое любопытство ее было исполнено наивности, но сквозь эту наивность всегда проглядывало много ума. Говоря о женщине, нельзя миновать нескольких слов об ее наряде. Черкесский женский костюм я нахожу чрезвычайно живописным. Поверх широких, к низу суженных шаровар, без которых не найдешь женщины на Востоке, носится длинная белая рубашка, разрезанная на груди, с широкими рукавами и небольшим стоячим воротником. Талия стягивается широким поясом с серебряною пряжкой. Сверх рубашки надевается яркого цвета шелковый бешмет, короче колена, с рукавами выше локтя, полуоткрытый на груди и украшенный продолговатыми серебряными застежками. Маленькие ножки затянуты в красные сафьянные чувяки, обшитые галуном. На голове круглая шапочка, обложенная серебряным галуном, повитая белою кисейною чалмой, с длинными концами, падающими за спину. Волосы распущены по плечам. Под рубашкою девушка носит так называемый пша-кафтан (девичий кафтан), который есть не что иное, как кожаный, холщовый или матерчатый корсет с шнуровкою спереди и двумя гибкими деревянными пластинками, сжимающими обе груди, так как у черкесов тонкая талия и неполная грудь составляют первые условия девичьей красоты. Этот пша-кафтан подал повод к басне о кожаном поясе, в который черкешенка зашивается будто бы с детства и который будто бы распарывается кинжалом, когда она выходит замуж. Черкесская девушка растет свободно, как я сам видел на Кучухуже и на других ее подругах, до двенадцати или четырнадцати лет, потом ей надевают пша-кафтан, переменяемый по мере того, как она растет и развивается. Помощью этого корсета ей дают неимоверно тонкую талию. При выходе замуж пша-кафтан, составляющий непременную принадлежность девушки, просто снимается, потому что женщины от него совершенно избавлены. Грузины, абазины и южные дагестанцы выдавали прежде двенадцатилетних девушек; черкесы, напротив того, если возможно, уберегают их от замужества лет до двадцати, отчего женщины у них сохраняются очень долго. Аслан-Коз имела в то время девятнадцать лет; как каждая другая черкешенка этого возраста, она не могла не знать своего назначения, но сердцем была невинна, как ребенок. Я встречался с нею часто, потому что она доставляла мне развлечение, которого я нигде и ни в чем не находил, и потому что любил ее душевно за искреннюю преданность ко мне. Воспользоваться посредством обмана ее красотою и молодостью мне и в голову не приходило; да и сама она не допустила бы до этого. Черкешенки очень целомудренны и, несмотря на предоставленную им свободу, редко впадают в ошибку. С ранней молодости все их мечты и желания направлены к одной цели: выйти замуж за бесстрашного воина и чистыми попасть в его объятия. Аслан-Коз была в этом отношении так щекотлива, что малейшее увлечение с моей стороны ее тотчас приводило в робость, и она меня отталкивала, говоря: “Харам! Станешь моим мужем, все будет твое, а теперь ничего не позволю!…” Надо заметить, что слова: “харам” (не чисто, запрещено) и “халил” (благо, душеспасительно) играют важную роль в черкесском быту и приводятся при каждом случае. Между тем она дозволяла себе кокетничать со мною самым наивным, иногда даже опасным образом, с видимою целью совершенно запутать меня в свои сети. По целым часам я сидел возле нее, пока она работала, и рассказывал ей, сколько умел по-черкесски, все, что у нас делается, как наши женщины воспитываются, живут и одеваются. Несмотря на мой ломаный язык, она все понимала легко и доказывала это своими умными вопросами. Очень ей нравилось, что мы, христиане, имеем только одну жену, ей верим и ее не запираем. Признавая это истинно правоверным правилом, она заметила, что в таком случае нашим женам нетрудно любить мужей и хранить им верность. Она принялась нешуточно учить меня черкесскому языку и магометанским молитвам; она умела, что у черкесов встречается не часто, читать и даже переводить Коран, а по-турецки писала не хуже другого эфенди. Случалось, сидя около меня, она принималась изгонять злого духа, затемнявшего мой разум, читая молитву и дуя мне на голову. Она не переставала объяснять мне согласно толкованию Корана, почему одна магометанская вера дает спасение, и в этом случае истощала все свое красноречие. Все религии от Бога, говорила она, все пророки от него и передавали людям только его заповеди. Сперва был послан Мусса (Моисей) просветить умы еврейского народа и подготовить своим законом приход Иссы (Иисуса), которого чистое, возвышенное учение, по причине его строгих правил, оказалось неудобоисполнимым для слабого человеческого рода, продолжавшего грешить через беспрестанное нарушение их. Тогда Аллах, в благости своей, послал Магомета смягчить закон Иссы, определив, что тот, кто не станет следовать этому последнему учению, не превышающему человеческих сил, будет осужден на веки веков. По этому поводу она уговаривала меня пожалеть свою душу, отказаться от житейских благ, ожидающих меня на русской стороне, и удостоиться вечных радостей, посвятив себя Корану и бедной жизни в горах. На мои шуточные возражения она чаще всего сердилась; а иногда выражала горькое удивление, каким образом я, кажется, во всех других отношениях разумный человек, мог быть ослеплен шайтаном до такой степени, что не понимал истины, ясной как день.
В начале мая время мне показалось удобным для исполнения давно задуманного предприятия. Казак согласился с первых слов идти куда прикажу. Дом, в котором он ночевал, находился посреди аула, а я жил на краю его; шагов двести нас разделяло. Это обстоятельство не позволяло нам сойтись в ауле; надо было соединиться где-нибудь в лесу, поджидая один другого на месте свидания, что представляло первое немалое затруднение, так как ночью нетрудно было сбиться с дороги. Кладбище находилось на таком видном месте, что его, казалось, нельзя было миновать в самую темную ночь, а в то время светила полная луна; поэтому я назначил казаку пробраться к кладбищу около полуночи в условленную ночь и ждать меня до рассвета. Успев уйти прежде, я должен был в свою очередь его дожидаться. Но главное затруднение заключалось для нас в недостатке съестных припасов, без которых нельзя было надеяться дойти до линии, имея перед собою не менее шести или восьми суток пути; да, кроме того, я не имел обуви, а идти босому по лесу и по горам – на такой подвиг не решился бы ни один черкес. Где добыть припасов, где достать обувь? Вот вопросы, над которыми я напрасно ломал голову. От стола нельзя было спрятать ни крошки; у моего хозяина висело несколько сыров в трубе, и я не посовестился бы ими воспользоваться, да он имел дурную привычку считать их каждый вечер. Недосчитавшись сыров, он легко мог смекнуть, в чем дело, и помешать мне уйти. В моей беде я решился довериться Аслан-Коз и просить ее помочь мне, зная наверное, что она меня не выдаст, даже если мое бегство будет противно ее желанию. Признаюсь, я не знал сначала, как приступить к делу, несколько раз заговаривал о моем безнадежном положении, прекращал потом разговор и, наконец, видя, что должен объясниться или совершенно отказаться от моей мысли, собрался с духом сказать ей, что, потеряв надежду на выкуп, готов искать всеми путями своего освобождения и скорее погибнуть, чем оставаться еще в неволе. Аслан-Коз поняла меня с первых слов. На мгновение ее прекрасное лицо приняло выражение, какого я прежде никогда не видал; но она скоро оправилась и, взяв за руку, спросила, почему я прежде не пытался уйти, когда меня держала только сила, которой мужчина не должен бояться, а сердце всегда влекло на русскую сторону.
Я объяснил ей, что не сердце, а рассудок, привычка всей жизни внушают мне желание вернуться к своим, просил ее рассудить, могу ли я всегда оставаться бедным пленником, обязанным повиноваться каждому абадзеху, и указал на мою одежду, в которой мне даже совестно бывало показываться в ее глазах. Босой, в одних черкесских ноговицах, без исподнего платья, сверху прикрытый ситцевою клетчатою рубашкой и шубою без рукавов, я даже у черкесов не мог считать себя довольно прилично одетым для женского общества.
– Я тебе указала средство выйти из этого положения, – возразила она, – ты его отвергнул; не моя вина. Ты сам мне говорил, что у вас для счастья необходимы деньги, хорошее платье, большой дом. Здесь любят тебя без этого, как ты есть; здесь лучше, оставайся у нас!
– Нельзя, Аслан-Коз.
– Нельзя? Так иди, куда зовет сердце. Я тебя не выдам и даже готова помочь, если только могу.
Она сняла со стены небольшое зеркало, взглянула в него и сказала, улыбнувшись:
– Когда вижу себя в этом стекле, мне кажется, что я не хуже других; абадзехи говорят даже, будто я очень хороша; многие из них готовы дорого заплатить за счастье иметь меня женою; а ты ничего не хочешь ни знать, ни видеть, будто дочь Даура так мало стоит. Настанет и для тебя минута напрасного сожаления; тогда ты горько вспомнишь обо мне. В день светопреставления, когда Азраил станет звать на суд Аллаха живых и мертвых, когда для мусульман откроются двери рая, а гяуры будут низвергнуты в ад, тогда, увидав меня издали, ты напрасно станешь взывать с отчаянием Аслан-Коз: помоги! помоги! и как бы я ни желала тебе помочь, будет уже поздно. Опомнись, я предлагаю теперь все счастье, которое способно дать в этом мире, и вечное блаженство для будущей жизни.
Аслан-Коз взяла с меня обещание не уходить, не сказав ей.
Через несколько дней я сообщил ей беду, в какой нахожусь насчет съестных припасов и обуви; она обещала переговорить об этом с Марьей, имевшею в своем ведении кладовую, одной из Алим-Гиреевых жен, и помочь чем можно. Марья испугалась сначала моего предприятия, сама пришла меня отговаривать, боялась дурных последствий для себя, если узнают, что она помогала, но благодаря настойчивым убеждениям со стороны Аслан-Коз обещала молчать и снабдить меня сыром и несколькими связками сушеных груш. Аслан-Коз дала мне пару своих собственных дорожных чувяк и два тайком испеченных хлеба. Эти съестные припасы, равно как и обувь, я был принужден отдать на сбережение казаку, потому что в моей избе я не мог ничего спрятать. Мой чуткий и недоверчивый абадзех беспрестанно перерывал мою постель и пересматривал в избе каждый уголок. Тамбиев и Алим-Гирей собирались уехать куда-то на несколько дней; лучше нельзя было найти времени для побега, потому что в их отсутствие некому было устроить деятельной погони за мною. В следующую ночь я назначил казаку, по условию, быть на кладбище.
Труднее всего было для меня выйти из избы, не разбудив абадзеха и не подняв собак. Долго перед тем я приучал их не тревожиться, когда выходил на мгновение за двери. В ожидании решительной минуты я лежал на постели одетый, прислушиваясь, заснул ли абадзех и что делается в ауле. Лай собак известил бы меня непременно о побеге казака, но все было тихо. Предпочитая спастись прежде него и дожидать его на кладбище, чтоб он, пожалуй, соскучившись ожидать или с испуга, если сделается тревога, не ушел без меня, я до полуночи еще вышел тихонько из избы, медленно подошел к плетню, обгораживавшему аул, перелез через него и спустился в овраг. В это время собаки очнулись и с громким лаем бросились за мною; хозяин принялся их травить, нисколько не думая, что они подняли тревогу из-за меня. Несмотря на скорость, с которою я бежал в гору, собаки догнали меня около опушки леса и, наверное, искусали бы самым страшным образом, если бы мне не пришло в голову бросить им мою кошачью шубу. Пока они над нею тешились, я успел продраться через непроницаемую чащу и чрез полчаса был на кладбище. Здесь только я почувствовал глубокие царапины по всему телу, вынесенные мною из лесной чащи; рубашка висела на плечах длинными лентами, нисколько их не закрывая. О шубе нечего было жалеть, потому что ее белая холщовая покрышка в лунную ночь была видна издалека, и я, может быть, позже решился бы ее бросить; а все-таки в майскую ночь не совсем ловко идти в горах, имея только шапку на голове да ноговицы от ноги до колена, а на теле ничего кроме тонкой изодранной тряпицы.
На кладбище я вздохнул свободно; самый трудный шаг был сделан; теперь все зависело от казака. Хотя мне известно было, что абадзехи очень не жалуют посещать кладбища в ночное время, но для пущей безопасности я влез на один из дубов, стоявших на холме, и с высоты его стал наблюдать за приближением моего товарища. Время казалось мне бесконечным. Я слышал все и почти мог различать, что делается в ауле. Вдруг собаки подняли страшный лай по прямому направлению к кладбищу, потом все стихло: значит, казаку удалось уйти. Я спустился на землю и с лихорадочным нетерпением стал ожидать его прихода; казалось, ему никак нельзя было миновать видного места свидания, лежавшего прямо против его жилья, до которого мне надо было пробираться, напротив того, через густой лес, дальнею обходною дорогой. Долго ожидал я понапрасну: казак не являлся. Показалась заря, и с нею поднялась тревога в ауле; первого хватились казака, потом заметили, что и мое место пусто. Я различал голоса тамбиевых людей и знакомых абадзехов, отыскивавших наши следы. Казак, не понимаю, каким образом, не попал на кладбище; без него я мог еще обойтись, но потеря припасов и обуви меня крайне огорчала: мог ли я надеяться спастись без них? Тут не было, впрочем, времени жалеть и рассуждать. Не в аул же возвращаться или дать себя схватить на первом шагу, не испытав даже своих сил и счастья. Не задумываясь долго, я решился отдать себя на произвол судьбы, идти, пока не откажутся ноги, а после того – что Богу угодно. С кладбища я пошел через кукурузное поле, на котором нелегко было найти мои следы, и залег недалеко от аула в низком, но чистом кустарнике, зная, что меня станут скорее всего искать в большом лесу, по прямой дороге к Кубани. Целый день я пролежал в раздумье, как продолжать мое путешествие без обуви, без еды и без оружия, кроме палки, и в страхе, что меня найдут; целый день долетали до меня клики отыскивавшего меня народа; перед вечером все утихло, и я заснул как убитый. Ночной холод разбудил меня; луна поднялась уже высоко; не теряя времени, я пошел скорым шагом на северо-запад, отклоняясь от прямого пути на Кубань, где меня должны были ожидать черкесы. В эту ночь я, наверное, прошел около двадцати верст, пользуясь в лесу битыми дорогами, оставляя их в открытых местах, где я предпочитал идти полем, и огибая попадавшиеся мне аулы. Второй день, как и все прочие дни, я пролежал в густом лесу, позволяя себе идти только ночью. Двое суток я подавался быстро вперед, не чувствуя усталости; на третьи – желудок начал напоминать, что он пуст; я стал его наполнять водою из ручья, из лужи, где попало. Скоро этот способ обманывать голод оказался недостаточным: листья, травы, коренья, которые я пытался есть, были горьки и производили только тошноту. Силы начали уменьшаться; несколько раз в ночь усталость принуждала меня отдыхать. Движение меня согревало, но в одной легкой и к тому же изодранной рубашке ночной холод и ветер заставляли меня дрожать, когда я останавливался. Тогда я садился спиною к дереву, прижав колени к подбородку, и в этом положении начинал дремать, пока мысль, что одно спасение идти вперед, не поднимала меня снова на ноги. Однажды какой-то шум разбудил меня; я раскрыл полусонные глаза и увидал перед собою две светлые точки. В нескольких шагах стоял волк, разглядывавший меня с любопытством, а может быть, и с каким-нибудь другим сокровенным желанием. Чтоб избавиться от его неприятного соседства, я тихонько протянул руку к близко лежавшей палке и так неожиданно взмахнул ею и крикнул на волка, что он убежал от меня без оглядки.
Пятые сутки моего странствования были исполнены самых неприятных похождений и решили под конец мою участь. Голод стал меня мучить не на шутку; с самого выхода из аула я ничего не ел; перед глазами становилось иногда темно; голова кружилась. Ноги, истерзанные колючими травами и кустами, сильно болели и начинали уже пухнуть. В этом положении я набрел нечаянно на бараньи коши, что было гораздо хуже, чем иметь дело с волком. Стая огромных собак налетела на меня с неукротимым бешенством и непременно бы заела, если б это случилось не возле леса. Палка не могла меня оборонить, я ушел в лес и спасся на дерево. Собаки окружили его с громким лаем и держали меня в осаде, пока пастухи их не отозвали, сделав из предосторожности несколько выстрелов по лесу. Когда угомонились собаки и пастухи, я слез с дерева, обошел коши и выбрался на большую битую дорогу, проходившую через лес. На первой версте я встретил огромный завал, потом другой, третий. Радость вспыхнула во мне: я был на хорошей дороге и близко к Сагуаше; завалы были построены против русских войск. Откуда взялись силы, голод пропал, боль в ногах исчезла, я не шел, а бежал, едва чувствуя землю под ногами. Засеки продолжались так далеко в лес, что я не мог терять времени, отыскивая их обход, а перелезал, несмотря на высоту и количество взгроможденных дерев, раздиравших мне тело сухими сучьями. Между прочим, маленький сучок вонзился мне в пятку так глубоко, что я не имел способа от него избавиться; хромая, я пошел дальше. В эту ночь я крайне утомился. Перед утром я вышел на поляну, испещренную, к моей несказанной радости, алыми ягодами спелой клубники, лег в траву и с жадностью начал утолять голод, разгоревшийся со всею силой при виде сочных ягод. Звуки свирели пастуха, гнавшего стадо прямо ко мне, принудили меня оторваться от спасительной клубники и уйти в лес, где я скоро заснул непробудным сном. Когда я проснулся, солнце стояло высоко над моею головой и пекло меня знойным лучом; я сделал усилие подняться и с испугом заметил, что не могу от боли держаться на ногах, красных, опухших и горевших как в огне. Отчаяние овладело мною, но только на мгновение; я вспомнил, что в тридцать втором году гребенской казак, раненый в несчастном деле Волжинского, с перебитою ногой, прополз более тридцати верст и на четвертые сутки, еще живой, добрался до Терека; почему же я не мог сделать то же самое? Около меня темнел густой лес, повсюду царствовала глубокая тишина, нарушаемая только легким журчанием ручья. Кое-как я направился в его сторону, увидал, что он протекает в глубокой лощине, спустился в нее на коленах и сел на берегу с опущенными в воду ногами, надеясь унять воспаление с помощью холодной струи. Пока я сидел над ручьем, взвешивая средства и обстоятельства, от которых зависело мое спасение в настоящую минуту, и машинально следил за течением воды, два абадзеха подъехали ко мне совершенно незаметно. Шум ручья покрывал шаги лошадей на мягкой траве; только когда они меня окликнули, я узнал о соседстве их. Тут не было спасения: они стояли за мною в двух шагах, и один держал на всякий случай ружье наготове. Я не переменял моего положения; между нами завязался следующий разговор.
– Кто ты и что здесь делаешь?
– Кто я, ты видишь, и больше сказать я не намерен; что делаю, не трудно отгадать, – отдыхаю!
Абадзехи пытливо осматривали меня с ног до головы: недостаток обычной одежды, отсутствие всякого оружия, между тем ответы по-черкесски и спокойный вид, с которым я продолжал болтать ногами в воде, ставили их в явное недоумение. Они отъехали в сторону, поговорили и потом опять приблизились.
– Иди с нами! – сказал старший из них повелительным тоном.
– Этого-то я не сделаю, – был мой ответ.
– Как не сделаешь? – крикнул абадзех, показав на ружье.
– А вот почему не сделаю, – и я показал ноги.
Один взгляд на них убедил абадзеха в справедливой причине моего отказа.
– Ну так поедешь, – сказал он, приказав своему товарищу слезть с лошади.
Когда я сел на нее, спешенный абадзех взял в руки повод, и мы углубились в лес. Я попался в руки совершенно чужим людям; они меня не знали, значит, не имели знакомства ни с Тамбиевым, ни с Алим-Гиреем, а может быть, находились с ними даже в неприязни; проявилась слабая надежда на возможность употребить встречу с ними в мою пользу, и я ухватился за нее. Заехав в лес, я остановил абадзехов, сказав, что имею сделать им важное открытие, если они знакомы с кемюргоевским князем, Шерлетуком. Айтека Кануков был уже тогда убит. На их утвердительный ответ я спросил, имеют ли они желание через него получить значительную сумму денег, например, три тысячи целковых.
Лица моих абадзехов прояснились.
– Как же это возможно?
– Очень легко, если вы не трусы. Никто не видал, как вы меня нашли в лесу (я назвал себя), провезите меня к себе тайком, спрячьте и отвезите два слова к Шерлетуку, который не замедлит кончить дело к нашему общему удовольствию. Он никогда вас не выдаст, кабардинцы ничего не узнают, а вы получите деньги, которых они напрасно добиваются другой год. Не теряйте случая, который Бог вам послал, сделаться богатыми людьми.
Моя мысль очень понравилась абадзехам: три тысячи целковых была для них такая сумма, о которой они никогда не смели помышлять; кабардинцев они в своей земле не очень боялись; чего же задумываться? Пеший абадзех надел мне свою шапку с башлыком, перекинул через плечо винтовку, накрыл буркою, а сам пошел в другую сторону, когда мы окольными дорогами поехали в аул, принадлежавший его господину. Все было отлично рассчитано, для того чтобы меня не узнали. Не встретив никого чужого, мы приехали в дом, где меня поместили в чистой комнатке, на мягкой постели, не допуская ко мне никого, кроме дочери хозяина, ухаживавшей за мною, как за своим братом. Узнав, что я пятеро суток ничего не ел, сварили курицу и похлебкою от нее кормили сначала по ложке, каждые четверть часа, и только на другой день дали попробовать мяса. Моя рубашка требовала радикальной починки; но прежде всего надо было промыть царапины на теле и полечить ноги, для чего их обложили холодными компрессами. После этого я написал Шерлетуку разведенным порохом на листке, вырванном из Корана, в каком положении я нахожусь, и просил его немедленно принять все меры к моему освобождению, поручившись подателю письма в трех тысячах целковых, если он меня проводит в Кемюргой. На Шерлетука, находившегося в нашей полной зависимости, можно было совершенно надеяться, и я не имел сомнения в том, что он не упустит случая оказать правительству услугу, которой я от него требовал. В тот же вечер, когда пришел слуга, отдавший мне лошадь, хозяин поскакал в Кемюргой, обещая вернуться с ответом не позже суток. Можно себе вообразить, как крепко я спал обе ночи и в каких приятных мечтах провел целый день, ожидая ежеминутно увидать перед собою если не самого Шерлетука, то, по крайней мере, десяток кемюргоевских узденей, присланных проводить меня на Кубань. Дело было сбыточное, потому что от аула, в котором я находился, до Сагуаши не могло быть более пятнадцати верст, а за Сагуашею начиналась Кемюргоевская земля. На другое утро, перед самым рассветом, послышались шаги лошадей и людской говор. Сгорая нетерпением, я бросился навстречу предполагаемым освободителям; двери растворились, и я увидал перед собою слишком знакомые лица: абадзеха пчельника, Бечира и Магомета, Тамбиевых слуг. Полусонный, несколько мгновений я не хотел верить своим глазам, так неожиданно мне пришелся этот бессовестный обман. Совершенно я освоился с истиною только тогда, когда посланные в один голос объявили, что пора домой.
Позже мне объяснили ход этого происшествия. Абадзех, встретивший меня в лесу, действительно был готов ехать к Шерлетуку и воспользоваться за мое освобождение обещанными деньгами, да поехал сперва к родственникам посоветоваться о столь важном деле, а те напугали его мщением Аслан-Гирея, Джансеида и в особенности Алим-Гирея, покровителя Тамбиева, так что он вместо Кемюргоя отправился к Дауру дать знать, что я не пропал и нахожусь у него в доме.
Не стану говорить о чувствах, с которыми я возвращался на старое место моего плена; горечь их унималась одною твердою решимостью посредством того или другого способа добиться свободы, не ожидая чужой помощи и не жалея потерять жизнь. Отдыхая на берегу какого-то ручья, я заметил твердый шероховатый камень и на всякий случай спрятал его за пазуху. Люди Тамбиева привезли мне черкеску и толстые суконные шаровары; иначе я не нашел бы даже куда спрятать мою находку.
Тамбиев встретил меня без брани и оскорблений, когда я молча вошел в кунахскую Алим-Гирея и сел на приготовленную для меня подушку.
– Здорово, брат, – сказал он, язвительно улыбаясь, – давно твоя не видал, что пошел о дрова; ружье нет, сешхуа нет, там догуш (волк) али миша (медведь) твоя кушай. Здесь лучше, я любить твоя ровно брат!
– Спасибо за твою братскую любовь. Охотнее отдам свое тело волкам, чем стану здесь сидеть. Ужели ты думаешь, Аслан-бек, что обманутый вами, я в свою очередь не буду стараться обмануть вас? Теперь дело открытое: раз ушел, уйду и второй раз; стану уходить, пока не дойду, пропаду в дороге или вы же убьете меня! Соглашайся скорее на выкуп, который вам предлагали, иначе останешься без всего. Не надейся меня удержать; скоро я опять распрощусь с тобой.
Тамбиев рассмеялся.
– Хорошо, хорошо! Твоя не хочет садись, хочет пропал; моя твоя любить, будет твоя крепко держи железом.
Вечером того же дня я опять сидел прикованный в своей прежней избе; возле меня выл и рыдал по-прежнему Абдул-Гани, с цепью и огромным замком на шее.
Казак спасся. Миновав кладбище, не знаю почему, он бежал прямо в лес и, пользуясь моими припасами, в шесть дней дошел до Сагуаши. Поймав карчу, он разделся, привязал на нее платье, сам сел верхом и стал переправляться. Посредине реки из-под него унесло дерево с платьем. Он выплыл на другой берег и совершенно нагой путешествовал трое суток по Закубанской равнине. Кемюргоевские пастухи, встретившие его в этом виде, бежали сперва, но потом, убедившись, что они имеют перед собою человека, а не шайтана, прикрыли его кое-чем, накормили и привели на Кубань.
Аслан-Коз не замедлила навестить меня и, несмотря на присутствие ногайца, принялась лечить мои больные ноги, прикладывая к ним сметану, как одно из лучших противувоспалительных средств. В первую минуту она не знала, более ли ей радоваться моему возвращению или жалеть о постигшей меня горькой неудаче. Незнакомая с притворством, она умела меня утешать только взглядами, полными участия, да приговаривая: “Так было написано, покорись воле Аллаха!”
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































