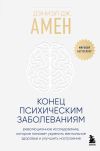Текст книги "Райское место"

Автор книги: Фернанда Мельчор
Жанр: Контркультура, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
А в ту субботу ему как никогда хотелось послать свою службу подальше, и не только потому, что предстояло торчать в комплексе до конца праздника, чтобы выгрести весь мусор, но и потому, что в этот самый день, за несколько часов до того, как началась эта заварушка, случилось и еще кое-что: Поло в это время был на террасе, ерошил сетью поверхность воды в бассейне, вылавливая листья и, как говорят в этих краях, размышляя о петушиных яйцах, то есть о чем-то несбыточном, меж тем как команда кейтеринга сновала по саду, устанавливала столы и стулья, натягивала навесы и широченный разноцветный брезент, который, когда его надули, превратился в огромный замок с башенками, зубчатыми стенами, флюгерами и даже подъемным мостом – в нечто грандиозное, но при этом невесомое, летучее и воздушное, прыгавшее при каждом порыве ветра с реки так, словно хотело вознестись к небесам, и Поло так засмотрелся на работу ребят из кейтеринга, вбивавших колышки, чтобы удержать замок на земле, что заметил присутствие сеньоры Мариан лишь когда учуял запах ее духов и, повернувшись, оказался с ней лицом к лицу, в нескольких сантиметрах от ее тела, от разгоряченного лица с кровавыми, как у вампира, губами, с неизменными темными очками, болтавшимися на тонкой цепочке в выемке ее грудей. Она молча протянула Поло маленький плотный конверт, а когда заметила, что руки у него заняты сеткой, заулыбалась еще шире и сама сунула его в нагрудный карман рабочего комбинезона, сказав с глуповатым смешком и напускным смущением «за беспокойство», а потом повернулась и, покачивая бедрами, отправилась наблюдать за работой своей новой горничной – невзрачной, на мышку похожей девчушки, в эту минуту неуклюже натягивавшей чехлы на стулья и украшавшей их бантиками. Эта дурнушка показалась Поло знакомой – вроде бы он ее видел раньше: может, в школе? – но посмотреть пристальней он не решился, чтобы хозяйка не подумала, что это он ее разглядывает, и как ни в чем не бывало, с деланым безразличием, снова взялся чистить бассейн, хотя руки прямо зудели, так хотелось запустить пальцы в карман и на ощупь определить, сколько же в том конвертике, и работал до обеда и только тогда закрылся в тесном туалете возле домика вахтеров, достал конвертик, где поблескивающими лиловыми буквами было выведено его имя, и извлек оттуда две бумажки по двести песо, хрустящие и гладенькие, словно сию минуту из банкомата, – сверхурочные и чаевые, которые придурок Уркиса зажиливал у него каждый раз, как Поло, матерясь сквозь зубы, должен был оставаться до вечера и чистить свинарник, устроенный после гулянки, – с неба упавшие деньги, на которые никак не рассчитывал, а потому и матери о них докладывать не собирался. И мог истратить их на что угодно, на все, чего душа попросит – на сигареты, само собой, на бутылку-другую рома и, бог даст, еще останется заплатить за телефон и скинуть смс Мильтону. Но пока он строил планы, воодушевившись этим свалившимся на него богатством, боль, как тупое сверло, начала сверлить ему грудь, а спустя сколько-то мгновений он уже корчился перед унитазом, извергая из себя желчь, судорожным кашлем царапая гортань и вспоминая лицо этой тетки, когда она засовывала конвертик в нагрудный карман его комбинезона, и свою улыбку, которой, как последний безмозглый придурок, счел нужным ответить ей, причем не успел даже сообразить, что делает, как лицевые мускулы сами собой сократились, хотя его воротило от того, как она строит из себя знатную даму и с каким бесстыдством прикоснулась к нему, и в тысячу раз легче было подавить желание глазеть на ее обтянутую шортиками задницу, когда она бегала по комплексу, чем порыв улыбнуться ей в ответ – настолько одуряюще сильно действовала ее улыбка, и все поняли бы его, узнай они эту даму поближе и испытай они на себе ее умение преподносить себя. Вот, спрашивается, какого хрена он немедля не вернул ей конвертик и не сказал с презрением: «Спасибо, я в подачках не нуждаюсь»? Почему не бросил конвертик ей в морду, добавив, что она – всего-навсего шкура и дешевка, содержанка, мнящая о себе бог знает что, потому лишь, что может швыряться деньгами, которых некуда девать ее мужу? И почему она, тварь, не передала ему конвертик из рук в руки, как нормальные люди поступают? Побоялась запачкаться о Поло, подхватить заразу, прикоснувшись к неотесанному бедняку? Или решила, потаскуха, что купила его с потрохами и заимела право требовать чего угодно и унижать его, навроде как Уркиса унижает, и приказывать вымыть свой белый джип и мужнину спортивную тачку? Кем она, сучка, себя возомнила? Кем-кем, известно кем – царицей мироздания, если судить по тому, с каким видом, точно в назначенный час начался праздник, появилась она в роскошном платье – красном, с синими и зелеными разводами – в бриллиантовых серьгах, сверкавших, когда она отводила каштановую прядь, открывая шею. Весь вечер Поло старался не замечать ее, но словно по чьей-то воле она постоянно оказывалась перед ним, и куда бы он ни шел, зараза эта была тут как тут, оделяя поцелуйчиками ораву детишек в купальных костюмах и их мамаш – таких же вылощенных и намазанных, как и она сама, с такими же уложенными волосами, безжизненными, как парики, и их мужей, которые плелись за ними и выглядели не менее нелепо в своих розовых рубашках поло, в сорочках пастельных тонов, в куцых брючках и коричневых мокасинах, с тщательно подстриженными бородами и бровями: все они толпились и галдели, позванивая льдинками в стаканах, вокруг самодовольного пузана Мароньо, а тот непрестанно фотографировал и успевал еще витийствовать о политике и бизнесе перед этим угодливым сборищем, которое лакало его лучшее заграничное виски и воровато поглядывало на потрясающую задницу хозяйки, меж тем как их отпрыски верещали и резвились как бесноватые за колеблющимися стенами надувного замка, неслись сломя голову ласточкой сигануть в бассейн, испуская вопли самоубийственного наслаждения, неслышные, впрочем, из-за музыки, грохочущей из динамиков на террасе. И где-то часов в шесть настал наконец момент, когда Поло сделалось невмоготу от всего этого – от шума, от многолюдства, оттого, что собственные его кишки были разъедены бешенством, а вдобавок оттого, что именинник, лежа на траве и молотя в воздухе ногами, ревел как припадочный и заливался слезами, ибо пришло время разбивать пиньяты, а он не желал, чтобы кто-нибудь до них дотрагивался, потому что это были его пиньяты, и вот во всем этом гвалте и неразберихе, прежде чем хозяйка успела доконать его очередным идиотским поручением, Поло изловчился, улучил минутку и исчез за тем самым барьером, который сам же в это самое утро по приказу Уркисы поставил перед лестницами, ведшими на причал, чтобы какой-нибудь не в меру любопытный мальчишка не спустился к реке и не свалился в воды Хамапы, среди обитателей комплекса считавшиеся опасными, кишащие бактериями и всякими паразитами, не говоря уж об омутах и ямах, где могли утонуть их драгоценные деточки, – все это была полная ерунда, которая, впрочем, играла на руку Поло: он мог время от времени спускаться к реке и хотя бы несколько минут наслаждаться одиночеством на этом игрушечном причале – скорее, еще одной фантазии архитектора, чем всамделишной пристани, – глядеть на серо-зеленую воду и, может быть, покуривать в блаженном покое, вот как на дне рождения Мики, когда, уже дымя окурочком, в два прыжка спустился по лестнице и обнаружил внизу толстяка с белокурыми кудряшками, который сидел, свесив ноги над водой и опустив голову; и в этом закатном полусумраке, среди вечнозеленых деревьев, Поло подумал сначала, что тот плачет от бесконечных насмешек и издевательств, которым он, хоть не был с ним лично знаком, да и вообще видал его известно где, был злорадным свидетелем: орава воинственных девчонок во главе со смазливеньким Энди целый вечер беспощадно травила толстяка, пуляла в него, норовя попасть в голову и в лицо, твердыми незрелыми орехами, сорванными с нависающих над аллеей ветвей, и продолжался этот обстрел несколько часов, причем никто из взрослых не подумал вмешаться и унять сопляков – то ли потому, что были слишком увлечены виски и белым вином и обсуждением разной ерунды, а то ли потому, что сами в глубине души считали толстяка существом нелепым и несносным и предпочли бы, чтоб он отвалил куда-нибудь подальше вместе со своими гноящимися прыщами, со своими грудями тучного ребенка, похабно колыхавшимися при каждом его шаге, так что все, надо полагать, вздохнули с облегчением, когда Франко Андраде наконец свинтил с праздника, предварительно стырив у хозяина бутылку виски, – так, по крайней мере, он сообщил Поло, и черт его знает, правда это или брехня, с толстяком никогда не угадаешь, он ведь был первостатейный враль и обожал выдумывать самые невероятные истории, хотя даровая бутылка виски была налицо, и он, скаля в лукавой улыбке превосходные зубы, предложил угостить в обмен на сигарету, и хотя у Поло лишней не нашлось, но это не стало помехой к тому, чтобы отведать этого пойла, столь крепкого, что запах его – запах мелкой древесной стружки, вымоченной в соленой воде, – бил в ноздри метра за два и так неодолимо манил попробовать, что Поло вместо того, чтобы повернуться да уйти, подошел к этому китенку и предложил ему свою недокуренную сигаретку. Больше нет, последняя, сказал он, вперив взгляд в бутылку на коленях толстяка. Тот с жадностью затянулся и щелчком отправил окурок в реку, хотя сгорел еще не весь табак. Вот же сучонок, подумал Поло, а толстяк снова отхлебнул из горлышка. Заграничное, предуведомил он, крякнув от удовольствия и утирая губы ладонью, и лишь потом снизошел до Поло, протянул бутылку, и тот глотнул, хоть не доверял толстяку ни в чем и к тому же обещал матери, что никогда больше не будет предаваться пороку, сведшему в могилу его деда, а потом еще раз и еще, пока не почувствовал, как по всему телу прокатилась теплая волна, и так вот они сидели, по очереди прикладываясь к бутылке, и допили ее до дна, и тогда впервые толстяк стал рассказывать ему о сеньоре Мариан – чистейшие фантазии насчет того, что когда-нибудь добьется своего и ее возьмет, она уже поддается, заметно же, как выделяет его и привечает и высоко ставит, и в глаза бросается, как она ласкова с ним, как отличает от всех прочих, это же видно по тому, как улыбается, когда здоровается или прощается, как под любым предлогом старается прикоснуться к нему, поцеловать в щечку – ведь это же явные признаки ее интереса, разве не так? Это ли не свидетельство того, что она не вполне безразлична и в один прекрасный день между ними все пойдет уже иначе, а? Поло все эти мечтания только смешили, и он ни минуты не верил, что толстяк говорит всерьез. Да он что – в зеркало себя не видел? Да неужто он всерьез полагает, что такая женщина, как сеньора Мароньо, наставит рога мужу-миллионеру, изменит ему с этим тучным, лоснящимся, прыщавым малолеткой? Да он, увалень, в глаза ей взглянуть не смеет: Поло сам убедился в этом на вечеринке. Смотрит издали, иногда – как насильник-извращенец, это правда, а иногда – беззащитно, как ягненок на бойне. И он думает покорить ее? Да если даже эта красотка перезрелая предстанет перед ним нагишом, как в его фантазиях, даже если сама попросит присунуть ей, этот придурок растеряется, не зная, с чего начать, и не только потому, что вполне ведь очевидно, что он в жизни не оказывался перед влажной щелкой, а еще и за неимением яиц – решимости и умения подойти к женщине и сделать ее своей, овладеть ею, совладать с нею, настоять на своем и своего добиться, а не пускать всю жизнь слюни, томясь и вздыхая, как последняя рохля, как засранец и дрочила. И поэтому Поло смотрел, как течет река, и слушал и кивал на все, что ни говорил толстяк, какую бы несусветную чушь тот ни нес, и откуда бы ему было знать, что этот полоумный придурок скоро вытворит с сеньорой. Кто бы мог подумать, что говорил он всерьез?
Вот так это все и началось, скажет он им. С этого торопливого выпивания, которое через несколько дней повторилось, благо толстяк опять стырил у деда деньги, на которые Поло купил жрачки, курева и этих жутких чипсов, присыпанных оранжевой пудрой, – любимейшего лакомства толстяка. Очень скоро это вошло у них в обычай: нетерпеливое ожидание после обеда, поиски купюры на клумбе, стояние у дверей круглосуточного магазинчика среди работяг, завернувших туда выпить лимонаду перед возвращением в Боку или в свои поселки; томительный проход через пустырь возле особняка, встреча на причале, покуривание и попивание, пока Франко мелет свою обычную чушь, а Поло снисходительно посмеивается, потом дремотная алкогольная муть, она никогда не сгущалась настолько, насколько хотелось бы Поло, но все же приятно туманила голову и сглаживала самые острые углы и грани окружающего мира. И поэтому он пил так торопливо, словно бегал с толстяком наперегонки, пил до тех пор, пока не пустела бутылка или банка пива, пока не кончались сигареты и нечем становилось отпугивать голодных москитов, пока огни Прогресо на том берегу начинали гаснуть, и Поло чувствовал, что раздухарился достаточно, чтобы решиться на обратный путь через почти непроглядную тьму зарослей, мимо шелестящего и шепчущего особняка, ведя за руль велосипед и негромко, сквозь зубы, напевая какую-нибудь жеманную и чепуховую песенку из тех, что без конца крутили по радио «Сенобио», напевая, чтобы не думать о Кровавой Графине, некогда приказавшей возвести среди мангровой чащобы этот дворец и до сих пор пугающей своим окровавленным силуэтом тех, кто по неосмотрительности отваживался забрести туда, если верить старым сплетницам из Прогресо, включая, разумеется, и его мамашу, пока не выбирался наконец на пустынную улицу, садился в седло, стремительно скатывался по склону, выводящему на шоссе, ни разу не нажав на педали, пока не оказывался на обочине – весь в поту от рассветной духоты и от усилий держать направление и проклятый руль, чтобы ненароком не вильнул и не швырнул его прямо в фары какого-нибудь автомобиля, изредка попадавшегося на шоссе. Потому что сколько бы и в каком темпе ни выпил он на причале, все равно этого не хватит, чтобы вырубиться с концами, потерять разум, послать подальше целый свет, отключиться от всего, освободиться, – ибо очень скоро, слишком даже скоро, желанный столбняк, в который так трудно было вогнать себя, растворится в пульсирующей мигрени, а та будет усиливаться всякий раз, как он вспомнит, что завтра ему по меньшей мере пять часов крутить педали по этому самому шоссе навстречу новому рабочему дню в вонючем комплексе. И потому, неизменно проезжая по мосту над рекой, он останавливался и несколько минут глядел, как ее соленые воды петляют между лугами и роскошными виллами, маленькими островками, поросшими акациями и растрепанными пальмами, едва заметными на красноватом полотне ночи, подсвеченной далекими огнями порта, и вспоминал, что они с дедом собирались, когда будет время, построить скромную, безо всяких излишеств двухвесельную посудину, а может, всего лишь с шестом, которым будут вспарывать илистую гладь реки, пока не доберутся до устья, где кишмя кишит рыба бобо, приплывшая сверху, из горных рек, либо морской окунь, идущий снизу на нерест, так, по крайней мере, не раз говорил ему дед, пока ноги не протянул. Была бы лодка, думал Поло, не надо было бы совершать эти утомительные велосипедные гонки из Парадайса в Прогресо и обратно, а еще лучше было бы, если бы выполнил свое обещание да научил его, как эту лодку смастерить, если бы всерьез принял ту мечту, которую лелеял, когда они вдвоем удили рыбу с моста, и не надо было бы тогда ни возвращаться в этот гнусный комплекс, ни терпеть измывательства этого засранца Уркисы: рыбачил бы себе или катал туристов по лагуне, или просто плыл по реке неведомо куда, ничего не планируя, никому ничего не обещая, приставал бы к берегу всякий раз, как вздумается, как нестерпимо захочется чего-нибудь, а потом отчаливал, ни у кого не спрашиваясь, и никто бы ему не мог запретить, и не надо бы тогда было давать нелепые клятвы бросить пить и сносить несправедливые и унизительные попреки, и не пришлось бы ночевать на полу в гостиной и просыпаться на рассвете от трели материного долбаного будильника и целый божий день поливать сучий газон, который через несколько дней придется полоть и подстригать, и не надо было бы крутить педали вверх по откосу меж роскошных вилл за высоченными заборами, увенчанными спиралями колючей проволоки, выписывать кренделя, жаться к обочине шоссе, посыпанной крупным гравием, когда, ослепленный дальним светом, уклоняешься от автомобилей, летящих, кажется, прямо в лоб тебе. Одно хорошо в этих возвращениях домой на рассвете – несмотря на вечные попреки матери и надутую рожу Сорайды, – шоссе в эти часы почти пустое, и можно пересечь его на велосипеде, не дожидаясь по полчаса, пока разредится поток машин, и, разогнавшись, не колесить по центру Прогресо, а слететь вниз по склону и нырнуть в первую же открывшуюся в чащобе прогалину, срезать путь, ведущий прямо к дому, в эти ночные часы больше напоминающий дыру в живую и шумную лесную тьму или вход в туннель, заполненный шипением и надрывным стрекотом цикад, страдальческим кваканьем огромных лягушек, притаившихся в траве, куда одурелый от жажды и мигрени Поло въезжал, не притормаживая, щурясь от пота, заливавшего глаза, и от мошкары, облеплявшей лицо, въезжал, с безоглядной пьяной яростью крутя педали и полагаясь целиком на мышцы, еще хранившие пямять о том, где эта брешь сужалась или уродовалась корнями деревьев. Немудрено было запомнить это после стольких лет езды туда и обратно, да по несколько раз в день по этому туннелю, обвитому лианами, заросшему папоротниками, заваленному сгнившим, плесневелым деревом, от которого пахло свежей могилой, когда он мотался в школу на другом берегу реки, а потом, когда подрос, – до остановки автобуса в Боку, а теперь – до эксклюзивного жилого комплекса под названием «Парадайс», с того самого дня, будь он неладен, когда мать приволокла его в контору компании «Гольфо», чтобы он вписал свое полное имя в контракт, положенный перед ним этим придурком Уркисой, где говорилось, что с этой минуты он, Леопольдо Гарсия Чапарро, становится садовником в комплексе «Парадисе». Пэрадайс, с кривой издевательской улыбочкой поправил его Уркиса, когда Поло попробовал произнести это американское словечко. Пэрадайс, а не Парадис, а ну, повтори-ка: Пэрадайс. И новому служащему этого комплекса до смерти хотелось ответить: под хвост бы тебе впарить этот Пэрадайс, сучье ты отродье, однако не решился что-либо сказать при матери, которая следила, чтобы он все подписал как положено, и не сводила с него зорких глаз, желтых, как у голодного ворона-санате, и повторяла: давай же, подписывай, видя, что он попытался было перелистать контракт, подписывай, потом прочтешь, чего дурака валяешь, время впустую тратишь на ерунду. И Поло ничего не оставалось, как подписать эту хренотень, причем ощущение, что продает душу дьяволу, усилилось при виде того, как обрадовалась мать, когда сын ее превратился в лакея этих самодовольных уродов, потому что пора было ее сыночку на ноги становиться и перестать в носу ковырять, слоняясь без дела, ничего путного не делая и не принося в дом ни единого песо с тех пор, как обделался по полной, – а как иначе сказать, если он в конце первого семестра завалил шесть экзаменов, потому что уроки прогуливал, – и тем переполнил чашу терпения матери, годами жертвовавшей всем ради того, чтобы эта тварь бессовестная получила шанс, которого не было у нее. Теперь придется и ему повкалывать, поломать хребет для блага семьи, перестать быть безответственным недоумком. Дела и так были плачевней некуда, а уж после фортеля, выкинутого его кузиной Сорайдой, семья за несколько месяцев окажется в небывало стесненных обстоятельствах, если, конечно, весь этот клятый поселок не провалится раньше ко всем чертям. Хорошо еще, что инженер Эрнандес предоставил ему возможность работать в одном из своих жилых комплексов, потому что Прогресо превращался в какое-то прямо разбойничье гнездо, и Поло грозила опасность кончить, как его двоюродный братец Мильтон, отпетый уголовник, который его в свое время и испортил, толкнув на стезю порока, а верней – на кривую дорожку. Ну вот зачем, за каким хреном вести себя как последний придурок? Почему бы не брать пример с деда? С бедного деда, который сызмальства жилы рвал, надрывался, чтобы обеспечить себе будущее, выдвинуться и опередить всех, причем все сам, сам, собственными силами, безо всякой посторонней помощи, а исключительно работой от зари до зари без отдыха, вздорные резоны не приводя, не хныча, не прикидываясь больным, чтобы не надо было вставать, а ты, тварь бессовестная, кем себя мнишь? Что о себе воображаешь?
Этой песней мать будила его каждое утро, еще до того, как солнце заглянет в окошко, а соседский петух только прочищает горло, чтобы посоперничать с фальшивой веселостью чудовищной трели, которую испускал материн будильник. И Поло нехотя начинал ворочаться на полу, застеленном мокрой от пота циновкой, – с пересохшим ртом, с корками в углах глаз, с колотящей в виски мигренью, которую никакой алка-зельтцер не уймет, сколько ни пей его. Он старался встать как можно скорей, видит бог, изо всех сил старался, чтобы избежать нудного материного нытья, но она неизменно заставала его, когда он еще корячился на полу, борясь с истомой, и вот тогда начинался крик: «Совесть у тебя есть? Являешься на рассвете, прокрадываешься в родной дом как крыса все равно, и все ради своих пьянок-гулянок. Не ври, не смей врать матери, сопляк! Отсюда чую, как от тебя несет перегаром! Сегодня еще только среда, а ты уже празднуешь так, что на ногах не стоишь. Погляди, на кого ты похож стал! Кто ты такой есть, Леопольдо? Кем ты себя, подонок, вообразил?»
Этот вопрос Поло задавал себе каждое утро, когда в комбинезоне – бестолковая кузина Сорайда выстирала его, да от въевшейся грязи не отстирала – с ломтем хлеба в одной руке, с кружкой теплого кофе в другой – хорошо, если удавалось проглотить это все и не извергнуть наружу – добирался до моста, взмокнув от пота и от влажного селитряного ветра, против которого приходилось ему крутить педали по пути в Парадайс. А и в самом деле – кто он? Сукин ты сын, неустанно твердила мать. Единственный сын, свет очей служанки, сумевшей вскарабкаться по социальной лестнице. У него такие же толстые губы, такие же светло-карие глаза, те же проволочные волосы, под солнцем обретающие медный оттенок, а теперь он, как и она, тоже в услужении у той же самой семьи эксплуататоров. Он – эй, любезный, как зовут его обитатели комплекса, вот он кто. Он отсекатель веток, подстригатель травы, убиратель всякого дерьма, мойщик чужих машин, слизняк, прибегающий, когда свистнут. Как же это он дошел до жизни такой? – спрашивал он себя и не находил ответа. А как же было не дойти? У него ведь не было ничего своего, он никогда ничем не владел. Жалованье – и то отдает матери все целиком, ибо она так решила: Поло должен искупить свой проступок, возместить шанс, упущенный, потому что лоботряс и гуляка. Пусть-ка погнет спину, исполняя вздорные приказы Уркисы, пусть-ка поспит на голом полу, как шелудивый пес, а жалованье его пойдет на уплату бесконечных материных долгов и на прокорм ребеночка, растущего в исполинской утробе Сорайды, покуда та целыми днями сидит под вентилятором в кресле-качалке, смотрит мультики, вместо чтоб, как было договорено, убирать дом и готовить обед. Поло поначалу пытался усовестить мать, показать ей, как все это нечестно получается, и разве ж он виноват, что сестрица его двоюродная не научилась держать ножки вместе. С какого бы перепугу он должен был отдать ей свою кровать, а сам спать на полу – на твердом и гладком цементном полу, подстелив тощую циновку, а под голову положив старую рубашку? Почему бы не послать подальше эту самую Сорайду? Эту угодливую ловкачку, прикидывающуюся тихоней, у которой не все дома и которой не совестно разгуливать по улицам с брюхом, как у стельной коровы, как будто в этом есть ее заслуга, эту подзаборную потаскушку, которая считать отцом своего ребенка может любого, в самом деле – любого; и слышала бы мать, что только говорят о ней в поселке, как шлюха эта крутит и с водителями автобусов, и с курьерами, по вторникам привозящими товар в лавку доньи Пачи, и со сборщиками налогов, и с торговцами в рассрочку, останавливающимися здесь по пути в Пасо-дель-Торо, и даже с мальчишками, развозящими на своих мотоциклах тортильи, с ними со всеми покувыркалась она в грязном кузове грузовика, либо на заднем сиденье автомобиля, либо, как сучка в течке, за амбаром или на задах дома, или еще где – везде, как зазудит у нее в известном месте. Какого ж хрена мать не дала этой шлюхе самой расхлебывать, что она там наварила? Почему не отправила распутную девку назад, в Мину, к теткам, пусть бы те за ней и смотрели? Но мать и слышать ничего не желала и впадала в бешенство, стоило лишь Поло затронуть эту тему и предложить выставить ее на улицу, и ярилась еще пуще, когда он предполагал, что оторва кузина не желает ребенка и наверняка избавилась бы от него, если бы мать Поло не подносила ей все, как говорится, на блюдечке, пестовала и баловала, как принцессу, меж тем как сам Поло ломал себе хребет, ночуя на голом полу, страдая от жары и прочих неудобств, а мать не снизошла даже до покупки какого-нибудь вшивенького топчанчика, на котором он мог бы покоить усталое тело.
Вот по этой самой причине он и нажирался до отказа при малейшей возможности, пусть даже делать это приходилось в обществе гнусного толстяка, а весь следующий день он мучился от головной боли и гастрита. Он должен был это делать, должен был напиться, чтобы забыть о проклятых бабах и суметь вернуться в Прогресо на рассвете, когда на улицах не было никого, кроме недоделанных шпионов из «тех», да одной-двух бессонных собак, а мать и Сорайда уже несколько часов как спали, и Поло не нужно было ни видеть их, ни слышать, ни выносить их раздражающее присутствие. Он входил в дом через кухню, стараясь не шуметь, молча раздевался, растягивался на колючей циновке посреди темной комнаты, невыносимо накаленной солнцем, целый божий день шпарившим по железной крыше, опускал веки, закрывал лицо сгибом локтя и думал о черной реке под мостом, о неостановимом, зловонном, завораживающем потоке, о свежем ветерке, приносившем легкий, робкий аромат плавучих лилий, и карусельное кружение пола под головой постепенно превращалось в мягкое покачивание реки, в постоянно меняющееся, неблагодарно забывающее, что было прежде, струение темного потока, несущего вниз, к морю, лодку, которую они с дедом могли бы смастерить, если бы дед не умер, лодку скромную и узкую, но достаточно просторную, чтобы Поло мог улечься в ней и видеть, как плывет над ним небо в переплетении ветвей и жимолости, и слышать треск несметного множества сверчков и мелодичные вопли ящериц, которые спариваются, а потом пожирают друг друга, – эти звуки непререкаемо приглушал голос реки, ее неустанный холодный напев, ночью слышный отчетливей, чем в другое время суток, а может быть, это дед рассказывал ему, когда они на рассвете удили рыбу под мостом, по щиколотку стоя в резиновых сапогах в густой жиже, заполненной битым стеклом, острыми осколками костей, ржавыми жестянками, и не сводя глаз с косой линии посреди затуманенного зеркала, которым в этот утренний час становилась гладь заводи – серебристая и серая в центре, ярко-зеленая по берегам, где буйная растительность заполняла собой все, безжалостно удушая самое себя в оргии вьющихся щупалец, плотных сетей лиан, шипов и цветов, превращавших юные деревца в зеленые мумии, там и сям окропленные дурманом и синими вьюнками, и особенное буйство происходило в начале июня, когда сезон дождей начинался с отдельных и внезапных ливней, разжигавших, казалось, жар полуденного зноя и подстегивавших безудержный бешеный рост всяческой зелени, першей отовсюду и возникавшей везде, – кустов, лиан, плюща с деревянистыми, зелеными и цепкими стеблями, которые вдруг появлялись на обочине дорог или прямо посреди кичливых садов Парадайса, куда тайными тропами пробивались через нарядные английские лужайки их споры, чтобы однажды распуститься во всем своем плебейском, вульгарном великолепии, и Поло должен был рубить их мачете, потому что ни астматически одышливый секатор, ни газонокосилка не могли справиться с этими дикарями, заполонявшими клумбы и куртины, пожиравшими бегонии и китайские розы.
Поло нравилось орудовать мачете, нравилось ощущать его тяжесть на поясе, шагая по выложенным брусчаткой улочкам, и рубить гигантскую траву, обступавшую его, выставлявшую шипы, подобные рогам, и мохнатые жгучие листья, нравилось уничтожать этих чудовищ, которые, казалось, готовы были похоронить весь комплекс, и берег, и, быть может, все побережье под покровом удушающей зелени. Иногда, когда Уркиса посылал его на прополку у границ комплекса и он был уверен, что никто его не видит, не слышит и не будет смеяться над его играми, он устраивал настоящую бойню, беспощадную резню, прыгал и вопил и лягался, если чувствовал, что заросли хотят заманить его, – и так до тех пор, пока вокруг не оставалось ничего, кроме ковра сбитых листьев, переломанных рассеченных стеблей, истекающих своей зеленой кровью, как раненые на поле боя, и когда Поло, тяжело дыша, чувствуя, как струи пота щекочут лицо, вглядывался в эти кучи изуродованных растений, ему казалось, что там шевелится что-нибудь уцелевшее: кончики лиан простирали свои нежнейшие побеги, побежденные, но не уничтоженные, не сдавшиеся, не утратившие неколебимой воли плодиться и размножаться, сговариваться на своем шелестящем, похрустывающем наречии о возмездии. Но продолжалось это всего мгновение: конечно, листва слабо шевелилась от порывов ветра, а может быть, он был измучен тем, как беспощадно впивались солнечные лучи ему в затылок, отчего он и шел искать убежища под какой-нибудь тенью и, сняв бейсболку, обмахивался ею, охлаждая лиловое лицо, а когда приходил, наконец, в себя, вставал и продолжал свою бойню, пока не останавливал вторжение захватчиков или пока хлынувший дождь не загонял его в будку охранника по имени Сенобио – самого старого в комплексе, с обвисшими усами и глазами смирной собаки, – который пускал его туда за то, что Поло вместо него под дождем бегал открывать шлагбаум, впуская и выпуская жильцов. В отличие от Росалио, другого вахтера, помоложе и понаглей, старик был несловоохотлив, не выключал радио, передававшее какую-то романтическую музыку, а иногда, когда ливень со всей силы лупил по пластиковой крыше караулки, открывал дверь, доставал пачку сигарет без фильтра, предлагал Поло закурить, делал звук погромче, и они стояли вдвоем, смотрели, как снаружи бушует потоп. Это было даже приятно, когда внезапная свежесть умеряла полуденный зной; когда в отдалении грохотало и молнии рушились в волны близкого моря, а главное – можно было ничего не делать, не поливать проклятущий газон, не подстригать траву, не подкрашивать столбы, не изводить гоферов и кротов, не мыть машину идиота Уркисы, не убирать дерьмо за местными собачками, потому что ливень растворял свежие какашки и они исчезали в траве. Когда лило весь день, то Поло, бывало, уже в шесть часов скатывался по склону на шоссе, потому что Уркиса не знал, какое бы задание ему дать и к чему бы придраться, а толстяк уже в середине июня перестал подавать знаки из окна, пропал куда-то, хотя Поло был уверен, что, в отличие от многих других, он никуда не уехал на каникулы, потому что, обрезая время от времени цветы в переднем саду, слышал пронзительные крики, доносившиеся из коттеджа, – это Франко скандалил с бабушкой и дедом: может, он заболел или всего лишь впал в беспросветную тоску, оттого что семейство Мароньо в полном составе отправилось на Карибы, не попросив, чтобы его отпустили с ними, как дуралей надеялся, и, стало быть, он лишился волшебной возможности увидеть сеньору Мариан в бикини и парео, смуглую и сексапильную, как никогда, Поло оставалось только убивать время, совершая долгие прогулки по грязным дорогам поселка в поисках какого-нибудь знакомого, у которого можно стрельнуть сигаретку и завести банальный разговор о погоде, о ливне, да о чем угодно, лишь бы не возвращаться домой так рано, но чаще всего он бесцельно кружил по округе, а потом усаживался на поваленное дерево возле дома Мильтона, швыряя камешки в реку и размышляя о том, что же ему делать дальше, потому что вроде бы не осталось в Прогресо уже никого из приятелей или просто знакомцев, словно все их с Мильтоном сверстники навсегда подались в Боку или сбежали из-за «тех», а все, кто еще живет здесь, либо моложе Поло, либо старые распустехи-бездельницы, со всех них и взять-то нечего: со щенков этих – потому что все ходят под «теми» и очень бахвалятся своими рациями, пакетиками кокаина, смешанного со слабительным, своими вонючими мопедами, себя называют «соколами», хотя и до воробьев недотягивают, а с баб – потому что они знай рожают, так что кажется, что они и на этот свет пришли только затем, чтобы наплодить как можно больше детей да сидеть в палисаднике, откуда видна вся улица, да пялиться на то, что там происходит на улице, да посылать кокетливые воздушные поцелуйчики каждому, кто в штанах. Поло в самом деле тосковал по прежним временам, когда после – а то и вместо – школы шел к Мильтону или в лавочку доньи Пачи, и его брат – двоюродный, а родней родного – покупал курева и бухла, потому что был старше, и фарт ему сопутствовал, и денежки водились, и было что рассказать о своих приключениях, пережитых вместе с шурином, который был хозяином авторазборки в предместье Прогресо и часто отправлялся к южной границе на каком-нибудь здоровенном автомобиле, купленном за сходную цену у угонщиков из центра, и перепродавал его потом индейцам или гватемальским мафиози. И потому, утомясь шляться неприкаянно по улицам, Поло седлал велосипед и катил к дому Мильтона, незаметно для соседей перемахивал через изгородь в слабой надежде, что тот вернулся, и в еще более слабой – что если и не вернулся, то плохо припрятал что-то такое, что можно стибрить, продать и на эти деньги купить себе кварту тростникового спирта, однако уже по густому слою грязи и соли на оконных стеклах, по гробовой тишине, стоявшей внутри дома, по свободе, с которой пауки вили себе гнезда среди цинковых листов на крыше, было очевидно, что никого здесь давно уже нет, включая и жену Мильтона, которая через несколько дней исчезла, наверняка отправившись к родителям в Тьерра-Бланка, а может, и куда подальше, кто же это знает, у страха глаза велики, а ноги проворны, а те давно уж нагрянули в Прогресо, раскатывая все на своем пути. И потому Поло огибал дом Мильтона, подходил к его старому американскому фургону, засыпанному сухими листьями и засохшими цветами с мангового дерева, высившегося здесь, спускался на берег реки, садился на ствол поваленного дерева, который Мильтон всегда использовал как скамейку, и часами сидел, глядел на воду, казавшуюся неподвижной, и на бреющий полет стрекоз, бросал камешки, посасывал нежные тростниковые стебли, отбивая желание курить, сделать добрый глоток и утихомирить вихрь черных, бесплотных, но колючих мыслей, мотыльками вокруг лампы вьющихся у него в голове. Он глядел на воду, грыз тростинки и доставал из кармана телефон и расходовал кредит на сообщения Мильтону по его новому номеру, который тот продиктовал несколько недель назад, когда виделись в последний раз, еще до того, как Поло пошел работать в Парадайс, а потом еще подолгу сидел и напрасно ждал ответа от двоюродного брата, сидел до тех пор, пока не заходило солнце и вспыхивали огни Парадайса и соседних комплексов, бросая охристо-серебристо-желтые блики на бурые воды: в темноте оставался лишь заброшенный особняк, скрытый ветвями смоковницы на берегу, а виден был кусок фасада, изъеденный временем и замшелый, а на нем – три отверстия неправильной формы, всегда казавшиеся Поло глазами и ртом какой-то уродливой рожи, застывшей то ли в крике, то ли в зловещем хохоте – хохоте Кровавой Графини, которая еще в пору испанского владычества выстроила этот особняк и потом была насмерть забита палками за то, что была извращенкой, зналась с нечистой силой, любила похищать детишек и мальчиков-подростков, выбирая их среди рабов, обрабатывавших ее земли, подвергала нечеловеческим пыткам, а потом убивала, останки же бросала в ров с крокодилами, вырытый в подвале особняка, – по крайней мере, так передавали старухи Прогресо, и еще клялись и божились, будто в ночи полнолуния, когда начинается прилив и на берег выползают голубые крабы, призрак Графини, принявшей обличье ведьмы, перепачканной кровью своих жертв, в истлевших лохмотьях, некогда бывших ее парадными платьями, появляется на руинах своего дворца, воздевает руки к небу и душераздирающим криком взывает к силам зла о защите и в голубоватом свете оборачивается таинственной черной птицей, летит прочь над кронами деревьев – и тому подобный вздор, который неизбежно вспоминался Поло при виде этой кривой рожи, с издевкой смотревшей на него с другого берега, пока он наконец не сдавался и не уходил с этой прогалины, не дожидаясь, когда вдруг разом станет темно, и снова принимался бродить, как слабоумный дурачок, по безлюдному поселку, в этот час уже принадлежавшему шпане – соплякам с едва пробивающимися усишками, раздолбаям, заносчивым драчливым щенкам, которых Поло через силу, а все же должен был приветствовать, проходя мимо и поднося руку к козырьку бейсболки, потому что городок теперь принадлежал им, и они собирали с него дань от имени «тех»; и лишь когда есть хотелось совсем уж нестерпимо, возвращался домой, входил бесшумно в задние двери, через патио и, не присаживаясь, жадно уписывал черствый пирог с мясом, завернутый от тараканов в фольгу и оставленный Сорайдой на плите, запивая его лимонадом прямо из бутылки, извлеченной из холодильника, и стараясь не шуметь, чтобы мать не начала кричать из своей каморки, где она уже лежала в кровати с еще влажными после душа волосами, замотанными старой майкой на манер тюрбана, чтобы не намочить наволочку, и отсвет телеэкрана подрагивал на ее сосредоточенном лице и на теле Сорайды: та лежала на соседней кровати, выставив голый вздутый живот, блестящий от миндального масла, которым мерзавка эта его умащала, смеясь над бог знает каким вздором, грызя арахис или жуя чернослив, приправленный жгучим перцем, а перед ними обеими гудел вентилятор. Поло неслышно, как тень, входил в дверь, благо она была открыта, и валился на циновку, уже вонявшую козлом, опускал голову на свернутую дедову рубашку, телефон клал себе на голую грудь, чтобы завибрировал, если Мильтон, мать его так, соизволит отозваться. Первое, что он делал, проснувшись, и последнее – прежде чем уснуть, было взглянуть на экранчик и убедиться, что новых сообщений нет. Иногда Мильтон даже снился ему: снилось, что они о чем-то долго разговаривают, но вот вспомнить о чем не получалось ни разу. Еще иногда снился ему этот заколдованный особняк и смоковница на берегу реки: снилось, будто ее извивающиеся, как щупальца, корни разошлись в стороны и открыли в середине точно такой же дом – такой же замшелый и обветшавший, но только гораздо меньше размером, совсем маленький, кукольный домик, где билось в заточении окровавленное сердце Графини.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?