Текст книги "Сердца и судьбы"
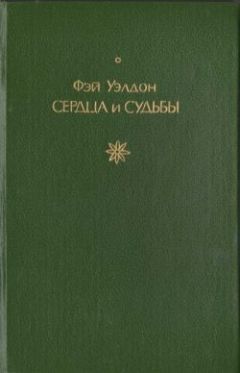
Автор книги: Фэй Уэлдон
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
УТРО ПОСЛЕ НОЧИ НАКАНУНЕ
Когда для Хелен настало следующее утро и пришел черед не луне, но солнцу освещать смятую постель, а Клиффорд вынужден был уйти на работу, вставать ей было как будто не для чего – разве что сварить им обоим по чашке кофе, да принять ванну, да позвонить по телефону. Ведь было абсолютно ясно, где она проведет следующую ночь. В постели Клиффорда.
В то первое утро Клиффорду в буквальном смысле слова было больно расстаться с Хелен. Он ахнул, когда вышел на улицу и глотнул холодного, чистого, утреннего воздуха, но не потому, что воздух обжег ему легкие, а от внезапно нахлынувшего сознания, что он не может вот сейчас коснуться тела Хелен, ощутить его, проникнуть в него. У него действительно заболело сердце, но по столь веской причине, что он отогнал эту боль и вошел к себе в кабинет, насвистывая и улыбаясь. Секретарши переглянулись. Как-то не верилось, что улыбка эта мысленно адресовалась Анджи. Клиффорд выбрал первую же минуту, чтобы позвонить Хелен.
– Ну как ты? – спросил он. – Что ты делаешь? Ответь точно.
– Ну-у, – сказала она, – я встала, выстирала платье, и повесила его у окна сушиться, и покормила кошку. По-моему, у нее блохи: бедняжка отчаянно чешется. Я куплю ей ошейник от блох, хорошо?
– Делай все что хочешь, – сказал он. – Я на все заранее согласен.
Он очень удивился своим словам. Но сказал чистую правду. Каким-то образом Хелен уничтожила в нем критическую взыскательность, во всяком случае на время. Он вверил ей свое тело, свою жизнь, свою кошку всего лишь после четырнадцатичасового знакомства. Он только надеялся, что это не скажется на его работе. Он взял газеты; зародыш отдела по связи между публикой и «Леонардо» (то есть Клиффорд в течение нескольких с трудом урванных в неделю часов) бесспорно показал себя великолепно. Прием и выставка занимали не один дюйм столбцов на внутренних страницах.
В любую минуту могло возникнуть беспрецедентное зрелище (беспрецедентное, так как речь идет о шестидесятых, не забывайте) – длинные очереди, выстраивающиеся на Пикадилли перед «Леонардо». Профаны (прошу прощения, широкая публика) будут дожидаться доступа к Хиеронимусу Босху, дабы увидеть то, что Клиффорд обозначил, как видение будущего, каким оно представало перед великим человеком. Тот факт, что фантасмагорические видения Босха отражали его собственное настоящее, а вовсе не будущее мира, и Клиффорд это знал, вызвал у него некоторые угрызения совести, но легкие. Лучше пусть публика найдет картины интересными, лучше широкие яркие чарующие мазки полуфантазии, чем скучный, педантичный пуантилизм реальности. Чуть-чуть передернуть истину ради Искусства – такой ли уж это большой грех?
В эту первую ночь, читатель, была зачата Нелл. Так, во всяком случае, клянется Хелен. Она говорит, что почувствовала, как это произошло. Ощущение было такое, говорит она, словно солнце и луна слились воедино внутри нее.
Во вторую ночь Клиффорд и Хелен умудрились прервать объятия на время, достаточное, чтобы обменяться друг с другом историей своей жизни. Клиффорд рассказывал, как не рассказывал еще никому, о своем травмированном детстве, когда его отправили в деревенскую глушь подальше от гитлеровских бомб, и он был совсем один, полный страха, потерявшийся, а его родители продолжали заниматься не им, а делами наций. Хелен устроила Клиффорду быстрый и не совсем точный (заметно сокращенный) смотр своих былых любовей. Он довольно скоро прервал ее признания поцелуями.
– Твоя жизнь начинается сейчас, – сказал он. – Все, что было прежде, не в счет. Все, кроме этого.
Вот так, читатель, встретились Клиффорд и Хелен, и так была зачата Нелл – в буре раскаленной добела и прочной страсти. Я воздерживаюсь от слова «любовь» – слишком уж это была бурная эмоция, чересчур чувствительный барометр, чья стрелка металась от «сильного дождя» к «ясно» и крайне редко сохраняла приятное вертикальное положение на «переменно» точно на середине, как время от времени положено барометрам, берегущим свои возможности. Но опять-таки «любовь» – единственное слово, которым мы располагаем, так что придется обойтись им.
На третью ночь по двери квартиры забарабанили кулаки, пинок разнес филенку в щепки, замок расскочился, и внутрь ворвался Джон Лалли, надеясь застать свою дочь Хелен и своего мецената-врага Клиффорда Вексфорда, как говорится, flagrante delicto.[3]3
На месте преступления, с поличным (лат.).
[Закрыть]
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
К счастью, Клиффорд и Хелен спали невинным сном, когда на них накинулся Джон Лалли. Они лежали в изнеможении на смятых простынях, волосатая нога там, нежная рука здесь, ее голова у него на груди. На посторонний взгляд малоудобная поза, для любовников же, то есть истинных любовников, наиудобнейшая, но не для тех, кто знает, что очень скоро они встанут и украдкой уйдут прежде, чем подойдет неловкий час завтрака. Истинные любовники спят крепко, зная, что ничто не кончится, когда они проснутся, а будет продолжаться. Это убеждение пронизывает их сон, они улыбаются. Треск ломающегося дерева вплелся в их сонные грезы и преобразился у Хелен в звук разбившейся скорлупы – из лежащего на ее ладони яйца вылупился пушистый цыпленок, а у Клиффорда – в поскрипывание снега под лыжами, на которых он умело и ловко несся вниз по горному склону. Зрелище его спящей улыбающейся дочери, его спящего улыбающегося врага, который похитил у него последнее сокровище, разъярило Джона Лалли еще больше. Он взревел. Клиффорд во сне нахмурился: под его лыжами разверзлась пропасть. Хелен зашевелилась и проснулась. Уютный писк новорожденного цыпленка перешел в хриплый вопль. Она села на постели. Она увидела отца и натянула простыню на грудь. Синяки еще толком не проступили.
– Откуда ты узнал, что я тут? – спросила она. Вопрос прирожденного заговорщика, который не чувствует себя виноватым, но чьи планы сорвались. Он до ответа не снизошел, но я вам расскажу.
По несчастной случайности – одной из тех, что преследуют влюбленных, – исчезновение Клиффорда с Хелен из-под сени Босха, стало темой крохотной заметки в светской хронике, и ее прочел некто Гарри Стивенс, habitue[4]4
Завсегдатай (фр.).
[Закрыть] трактира «Яблонька» в Нижнем Яблокове. Ну а у Гарри имелся родственник в «Сотби», где Хелен, работая сдельно, реставрировала глиняные сосуды, и он навел дальнейшие справки – вот так в глубины Глостершира проникла весть, что Хелен Лалли скрылась в доме Клиффорда Вексфорда и больше оттуда не выходила.
«Ну и дочечка у вас!» – сказал Гарри Стивенс. Джон Лалли не пользовался популярностью в округе. Нижнее Яблоково прощало ему чудачества, долги, запущенный яблоневый сад, но не прощало ему, чужаку, что он пил сидр, а не более крепкие напитки, и еще его обращения с женой. Иначе тема его дочери не была бы затронута, ее тактично проигнорировали бы. Ну а поскольку затронута она была, Джон Лалли допил свой сидр, сел в свой дряхлый «фольксваген», развивавший скорость до 25 миль в час, и, проехав всю ночь, на заре добрался до Лондона в жажде не столько спасти дочь, сколько раз и навсегда покончить с Клиффордом Вексфордом, этим отпетым негодяем.
– Шлюха! – вскричал теперь Джон Лалли, стаскивая с постели Хелен, потому что она лежала ближе к краю.
– Право же, папа! – сказала она, вывертываясь из-под его руки, вставая и надевая комбинацию. А потом добавила в сторону просыпающегося ошеломленного Клиффорда: – Я так сожалею! Но это мой отец.
Она заразилась у матери привычкой извиняться, и так никогда от нее и не избавилась. Однако ее мать произносила эту фразу трогательно, в надежде отвратить от себя потоки брани, Хелен же произносила ее как усталый упрек судьбам, иронически приподнимая изящную бровь. Клиффорд ошеломленно сел на постели.
Джон Лалли обвел взглядом стены спальни и картины на них, подводившие итог пяти годам его жизни: сгнившая винная ягода на ветке, радуга, разбитая жабой, веревка с сушащимся бельем в пасти пещеры… (Я знаю, в словесном описании они ужасны, но, читатель, это вовсе не так: сейчас они висят в самых престижных галереях мира и, проходя мимо, никто не содрогается – краски настолько сильны, резки и многослойны, что кажется, будто одна реальность наложена на целую серию других), потом перевел его на дочь, которая не то смеялась, не то плакала, смущаясь, волнуясь и злясь одновременно, а потом на сильное нагое тело Клиффорда с пушком светлых, почти белых волос на бронзовых руках и ногах (Клиффорд и Анджи недавно вернулись из Бразилии, где отдыхали, гостя во дворце коллекционера картин: мраморные полы, вызолоченные краны и так далее, и полотна Тинторетто по стенам, и палящее, выбеливающее солнце), и опять на смятую жаркую постель.
Без сомнения, чистота сердца и самоупоенная праведность удесятерили силы Джона Лалли. Он поднял Клиффорда Вексфорда, нахального щенка или надежду Мира Искусства – это уж зависит от вашей точки зрения – за голую руку и голую ногу, причем без малейших усилий, точно это был не молодой мужчина, а тряпичная кукла, и поднял высоко. Хелен взвизгнула. Кукла ожила как раз вовремя и свободной ногой заехала Джону Лалли в пах, в самое чувствительное место. Джон Лалли взвизгнул в свою очередь, кошка, которая провела теплую, но беспокойную ночь в уголке пенопластового ложа, наконец сдалась и ускользнула тоже как раз вовремя, ибо Клиффорд Вексфорд рухнул на то место, где она была секунду назад, поскольку Джон Лалли просто разжал руки. Клиффорд, не успев упасть, сразу вскочил, зацепил молодой гибкой ногой плохо гнущуюся лодыжку Джона Лалли и дернул так, что отец его любимой упал ничком и разбил нос об пол. Клиффорд, широкоплечий, мускулистый, молодой, гордо и голо выпрямился над своим поверженным врагом. (Он стыдился своего тела не больше чем Хелен. Впрочем, подобно тому как Хелен предпочла бы быть одетой в присутствии отца, так и Клиффорд, находись здесь ее мать, без сомнения, поспешил бы натянуть на себя хотя бы подштанники.)
– Твой отец скучная личность, – сообщил Клиффорд Хелен. Джон Лалли лежал ничком на полу, глаза его были открыты и прожигали келимский ковер, на котором сплетались тускло-оранжевые и матово-красные полосы. Эти цвета и узор позднее проявились в одной из самых знаменитых его картин – в «Бичевании святой Иды». (Художники, как и писатели, обладают даром использовать самые прискорбные и экстремальные события для достижения прекрасных художественных целей.) В наши дни ковры, вроде того, который был так небрежно расстелен на натертом полу клиффордовского чердака, большая редкость и стоят тысячи фунтов в универмаге «Либерти». А тогда их можно было купить фунтов за пять у любого старьевщика. Клиффорд, естественно, уже успел купить десяток прекрасных ковров – ведь его натренированный взгляд был обращен в будущее.
Джон Лалли не взялся бы решить, что было хуже – боль или унижение. По мере того как первая притуплялась, второе становилось все острее. Из глаз у него сочились слезы, нос кровоточил, пах мучительно ныл. Пальцы чесались. Двадцать пять лет он маниакально писал картины, но до сих пор, насколько он мог судить, без какой-либо коммерческой или практической пользы. Полотна затопляли его мастерскую, его гараж. Единственным человеком, который, казалось, отдавал им должное, был Клиффорд Вексфорд. Хуже того, как вынужден был признать художник, этот белобрысый щенок с его блудливым восприятием мира, его победительностью, касалось ли дело женщин, денег или общества, совершенно точно знал, как поощрить его талант то ободряющим словом, то аллегорическим шлепком, то движением бровей, когда во время своих периодических визитов он проглядывал полотна, сложенные на чердаке Лалли, в гараже и садовом сарае. «Да, вот это интересно. Нет, нет, недурная попытка, но все-таки не получилось, не так ли… А, да…» И молокосос Вексфорд отбирал именно те картины, которые были лучшими, как знал сам художник, ожидая поэтому, что именно ими мир и пренебрежет, и уповая, что пренебрежет, ибо тогда он получал возможность в свою очередь с большим вкусом презирать мир и пренебрегать им, – отбирал и забирал. Из рук в руки переходили пять фунтов или около того – достаточно, чтобы пополнить запас кистей и красок, но далеко не достаточно, чтобы заполнить кухонные полки, но, впрочем, об этом пусть Эвелин думает – и картины утаскивали, а в ящике для писем время от времени обнаруживался чек от «Леонардо», нежданный и непрошеный. Джона Лалли раздирал на части душевный разлад, он пылал бешенством, изнемогал от гнева, истекал кровью – такие страсти, думал Джон Лалли, уткнувшись лицом в келимский ковер, плача и кровоточа в него, могут причинить мне физический вред, то есть парализовать руку, которой я пишу. Он заставил себя успокоиться. Он перестал извиваться и стонать. Он замер.
– Ну, если вы кончили валять дурака, – сказал Клиффорд, – то лучше встаньте и уберитесь вон, не то я потеряю терпение и запинаю вас до смерти.
Джон Лалли продолжал лежать неподвижно, и Клиффорд небрежно пошевелил носком ноги его распростертое тело.
– Не надо, – сказала Хелен.
– Что захочу, то и сделаю, – ответил Клиффорд. – Посмотри, что он сделал с моей дверью! – И он отвел ногу, словно бы для могучего пинка. Он был очень зол, и не только из-за проломленной филенки, или из-за вторжения в его дом, или из-за оскорбления, нанесенного Хелен, но потому что в эту минуту он осознал, что ревниво завидует Джону Лалли, который пишет картины как ангел. А он, Клиффорд Вексфорд, по-настоящему хочет только одного: писать картины как ангел. А раз Клиффорд на это не способен, то все остальное теряет значение: деньги, честолюбие, статус – всего лишь жалкие заменители, эрзацы. Он хотел запинать Джона Лалли до смерти, вот в чем была суть.
– Ну пожалуйста, – сказала Хелен. – Он же чуть свихнутый и ничего с собой поделать не может.
Джон Лалли посмотрел на дочь и решил, что она ему нисколько не нравится. Самодовольная сучка, испорченная баловством (все Эвелин!), погубленная миром – дешевка, бездарная, испорченная. Он поднялся с пола.
– Сучка, – сказал он. – Как будто мне не все равно, в чьей постели ты валяешься.
Встал он как раз вовремя. Клиффорд разразился пинком, но промахнулся.
– Делай что хочешь, – сказал Джон Лалли, глядя на Хелен, – только чтобы ни я, ни твоя мать больше тебя не видели.
Вот как, читатель, встретились Клиффорд и Хелен, и вот как Хелен ради Клиффорда оставила своих родителей.
Хелен не сомневалась, что они с Клиффордом поженятся в ближайшем будущем. Они созданы друг для друга. Они – две половины единого целого. Это же ясно хотя бы из того, как сливаются воедино их тела, словно обретая наконец родной дом. Вот так действует на людей любовь с первого взгляда. Худо ли, хорошо ли, но вот так.
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
Клиффорд был горд и доволен тем, что открыл Хелен, а она была рада и благодарна, что нашла его. Он с изумленным недоумением оглядывался на свою дохеленовую жизнь, на случайные сексуальные эпизоды, на свою позицию «не звони мне, я сам позвоню» в любовных делах (а звонил он, разумеется, редко, едва обнаружив, что не испытывает особого интереса), на более пристойную, но столь же поверхностную брачную разведку по длинному списку более или менее подходящих невест, на частые и в конечном счете утомительные посещения с неверно выбранной спутницей верно выбранных ресторанов и ночных клубов. Как только он терпел все это? Ради чего? С прискорбием должна констатировать, что, оглядываясь назад, Клиффорд даже не подумал, скольким женщинам он причинил душевные муки или нанес социальный вред, или и то и другое вместе – он вспоминал только собственное уныние, собственную скуку.
Ну а Хелен казалось, что до этих пор она жила в серой тени. Зато теперь! Немыслимое солнце озаряло ее дни и теплыми отблесками подсвечивало ее ночи. Глаза ее сияли; она легко розовела; она встряхивала головой, и ее каштановые кудри взметывались, точно их переполняла жизненная энергия. Она иногда отправлялась в свою крохотную мастерскую в «Сотби» и всегда возвращалась не к себе в крохотную квартирку, но в дом и постель Клиффорда. Она получала почасовую плату – маленькую, но ее устраивала свобода, которую давала эта работа. Работая, она пела. Специальностью ее была склейка старинных глиняных изделий (большинство реставраторов предпочитали твердые острые края и краски керамики, но Хелен нравилась коварная, рассыпающаяся, слоистая мягкость старинных деревенских кувшинов и кружек, ставившая перед ней трудные задачи). Она забыла друзей и знакомых, предоставив подруге, с которой делила квартиру, платить за нее и отвечать на вопросы. Она больше не верила, что деньги, или репутация, или дружба хоть что-нибудь значат. Она была влюблена. Они были влюблены. Клиффорд богат. Клиффорд оградит ее от всех забот. А подробности не важны. Не важны бешенство отца, горе матери, поднятые брови ее нанимателей, подсчитывающих часы, которые она проработала за неделю. Клиффорд навсегда заменил ей родителей и друзей, ей никто больше не нужен: он крыша над ее головой, он одежда на ней, он солнце в ее небе.
Ну, любовь ведь не способна исцелять все, не правда ли? Иногда она представляется мне мазью, которую люди накладывают на свое раненое «это». Истинное исцеление приходит изнутри – терпеливое медленное продвижение к самопониманию, скрежет зубовный, неизбывная скука, нескончаемое раздражение, улыбки молочнику, плата за квартиру, утирание носов детишкам, умение скрывать обиду, утомление, злость – но Хелен даже слушать отказалась бы, читатель. Она была молода, она была красива, весь мир принадлежал ей. И она это знала. Она позволила любви сбить себя с ног и поглотить, а сама только воздела свои хорошенькие белые ручки к небу и сказала: «Что я могу поделать? Это сильнее меня!»
НОЖ В СПИНУ
Утром после стычки с Джоном Лалли Клиффорд вошел в свой кабинет в «Леонардо» с расшибленным кулаком и в сквернейшем настроении.
Первой в этот день у него была встреча с Гарри Бластом, нерыцарственным ведущим с телевидения, который умудрился не проводить Анджи домой после приема в честь Босха – его репортаж должен был стать заключением программы, носившей название «Монитор», Гарри робел и был уязвим. Клиффорд знал это.
Интервью проводилось в величественном отделанном панелями кабинете сэра Ларри Пэтта с видом на Темзу. Камеры Би-Би-Си были большими и громоздкими. По полу во всех направлениях извивались кабели. Сэр Ларри Пэтт робел не меньше Гарри. Клиффорд был еще настолько согрет жаром постели Хелен и своей победы над жалким пропащим художником, что не испытывал ни малейших сомнений в себе. Он впервые выступал перед камерами, но никто об этом не догадался бы. Собственно говоря, именно это интервью и вывело Клиффорда Вексфорда на его особую залитую светом прожекторов дорогу, по которой он достиг положения звезды в сферах искусства. Клиффорд Вексфорд говорит это, Вексфорд говорит то, сошлитесь на великого KB, и ваше дело в шляпе. То есть если у вас хватало духа обратиться к нему, рискуя медленным изничтожением или стремительным взлетом, заранее ничего предсказать было нельзя – быстрый взгляд блестящих темно-голубых глаз распознавал в вас того, кого следует выслушать, или отметал, причислив к легиону ничтожеств. Он обладал той правильностью черт, которую обожают телекамеры, и ясным находчивым умом, вдребезги разбивавшим лицемерность и самоупоение, хотя отнюдь от них не свободным, – как раз наоборот.
– Ну а теперь, – без обиняков начал Гарри Бласт, ведущий, когда камеры перестали любоваться панелями XVII века на стенах, зданием Совета Большого Лондона за рекой и полотном Гейнсборо над широким камином XVIII века и перешли к делу (вопрос этот он явно заготовил заранее.). – Существует мнение, что Совет по искусствам, под которым мы подразумеваем злополучных налогоплательщиков, взял на себя слишком большую долю расходов на выставку Босха, а «Леонардо» оговорил слишком большую долю прибыли. Что скажете на это вы, мистер Вексфорд?
– Это же ваше мнение, – парировал Клиффорд. – Почему вы не высказали его прямо и просто? Что «Леонардо» обирает налогоплательщиков…
– Ну-у… – сказал Гарри Бласт, растерявшись, а его огромный нос розовел все больше и больше, как бывало с ним всегда в минуты стресса. Хорошо еще, что цветное телевидение тогда не вступило в свои права, не то его многообещающая карьера оборвалась бы в самом начале. Ведь стрессы неотъемлемы от жизни тех, на ком держатся средства массовой информации.
– И как нам судить о подобных вещах? – спросил Клиффорд. – Как можем мы количественно установить, в чем заключается прибыль, когда речь идет об искусстве? Если «Леонардо» делает искусство доступным для изголодавшейся по нему широкой публики, чего государственные учреждения сделать не позаботились, так неужели же мы не заслуживаем, пусть не награды, так, скажем, небольшого поощрения? Вы видели очереди на улице. Надеюсь, вы не поленились навести на них свои камеры. Говорю вам, народ в нашей стране изголодался по прекрасному…
Ну и, разумеется, Гарри Бласт не позаботился снять очереди. Клиффорд это знал.
– Что до точного соотношения суммы, предоставленной «Леонардо» Советом по искусствам, мне кажется, фонды распределяются на паритетных началах. Ведь так, сэр Ларри? Здесь он – финансовый король.
И по мановению Клиффорда камеры повернулись к сэру Ларри Пэтту, а он, естественно, не мог ответить, не заглянув в соответствующие документы, и пробормотал что-то невнятное, вместо того чтобы громко и внятно оповестить мир о своей неосведомленности, как было бы разумнее. Сэр Ларри совершенно не годился для выступлений по телевидению: лицо у него было слишком морщинистым и несло печать излишеств, которыми он себя баловал, – отвислые брови и смакующие губы. У него тоже было беспокойное утро. На заре его разбудил звонок госпожи Бузер из Амстердама.
– Что за страна ваша Англия? – возмущенно осведомилась она. – Или вы настолько отвергаете цивилизацию, что у вас мужа соблазняют на глазах у жены, а муж женщины, которая соблазняет, никакого внимания не обращает?
– Сударыня, – сказал сэр Ларри Пэтт, – не понимаю, о чем вы говорите.
Он и правда не понял. Не находя в своей жене ничего привлекательного, он никак не предполагал, что у других мужчин может возникнуть влечение к ней. Сэр Ларри принадлежал к поколению и сословию, которые на женщин смотрели косо. Жену он себе выбрал елико возможно похожую на мальчика (как однажды Клиффорд указал Ровене, отчего она заплакала). Ему нельзя было вовсе отказать в воображении, но от эмоций ему становилось не по себе, и свои восторги он приберегал для искусства, вместо любви, для картин, вместо секса. Что само по себе было достаточным основанием для довольства собой – ведь по происхождению он принадлежал к среде, гордящейся своим филистерством, и, кажется, продемонстрировал достаточно решимости. Он знал, что у него есть все причины уважать себя. В трубке внезапно и к счастью воцарилась тишина, словно у госпожи Бузер ее трубку вырвали из рук. Его это не удивило. Истерика. С женщинами это часто случается. Он пошел в комнату Ровены и увидел, что она мирно спит в своей плоскогрудой манере. Беспокоить он ее не стал – во избежание истерики уже не из Голландии. Но в собственном доме. Он чувствовал себя неважно. Гарри Бласту стало ясно, что сэр Ларри принадлежит прошлому. Да и как же иначе? Ведь Клиффорд принадлежал будущему, а телевидение требует полярностей. Хороший – плохой, старый – новый, левый – правый, смешной – трагичный. Пэтт выходил в тираж, Вексфорд шел вверх. Вот так телесъемка стала началом падения сэра Ларри Пэтта, вершиной, от которой уходил вниз длинный пологий склон, и Клиффорд в тот день весьма охотно подтолкнул его в спину. Сэр Ларри ничего не заметил. Клиффорд заглянул в будущее и увидел, что оно сулит возникновение династии. Чтобы сделать Хелен королевой, ему прежде надо было стать королем. Значит, он должен самодержавно править «Леонардо», а фирме надлежит расти и меняться, преображаясь в один из тех сложных комплексов могущества и власти, которые столь быстро становятся слагаемыми современного мира. Ему придется проделать это украдкой, вести политическую игру и действовать на манер королей и императоров – требовать верности и добиваться вассальной преданности, никого не подпускать к себе близко, стравливать своих фаворитов, оставляя за собой власть над жизнью и смертью (власть нанимать и увольнять – нынешний эквивалент той власти), оказывая нежданные милости, обрекая нежданным карам; и улыбка его будет знаменовать благоденствие, а нахмуренные брови – горе и нужду. Он будет Вексфордом «Леонардо». Он, никчемный, дерганый, честолюбивый, беспокойный сын волевого отца перестанет быть аутсайдером, перестанет быть вращающейся вокруг солнца планетой, но сам будет солнцем. Ради Хелен он вывернет мир наизнанку.
Он вздохнул и потянулся, – каким могучим он себя чувствовал! Камеры Бласта ухватили вздох и потягивание, сделали из них заставку, которая обеспечила успех программе да так и осталась любимым кадром каждого художественного редактора для сюжетов, связанных с внутренними механизмами Мира Искусства. Что-то в нем было такое… прямо-таки ощущения миропомазания, того якобы исполненного мистической сути мгновения, когда корона в руках архиепископа впервые касается чела нового монарха. Вот что поймали камеры Гарри Бласта, сами того не ведая.









































