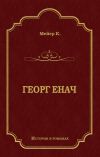Текст книги "А только что небо было голубое. Тексты об искусстве"
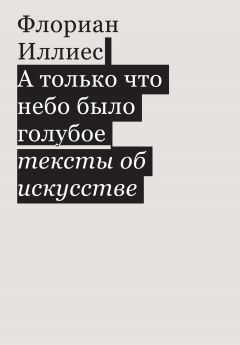
Автор книги: Флориан Иллиес
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
5. Набросок автопортрета
Главным антиподом Фридлендера был Бернард Беренсон [14]14
Бернард Беренсон (1865–1959) – американский историк искусства, художественный критик, специалист по итальянскому Ренессансу.
[Закрыть]. И если первый в соответствии со своей натурой занимался северными странами, то страстью Беренсона были итальянские художники. Фридлендер никогда не покидал свой кабинет и свой музей, а Беренсон жил как мелкопоместный князь Медичи в горах близ Флоренции, на своей вилле «I Tatti», окруженный выдающимися произведениями искусства. Они оба написали историю своих вкусов. Но только Беренсон написал автобиографию. И она называется соответственно – «Sketch for a Self-Portrait» [15]15
«Набросок к автопортрету» (англ.).
[Закрыть]. Фридлендеру даже не пришла бы в голову мысль о том, чтобы писать о себе, его рассказ о себе занимает полстраницы, важнее всего для него было то, что он родился всего в двухсот метрах от Музейного острова, что он практически никогда не покидал этот благословенный остров – пока немцы в 1933 году не вынудили его эмигрировать. Но если как следует поискать, то и в работах Фридлендера можно отыскать маленький «набросок автопортрета» – в его характеристике Поля Сезанна: «Пойдя на определенные жертвы, Сезанн вложил всю свою душевную энергию в свою способность видеть». Он избегает всего «громкого, смутного, расплывчатого». И далее: «Он проводит разграничительные линии из своей потребности обрамлять растекающиеся краски, как вставляют в оправу драгоценные камни». Три предложения – и перед нами весь Фридлендер. И здесь, на драгоценных камнях, замыкается круг: Фридлендер, сам происходящий из династии торговцев ювелирными изделиями, находит у себя в подсознании такие слова для одного из величайших и скромнейших мастеров в истории искусства, по которым становится ясно, что точность его взгляда на мир и его языка имеет корни в истории семьи – это умение определять на глаз количество каратов. Но он своеобразным образом развил эту технику: он шлифует неограненные алмазы твердыми и точными словами до тех пор, пока они не засверкают.
Граф Гарри Кесслер. Озноб на фоне модернизма
Тот, кто родился под именем Гарри Кесслер, в возрасте одиннадцати лет стал дворянином, а в тринадцать лет – графом, у того в течение всей жизни сохраняется чутье к классовым различиям. Граф Гарри Кесслер десятилетиями искал слова для разговора о красоте и эстетике, и на эти поиски всегда влияло его внимание к сословным привилегиям и классовому сознанию. Его чувствительность к социальным и общественным иерархиям особенно обостряется в дневниках, которые он вел во время катаклизмов конца Первой мировой войны. 18 ноября 1917 года он побывал в мастерской художника Жоржа Гросса – и произошло нечто удивительное. Граф Гарри Кесслер, сторонник новаторских вкусов, казалось бы совсем растворившийся в текучих линиях всемирного югендштиля а-ля Людвиг фон Гофман, Ван де Велде и Майоль, мгновенно понял значительность искусства Гросса. Вечером он записал в своем дневнике: «Вообще это новое берлинское искусство, Гросс, Бехер, Бенн, Виланд Херцфельде, чрезвычайно любопытно; искусство мегаполиса, с максимальной плотностью впечатлений, накладывающихся друг на друга; брутально-реалистичное и одновременно сказочное, как сам мегаполис, предметы будто освещаются слепящими прожекторами, искажаются, а затем исчезают в сиянии». Эта цитата очень показательна, потому что сейчас, сто лет спустя, нам потребовались две большие берлинские выставки («Смена времен» и «Танец на вулкане») с множеством экспонатов и толстыми каталогами, чтобы в общих чертах охватить то, для чего Кесслеру понадобилось всего одно предложение. И именно такие уплотнения смысла делают его великим, потому что это редчайшее умение – в качестве очевидца почувствовать и выразить то, что потом станет сущностью определенной культуры. Каждый, кто проводил вечера с толстыми красными томами его дневников, выпущенных издательством «Klett-Cotta», знает, что Кесслер без конца пытается сгустить свои впечатления до таких диагнозов – и, как правило, безуспешно. Потому что он хочет слишком многого, потому что он хочет стать теоретиком, хотя (к счастью) и не способен думать и чувствовать как теоретик; потому что в силу спонтанного восхищения он апеллирует к ложным авторитетам. Осмелюсь даже предположить, что Кесслер достигает особенной ясности взгляда тогда, когда увиденное его отталкивает и сбивает с толку. Когда увиденное чуждо ему. Когда он не может представить себе, что это могло бы стать иллюстрацией в одной из книг его издательства «Cranach-Presse». Кажется, у Кесслера было очень тонкое чутье на те моменты, когда появляется что-то совершенно новое, – именно потому, что он очень держался за эстетику рубежа веков и после 1905 года больше не расширял свой личный канон. Например, в мае 1913 года его смутила премьера «Весны священной» в Париже – притом что он любил ужинать и общаться с главными героями того времени – Нижинским, Равелем, Жидом, Дягилевым, Стравинским. Но то, что он увидел вечером 29 мая на сцене, спутало все линии на филигранной кранаховской гравюре эстетики графа Кесслера: «Совершенно новая хореография и музыка. Абсолютно новый взгляд, и внезапно появилось что-то доселе невиданное, захватывающее, убедительное; новый вид дикости одновременно и в искусстве, и в антиискусстве: все формы разбиты, новое рождается из хаоса». То, что Кесслер торопливо записывал в три часа ночи в свой дневник, по сей день остается одной из самых метких и убедительных формулировок модернистского сдвига, охватившего к 1913 году весь мир. Это вневременные и пророческие слова, как и его взгляд очевидца на берлинское «синхронное» искусство круга Гросса в период около 1917 года.
В те редкие моменты, когда ему удается добиться нужного сгущения смысла, происходит чудесное совмещение точных наблюдений и глубоких ощущений. Вполне возможно, что в ноябре 1917 года Кесслер видел в ателье Жоржа Гросса его еще не законченную грандиозную картину «Посвящение Оскару Паницце» [16]16
«Похороны (Посвящение Оскару Паницце)» (1917–1918).
[Закрыть]; он упоминает об «улице большого города», и едва ли кому-то удавалось описать все то, что катится сквозь Берлин на картине Гросса, эту пугающую и грандиозную череду сальных, потерянных, экзальтированных персонажей лучше, чем это сделал Кесслер своей спонтанной и меткой формулой: «брутально-реалистично и одновременно волшебно». Ведь блеск Гросса рождается именно из того, что о гримасах общества, о его ожирении и духовной пустоте он рассказывает в картинах, напоминающих иллюстрации к детским сказкам. Да, «волшебно» – таков и неотесанный слог стихов Готфрида Бенна из «Ракового барака», в которых Кесслер видит культурную параллель Гроссу.
Джордж Гросс – великий изобразитель взрывной силы общества, утратившего традиционные классовые различия после краха монархии. Это одна из причин интереса Кесслера к нему. Еще в детстве превратившись из сына банкира в графа, Кесслер до конца своих дней проявлял живейший интерес к тайным социальным кодам. Особенно важным моментом для сословного чутья Кесслера была взаимосвязь между общественным положением и эстетическим уровнем: «плебейский и безвкусный» – судя по записи в дневнике от 10 июля 1904 года – для него были синонимы. «Искусство бедных людей» – возможно, он сам придумал этот термин, так он любил им пользоваться. С явным удовольствием он пишет о своем визите к Вальтеру Ратенау [17]17
Вальтер Ратенау (1867–1922) – министр иностранных дел Германии (с 1 февраля по 24 июня 1922 года); сын промышленника.
[Закрыть] в 1919 году и резюмирует: «Сейчас время маленьких людей». А когда к нему наведался Рихард Демель [18]18
Рихард Демель (1863–1920) – немецкий поэт, писатель; сын лесника.
[Закрыть], он возмущается, что тот явился не во фраке, а в сюртуке, но потом смягчает тон: «Что ж, надо принимать его таким, какой он есть: гениальный лавочник».
Мало где мы найдем такое точное определение синхронности разных процессов в распадающемся классовом обществе и его абсурдности, как в дневниковой записи Кесслера от 24 января 1919 года в связи с убийством Розы Люксембург: «Завтракал с князем и княгиней Бюлов. Разумеется, говорили преимущественно о „Спартаке“ [19]19
«Союз Спартака» – революционная марксистская организация, участвовавшая в организации Январского восстания в Берлине (5–12 января 1919 года). Роза Люксембург была одной из основателей «Союза Спартака».
[Закрыть]. Чета Бюлов проживает в гостинице „Эден“ [20]20
Допрос Розы Люксембург проводился в гостинице «Эден», откуда она была конвоирована в тюрьму Моабит, по дороге ее посадили на катер, застрелили и бросили в Ландвер-канал.
[Закрыть] с тех пор, как из-за перестрелки им пришлось покинуть „Адлон“, и там они общаются с гвардейцами стрелковой дивизии. Княгиня говорит, что они ничего не заметили из событий, связанных с убийством Либкнехта и Розы Люксембург, что в гостинице все было тихо. Ее горничная сказала, что встретила Розу Люксембург в коридоре в сопровождении солдат и что эта невысокая женщина спокойно прошла мимо…» Это удивительный репортаж из затишья посреди революционной бури, когда старое и новое вдруг оказываются вместе и как будто не знают, куда свернуть.
Кесслер подробно описал в дневнике столкновение своего эстетического мира с чужим, меняющимся миром. 21 февраля 1919 года он написал о положении в Веймаре, где как раз формировалось Национальное собрание, которое он остроумно и пренебрежительно называл «чем-то средним между пивной и конклавом»: «В мой дом, который до сего момента был наполнен воспоминаниями о Ван де Вельде, Гофманстале, Гордоне Крэге, Майоле, Родене, Боденхаузене, Людвиге фон Гофмане, Ницше, вторгается что-то странное; это похоже на заводскую трубу в пейзаже». Говоря о «пейзаже», то есть о своем тонко организованном душевном ландшафте, Кесслер имеет в виду танцевальные движения некой Рут Сен-Дени [21]21
Рут Сен-Дени (настоящая фамилия Деннис; 1879–1968) – американская танцовщица, хореограф.
[Закрыть], которую он видел в 1906 году в Берлине. Людвиг фон Гофман [22]22
Людвиг фон Гофман (1861–1945) – немецкий художник, график, дизайнер.
[Закрыть] запечатлел ее стиль в своих сочных пастелях, которые кажутся идеальной иллюстрацией к дневниковой записи Кесслера от 18 ноября 1906 года: «Я никогда не видел искусства, которое с таким совершенством дарило бы нам то же самое, что и распускающиеся цветы, нежные листочки и свежее, чистое апрельское небо». Получается, искусство как природа – вот идеал Кесслера. Мы уже упоминали о том, что Кесслер – не теоретик. Однако он описывает 1919 год с помощью метафоры, которая ставит под вопрос его прежнее понимание искусства – ведь заводская труба означает не только индустриализацию, но и демократизацию. Он видит, что пришло время толпы, а его чувство прекрасного резонирует только с теми, кто ценит индивидуальное, «аристократическую форму искусства». Когда ровно через двадцать лет, 13 февраля 1926 года, Жозефина Бейкер [23]23
Жозефина Бейкер (1906–1975) – американская танцовщица, певица, актриса.
[Закрыть] танцевала у него дома, ее сначала смущало общество, собравшееся на суаре у Кесслера, она чувствовала себя не в своей тарелке – и только разглядев «Средиземное море», большую скульптуру Майоля, которая потом перекочевала из квартиры Кесслера в парижский музей Орсе, она раскрепостилась: «Было видно: скульптура Майоля для нее намного интереснее, живее, чем все люди, чем Макс Рейнхардт, Харден, я». Это, конечно, еще и завуалированный автопортрет: сам Кесслер, этот уникальный коллекционер знакомств, в дневниках которого зафиксированы встречи с тридцатью тысячами человек, после 1918 года все больше отдаляется от людей, ставших ему чужими, – живым же и интересным осталось для него столь любимое искусство модерна.
Это ощущение еще больше усиливается в двадцатые годы: человек-масса [24]24
«Masse Mensch» – драма Эрнста Толлера 1919 года.
[Закрыть], «Берлин, Александерплац» Дёблина – для него это все преддверие ада с эстетической точки зрения. Кесслер на все смотрел с эстетической точки зрения – и был при этом убежден, что с точки зрения морали положение стало не менее адским. 25 мая 1927 года, путешествуя на поезде из Цюриха в Германию, он записал с неприязнью: «Во Фрайбурге мне бросилась в глаза уродливость людей. И день тоже мерзкий, серый. Не очень-то приятное возвращение на родину, вместо радости – чувство озноба, физического и эстетического». В 1919 году он еще мог согреться воспоминаниями об эстетических линиях модерна, он кутался в них, как в одеяло. В 1927 году эти воспоминания поблекли, модерн самоликвидировался под натиском «Баухауса», и вот граф Гарри Кесслер остался без эстетической родины посреди стремительной современности. Заводские трубы закоптили весь пейзаж. Или, как говорил Кесслер: «Все теперь по-пролетарски. Все для витрины, все для лавочников». Граф разочарован эстетической непритязательностью масс. В 1901 году, в свои золотые дни, он приехал в Брюссель к Ван де Вельде и записал 7 марта: «Он отрицает, что его искусство имеет иную цель, помимо идеальной красоты. Он считает, что sérénité [25]25
Спокойствие (франц.).
[Закрыть] имеет этические последствия в духе Рёскина, потому что оно укрепляет человека, живущего в безмятежности, – то есть экономит ему те силы, которые приходится тратить на защиту от уродства». Именно этих сил для защиты от уродства не хватило графу Гарри Кесслеру в новообразованной Веймарской республике. Ему стало холодно.
Фрэнсис Хаскелл. История вкуса
На оксфордском небе есть звезда, никогда не меняющая своего места. Ночь за ночью она светит над Уолтон-стрит, и лишь немногим довелось видеть, как она гасла. При свете этой обыкновенной неоновой лампы за последние тридцать лет были написаны важнейшие тексты об истории современного искусства. Мало того – многим студентам Фрэнсиса Хаскелла, вернувшимся домой из кино или из бара, этот благодатный свет строго напоминал об их обязанностях. Может быть, беда немецких университетов в том, что студенты нынче не могут наблюдать за работой своих профессоров.
Первой большой темой Фрэнсиса Хаскелла был вопрос о том, как возникает продуктивность. В 1963 году вышло его исследование «Patrons and Painters» [26]26
«Заказчики и художники» (англ.).
[Закрыть], в котором он попытался осветить искусство с точки зрения не художника, а заказчика. На примере итальянского барокко с помощью огромного числа источников Хаскелл показал, насколько наивной является вера в неограниченную фантазию художника и насколько определяющими для многих центральных произведений мирового искусства были желания и вкус заказчика. Книга, с непостижимым запозданием в тридцать пять лет изданная на немецком языке («Maler und Auftraggeber», Кёльн, 1995), в англоязычных странах сразу после появления приобрела множество поклонников. Но если Хаскеллу удалось дать искусству совершенно новую, свежую систему координат, то многие его последователи увязли в биографических деталях. В поисках авторов, сопоставимых с Хаскеллом по части глубины проникновения в материал и неподражаемого оживления исторических источников, нам придется обратиться к истории, к «Статьям по истории искусства Италии» [27]27
«Beiträge zur Kunstgeschichte von Italien: das Altarbild, das Porträt in der Malerei, die Sammler» (1898).
[Закрыть] Якоба Буркхардта. Поэтому неслучайно то, что Хаскелл любит называть Буркхардта своим «героем», а в своем последнем монументальном труде «История и ее образы» (Мюнхен, 1996) буквально ставит ему памятник. Довольно забавно, что Хаскелл приобрел известность в Германии прежде всего благодаря этой книге, которая на примере меняющегося взгляда на прошлое рассказывает ясную и прозрачную историю развития науки в течение столетий. Все-таки эта примечательная работа наименее характерна для его мышления.
Ярче всего нестандартный взгляд Хаскелла на историю искусства воплотился в его книге «Rediscoveries in Art» [28]28
«Повторные открытия в искусстве» (англ.).
[Закрыть], вышедшей в 1976 году. В этих лекциях Хаскелл обращается к той области искусствоведения, которую у нас так бездушно именуют «рецепцией» и которая была для него связана с taste, со вкусом. То, что началось в «Patrons and Painters» с анализа пожеланий заказчиков, развивалось в многочисленных статьях и рецензиях, стало тут совершенно самостоятельным жанром – историей вкуса.
Главы этой книги, посвященной в основном искусству Англии и Франции XIX века, переполнены сведениями из опубликованных и неопубликованных документов, писем, картин – как и другие его книги. Стоит прочитать лишь несколько предложений, и тебя уже затягивает стиль Хаскелла. Он избегает иностранных слов (и ссылок на вспомогательную литературу), ценит мягкую иронию, но больше всего – оригинальные источники. Двумя-тремя фразами он набрасывает масштабные портреты главных и второстепенных фигур в истории искусства – что в Италии XVII, что в Берлине XIX века. В эти фразы невозможно вместить больше информации, их невозможно сформулировать лаконичнее. Его книги – бодро текущий речитатив, преподносящий свои тезисы не под гром фанфар, а тихими созвучиями, как бы невзначай. В книге «Rediscoveries», до сих пор не переведенной на немецкий, он приводит убедительные доказательства того, что в прошлом веке «старыми мастерами» называли только тех художников, о которых на какое-то время забыли. А в другой главе он демонстрирует, что движение прерафаэлитов в Англии отнюдь не повысило, а скорее снизило интерес к искусству, существовавшему до Рафаэля. Впрочем, Хаскелл редко решается на такие обобщения, обычно он старается ввести нас в кабинеты коллекционеров, показать, что происходит у них в головах и мыслях. И в результате ему удается почти невозможное: реконструкция вкуса далекого прошлого.
К сожалению, в Германии Хаскелл до сих пор остается искусствоведом для искусствоведов. Вероятно, для многих он недостаточно претенциозен и слишком эмпиричен. По словам его самого известного ученика и знатока Николаса Пенни [29]29
Николас Пенни (род. 1949) – английский историк искусства, куратор.
[Закрыть], метод Хаскелла заключался в отсутствии такового. И правда, Хаскелл предпочитает описывать, а не анализировать. Но его описания, как правило, и оказываются самым умным анализом. Может быть, Хаскелл был первым истинно британским искусствоведом, противопоставившим континентальной эстетической традиции свою, совсем иную трактовку истории искусства.
Под руководством Николауса Певзнера [30]30
Николаус Певзнер (1902–1983) – английский историк архитектуры.
[Закрыть], немецкого эмигранта, изучавшего английские элементы в английском искусстве, Фрэнсис Хаскелл написал диссертацию об иезуитской архитектуре. С 1967 по 1995 год он преподавал в Институте искусствоведения Оксфордского университета – и работал в своем глубоком домашнем кресле. Сегодня ему исполняется семьдесят [31]31
Статья написана в апреле 1998 года для «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
[Закрыть]. И для него это не повод хотя бы на день выключить настольную лампу.
Карл Шефлер. Судьба как шанс
Последний шанс навсегда забыть о Берлине был упущен в 1648 году. После окончания Тридцатилетней войны в самом Берлине уцелело 556 домов, а в Кёлльне [32]32
Городок, примыкавший к Берлину и впоследствии поглощенный им.
[Закрыть], другой части города, – 376. Жители разоренного города всерьез обсуждали возможность коллективного переселения, но что-то им, увы, помешало осуществить это намерение.
Увы? Да, увы. Читая полное ненависти объяснение в любви к этому городу, которое Карл Шефлер написал в 1910 году [33]33
Scheffler, Karl. Berlin, ein Stadtschicksal. [1910]. Berlin: Suhrkamp, 2015.
[Закрыть], понимаешь, что Берлину не суждено обрести себя, потому что – как в греческой трагедии – страдания этого города являются условием его существования. Продолжим тему мифологии: если Берлин – незаконнорожденный сын греческого бога и человека, то его отцом был, скорее всего, Дионис, а матерью – секретарь профкома западноберлинского паспортного стола. Если такие ассоциации кажутся вам сейчас несуразными, то ваша ошибка в том, что вы прочитали только послесловие. Ибо любой, кто прочитает хотя бы две-три страницы анализа Карла Шефлера, заметит, что подзаголовок «судьба города» в данном случае – гораздо больше, чем фельетонное краснобайство или лишнее уточнение. Шефлер первым так филигранно сформулировал, почему Берлину никогда не уйти от своего фатума. Поэтому в последней фразе этой книги тоже говорится, что Берлин «обречен на то, чтобы становиться, но не быть». Когда ты видишь эти слова, «обречен на то, чтобы…», прочитав уже двести страниц, это подобно удару кинжала, это внезапный рывок, за доли секунды натягивающий нить между берлинским вокзалом «Цоо» и греческой мифологией.
Утратив упоминание об «обреченности», фраза Шефлера стала излюбленной банальностью в литературных салонах Шарлоттенбурга, Далема и Панкова, которую цитировали всякий раз, когда кто-то жаловался на очередной долгострой в районе Митте [34]34
Районы Берлина.
[Закрыть]. Но именно фактор обреченности, то есть неразрывной связи с судьбой, придает этой фразе ту сложность и ту простоту, которая и побудила Шефлера сделать ее финальным предложением своей книги, выводом из своих мучительных размышлений. Это превосходный афоризм, всего из восьми слов – но его можно понять до конца, только прочитав книгу, это квинтэссенция двухсот страниц, двух тысяч лет. Редко встретишь такой талант наблюдателя, редко где так ясно виден метод анализа, как в книге Шефлера, выводящего свои взгляды из запутанной истории города, этого «поселения германских земледельцев и славянских рыбаков, разросшегося до многомиллионного города».
Ошеломляющий вывод, который Шефлер сделал на основе глубокого изучения Берлина и его истории, таков: он всегда оставался колониальным городом. Город переселенцев, в который всегда кто-то страстно стремится – гугеноты, уклонисты от службы в армии, силезские рабочие или вот теперь швабские стартаперы. Марк Твен в 1891 году, после своего первого посещения Берлина, история которого насчитывала тогда примерно 650 лет, с восхищением отмечал «новизну» города («это самый новый город из всех виденных мною»), хотя сам он приехал из молодой Америки, в которой в то время города росли как грибы после дождя, и это свидетельство того, каким сильным было впечатление. «Новостная лента» – конечно, берлинское изобретение, нигде больше нет такой одержимости настоящим моментом, а «режим реального времени» (Давид Гугерли [35]35
Давид Гугерли (род. 1961) – швейцарский историк, специалист по истории технологий.
[Закрыть]), доминирующий после 2000 года, обрел в Берлине точку кристаллизации. Шефлер ясно показывает, откуда взялся этот культ новизны. Его анализ 1910 года продолжает быть актуальным уже сто лет, и даже две мировых войны и четыре разных формы немецкой государственности ничего не изменили. Раньше переселенцы приезжали на телегах, потом на международных поездах, а теперь прилетают самолетами авиакомпании «Easyjet» – пророчество продолжает сбываться. Оно остается скрытым двигателем этого города, бездумно спешащего вперед. Только в Берлине можно услышать вопросы «Ты живешь все там же?» или «Ты работаешь все там же?», задаваемые с удивлением и оттенком презрения. Статус-кво здесь всегда кажется сомнительным и нужен только для того, чтобы его преодолеть. Когда у какой-нибудь берлинской галереи современного искусства кончаются идеи, она всякий раз открывает «новое пространство», как будто такое открытие само по себе является содержательным высказыванием. Тот, кто прочитал Шефлера, понимает, почему Берлин – город «проектов», «проектных пространств» (восточноберлинский вариант – «пятилетний план»), почему этот город так гордится, когда его называют «лабораторией», почему тут расцветает не экономика, как в других городах, а только мечты. Тут почти нет прилично оплачиваемой работы, зато имеется много работы с телом, работы над отношениями и работы с прошлым. Единственная отрасль, расцветающая в Берлине, – разумеется, интернет-технологии, потому что только в этой сфере критерием оценки может быть фантазия, а не какой-то скучный объем годового оборота. И конечно же, это идеальное место для съемок кино: тут мало промышленных проектов, зато много материала для личных проекций. Этот город так сильно любит возможности и так мало реальность, что тут даже булочные называются «Хлеб и не только», а ночные лавки – «Интернет и не только». Всегда нужно больше. Или так: «За горизонтом путь продолжается» (Удо Линденберг [36]36
Удо Линденберг (род. 1946) – немецкий рок-певец, писатель, художник.
[Закрыть]).
Шефлер называет людей, переселяющихся в Берлин, «пионерами», и мы до сих пор видим ту же самую идею: на въезде в город прибывающие видят плакаты «Be Berlin». Город как источник вечной молодости: неспроста песня «Не забудь плавки» [37]37
«Pack die Badehose ein», песня Конни Фробёсс (1951).
[Закрыть] так и осталась единственным всемирным хитом из Берлина. Новые тренды – это манна, которую город раздает как разовое денежное пособие всем, кто проходит через ворота на границе этого «города и не только». На протяжении столетий в город приезжали гугеноты и вольнодумцы, религиозные вольнодумцы и евреи, потому что здесь им была гарантирована «свобода вероисповедания». В этом до сих пор и кроется главная причина, пусть даже теперь вероисповедание давно уже не связано с религией. Шефлер и это предвидел: «Религиозный рационализм в сдержанном, протестантском Берлине так долго и настойчиво задавался вопросом „зачем?“, что священнику приходится отвечать так, будто он наполовину философ». С тех пор секуляризировалась и вторая половина, поэтому на вопрос «зачем?» половину ответов в Берлине дают философы, а другую половину – бармены. А ответ такой – «затем». Или, как говорит Шефлер: «Тезис Гегеля о том, что все действительное разумно, можно считать разновидностью прусского самооправдания».
Но в этом городе данность никогда не является предпочтительным местом пребывания. Люди стремятся отдохнуть в ближайших пригородах, в ближайшем будущем. «Афины на Шпрее» – это не прозвище, а сознательная ложь.
Для пионеров Берлин – город мечты, а потом оказывается, что он совсем сам по себе, совсем колониальный город, согласно пророчеству. Берлин терпит неудачу всегда, когда от него ждут результата. Если бы мы вовремя прочитали Карла Шефлера, то всей Германии не пришлось бы после 1989 года с нетерпением ждать, когда же в Берлине родится «столичный роман», и мы сразу поняли бы, что на самом деле никто никогда и не собирался открывать новый «столичный аэропорт».
Читая Шефлера, мы понимаем также, что в Берлине бессмысленно надеяться на сохранение традиций. Единственная традиция, которую тут чтут, – отсутствие традиций. Тот факт, что про книгу Шефлера надолго забыли, лучше всего подтверждает этот тезис. «Берлин. Судьба города» еще и потому очень умная книга, что сама она от начала до конца иллюзорна – наверное, никто так не увлекался Берлином, как Шефлер, он обошел весь город, прошел по его магистралям и отчаялся, потому что они ведут в никуда, он проплыл по всем его рекам и опять отчаялся, потому что этот город просто игнорирует свое расположение у воды «и не проявляет к ней нежности, как это делают Париж, Гамбург и Франкфурт» (гениальное наблюдение). Зато этот город, обуянный своей скоростью, проявляет нежность к транспортным потокам, к эстакадам наземного метро, к трамваям, он поворачивается к ним лицом, а не спиной, а еще к шестиполосным проспектам, где на тротуаре можно после занятия йогой сесть за деревянный столик и отведать биоговядины с пастбищ Уккермарка. Это такой антрекот а-ля Шефлер.
Сильнее всего Шефлер сердится, когда речь заходит о градостроительстве и архитектуре, это конек великого критика культуры, у него прямо-таки перехватывает дыхание от «уродливости», но при этом ему удаются замечательные гневные тирады против хаоса в городском планировании, бестолковости уличной сети, однообразия новых районов Восточного Берлина (Пренцлауэр-Берг, Митте). Шефлер раз за разом сыплет соль на рану: да, этот город не вырос естественным образом, у него нет годовых колец, как у дерева, а есть только бессмысленные, не связанные друг с другом наросты (и поэтому город не может порождать по-настоящему великую культуру). Шефлер показывает, почему такие корифеи немецкой культуры, как Гёте, Шиллер, Бетховен и Бах, чурались Берлина и почему трагедия Генриха фон Клейста неслучайно разыгралась именно в Берлине: «Разумеется, Клейст остался бы непонятым повсюду в Германии, но нигде его не ткнули бы носом в безнадежность его положения с такой жестокостью, как в этом городе, на котором лежало клеймо отсутствия всякой фантазии». Его не может утешить даже Шинкель [38]38
Карл Фридрих Шинкель (1781–1841) – немецкий архитектор, художник.
[Закрыть], потому что и этот великий творец пал в конце концов жертвой берлинской генетики: «Он по-своему гениален, но гениален лишь в рамках возможностей жителя колониального города».
Точно так же, как Шефлер бесконечно фланировал по Берлину, он прошерстил и историю этого странного города, просеял ее через сито, пока не познакомился лично с каждой песчинкой. Так появилась эта книга – и нас не должно удивлять, что она не только является подробным путеводителем по ментальному ландшафту Берлина 1910 года, но способна не менее точно объяснить загадки этого города в 2015 году. Потому что Шефлер сам заявляет в своей книге, что ДНК Берлина, которую он определил как первооткрыватель генома, будет и в будущем играть ключевую роль в характере города. Скрупулезно описывая особенности этого города с учетом его хромосом, он одновременно описывает, пусть и полуфразами, но так же метко, тайные коды Дрездена, Гамбурга, Мюнхена, Данцига и Лондона. С помощью Шефлера мы учимся воспринимать каждый город как индивидуума, излучающего определенное настроение, определенную температуру, определенный аромат, рождающийся из уникальной, формировавшейся столетиями мозаики: географического положения, правителей, культуры, гражданского общества и традиций.
В большом шефлеровском анализе ДНК имеется огромное множество малых участков, на которых он с помощью разбора хромосомного состава делает выводы удивительной и подкупающей ясности. Например, почему берлинцы неспособны строить красивые площади (теперь мы видим, что Потсдамер-плац и буйство вокруг нового главного вокзала этот тезис, увы, не опровергают). Почему Адольф Менцель мог бы стать художником мирового уровня, если бы его не постигла печальная участь работать в Берлине. Почему Уккермарк невыносим для всех, кроме отшельников вроде Бото Штрауса [39]39
Бото Штраус (род. 1944) – немецкий драматург, прозаик, эссеист.
[Закрыть]: «Этот бескрайний восточный край, который будто уводит тебя на Русскую равнину, тоскливые и одинокие пашни да пастбища до горизонта». Эту старую книгу можно целиком читать как путеводитель по современному Берлину. Даже в тех местах, где она, казалось бы, уходит в дебри истории, современность вдруг проглядывает через ассоциации, вызванные чтением. Например, когда Шефлер утверждает, что берлинцы рано или поздно уничтожают всё (дома, героев, империи), кроме солдатчины, этот взгляд кажется нам устаревшим – и тут вдруг перед глазами всплывает та странная картина, когда во время «Парада любви» на площади Большая Звезда колониальный город демонстрировал свое обнаженное счастье и под грохот музыки спокойно двигался мимо статуй важных прусских генералов. Даже колонна Победы теперь ни у кого не ассоциируется с Франко-прусской войной, она если с чем-то и ассоциируется, то с футбольными победами на так называемой «фанатской миле».
Еще более дальновидным оказался анализ Шефлера на тему того, как народ перекраивает правителей по своему фасону: «Население города незаметно влияет на психику правящей династии и потом узнает себя в своих представителях». В 1910 году Шефлер хотел этим уязвить берлинцев, которым за несколько столетий удалось низвести духовный уровень прусской королевской династии с Фридриха Великого до Вильгельма II. Но когда мы читаем у Шефлера, что главные гогенцоллернские добродетели – это «чувство долга», «сухая деловитость», «самоирония» и «суровый реализм», то на примере восточногерманской помещицы Ангелы Меркель мы понимаем, что берлинцы не просто желают увидеть себя в своих правителях – они делают так, что в этих правителях себя узнают и баварцы, и жители рейнских областей, и гамбуржцы. Архитектуру бывшей резиденции Гогенцоллернов, городского дворца, Шефлер тоже разобрал тщательнейшим образом. Если бы Шефлер узнал, что в бывшей резиденции, за восстановленными барочными фасадами, собираются открыть «центр мировых культур» с этнологическими выставками – а в нем, как объявил не кто иной, как сам председатель фонда «Прусское культурное наследие», «мир взглянет на себя», то он рассмеялся бы от того, как все просто и безнадежно. Мало где берлинская мания величия, прикидывающаяся смирением, проявляла себя ярче, чем в этом проекте, мало где неотесанное берлинское тщеславие разоблачало себя так откровенно, как в планах городского правительства посвятить несколько помещений выставке «welt.stadt.berlin». Точка. Точка. Точка. Колониальный город Берлин обретает себя в новом колониализме, призванном осчастливить планету и замаскированном под гигантское «кафе третьего мира». Здесь мир увидит не себя, а единственно и только берлинскую самооценку. Но не стоит переживать, это всего лишь гены города, успокоил бы нас Шефлер. А я упомяну еще, чтобы не отпугнуть вас, любезнейший читатель, от этой книги: как минимум не хуже пассажей о вечном духе колониального города гневные тирады Шефлера против «колонизаторской непритязательности сортов берлинского хлеба, которая превращает еду в неизбежное зло». Или вот, мое любимое место: «Берлин – не результат городской культуры, а продукт строительного рынка». «Это твой проект», – кричит реклама со стен берлинских строительных супермаркетов – совершенно в духе шефлеровского анализа. То есть мы понимаем: надо бежать прочь от этих проектов, из строительных магазинов, и читать эту книгу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?