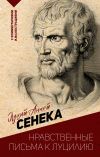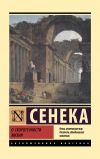Текст книги "От тьмы к свету"
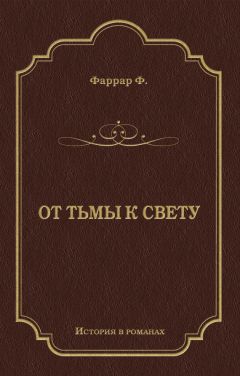
Автор книги: Фредерик Фаррар
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава VI
Навряд ли оказался бы во всем Риме другой человек, которому после молодого императора завидовали бы больше, чем завидовали Сенеке, воспитателю императора и первому после него лицу в империи. Философ, ритор и образцовый стилист по единогласному признанию критиков той эпохи, он, действительно, был человек бесспорно замечательно даровитый, обладавший чрезвычайно широкими познаниями и к тому же громадными богатствами. Но, к сожалению, в глазах потомства философ этот много повредил себе несчастной попыткой войти в невозможный компромисс, немало пошатнувший его репутацию, – и все-таки не спасший его. Не место было философу при безнравственном дворе римских цезарей. Трудно было оставаться на высоте учения стоиков и одновременно быть покорным исполнителем воли Нерона. Не могли не отзываться неискренностью громкие восхваления добродетели и трескучие фразы в защиту бедных и угнетенных в устах человека, находившегося в самых тесных сношениях с людьми, без совести и без стыда утопавшими в грязи всевозможных пороков, непрестанно окруженного толпой льстецов и не умевшего с должной энергией бороться с собственными поползновениями к алчности и суетливому тщеславию.
А между тем этот человек, даже замкнувшись в скромной жизни частного лица, мог бы быть так счастлив, посвятив себя исключительно одним литературным философским занятиям. Дом его был полной чашей, его сады роскошны и обширны; жена его, Паулина, была женщина любящая и кроткая; его сын, Марк, которому было предрешено погибнуть в самом расцвете юных сил насильственной смертью, был прелестный ребенок, восхищавший всех как своим счастливым веселым нравом, так и замечательными умственными способностями. Но, на свою беду Сенека имел несчастье попасть в заколдованный круг придворной жизни. Вечно опасаясь потерять расположение к себе Нерона, он постоянно принужден был, болея душой, потворствовать тому, чем возмущалась его совесть, одобрять то, что было ему ненавистно. Как ни короток был промежуток времени, прошедшего со дня кончины Клавдия, Сенека однако ж уже успел убедиться за это время, что, стараясь сдерживать Нерона, он, собственно говоря, держит за уши волка; да и со стороны многие уже начинали смотреть на него, как на впряженного в колесницу легкомысленного ученика, контролировать поступки которого делалось ему не по силам.
Однажды после полудня, задумчивый и, видимо, расстроенный, Сенека сидел в своем рабочем кабинете – просторной комнате с длинными рядами полок, на которых лежали избранные сочинения лучших авторов в свитках из тонкого пергамента и папируса, накатанных на палки из слоновой кости. Но сегодня этот даровитейший, влиятельнейший и богатейший из римских сенаторов того времени был не то встревожен тяжелым предчувствием, не то раздосадован теми намеками на свою постыдную и малодушную угодливость перед Нероном, какие в это утро ему пришлось выслушать от одного из многих своих посетителей.
В этот день к Сенеке первым явился брат его, Галлион, недавно вернувшийся из Ахаии, где занимал пост проконсула, и с которым философ долго беседовал по душем. Галлион, между прочим, рассказал один маленький эпизод, которому Сенека много смеялся. Однажды толпа кориноских евреев привела к нему на суд своего раввина, обвиняя его в единомыслии с какими-то сектантами – последователями учения одного злодея, распятого будто бы за попытки взбунтовать народ, а всего вернее, в угоду беспокойной еврейской черни, в царствование Тиверия, в эпоху прокураторства Понтия Пилата. Этого раввина звали Павлом.
– Конечно, я отклонил от себя всякое разбирательство догматов этого гнусного суеверия, – сказал Галлио.
– Так-то оно так, – заметил в раздумье Сенека, – но многим ли лучше наша мифология?
Галлион пожал плечами.
– Эти боги – боги черни, а не наши, – сказал он, – они излишни для правителей.
– Ты знаешь ведь, к сонму этих богов недавно причислено еще новое божество – божественный Клавдий, – сказал Сенека.
– Да, – многозначительно проговорил Галлион, – нового этого небожителя вознесли в сферу богов не без крючка. Однако, ты не дал мне досказать истории с раввином. Этот Павел – по рождению простой еврей, – был, как кажется, прежде чем-то вроде обыкновенного ремесленника; но, так или иначе, ему удалось как-то, несмотря на его нелепые верования, войти в доверие к Эрасту и многим другим грекам. Странно сказать, но этот любопытный субъект, исповедуя веру в религиозные догматы самого бессмысленного содержания, в то же время проповедовал, как мне передавали, чрезвычайно оригинальный кодекс очень высокой этики. Не без любопытства смотрел я на него. Он был одет в обыкновенный костюм восточных евреев; с чалмой на голове и в грубом полосатом хитоне поверх туники. Роста он невысокого, лицо типичное настоящего еврея. Но в глазах его, хотя и больных, воспаленных, было что-то особенное. Ты знаешь ведь, я полагаю, до какой виртуозности доходят эти евреи в искусстве визгливо кричать и шуметь, как только рассвирепеют. Даже и здесь, в Риме, случалось нам слышать их гвалт, и ты сам, конечно, не забыл того памятного дня, когда Цицерон, оглушенный их криками до того, что чуть было не позабыл, о чем должен был говорить, принужден был свою речь произнести шепотом, чтобы не могла ее слышать собравшаяся на форуме толпа евреев. Да и в самом деле, кого же не приведет в ужас, будь он даже и римлянин, эта грязная толпа людей, дико жестикулирующих, орущих и беснующихся всячески! Чего уж я, кажется, довольно-таки спокойный человек, как ты сам знаешь, и то порядком напугался, хотя всячески и старался скрыть это под видом равнодушного презрения. Этот же Павел стоял тут среди бушевавшей черни и, спокойный и неустрашимый, точно Регул какой или Фабриций, смотря на своих жестоких гонителей с кроткой всепрощающей лаской во взгляде. Не раз пытался он умиротворить их, стараясь вразумить добрым словом, но всякий раз они прерывали его своими пронзительными криками. Ты себе не можешь представить то спокойствие, то достоинство, с какими стоял этот невзрачный, тщедушный еврей в бесновавшейся против него толпе. Признаюсь, он поразил меня: лицо его дышало кротостью, и от него веяло какой-то необыкновенной нравственной чистотой. Спокойно сидя на моем курульном кресле, я решил оставить без внимания требования крикливых евреев против этого человека и объявил им, что ввиду полного отсутствия против Павла всяких улик в каком-либо уголовном преступлении, я не берусь быть судьей в их религиозных распрях и тут же приказал ликторам очистить преториум. Я думал было, что дело этим и кончится. Но не тут-то было. После евреев наступил черед греков шуметь и волноваться. Взбешенные против евреев, затеявших бунт, они стали на сторону Павла, поспешили укрыть его куда-то, а затем чуть ли не под моими окнами избили до синяков старшину еврейской синагоги.
– Ну, и что же? Ты, конечно, вмешался? – спросил Сенека.
– Нет, с какой стати! Я только посмеялся. Какое мне дело – мне, римлянину и философу, если горсть греков-тунеядцев и угостит синяками большее или меньшее число евреев. Но вот лицо этого Павла не давало мне почему-то покоя. Мне говорили, будто свое воспитание он получил в Тарсе и что это человек образованный. Я все порывался было повидаться с ним и побеседовать и разведал даже, что он нашел себе убежище где-то на окраине города, у одного шатерного мастера еврея Аквила, изгнанного из Рима в силу мудрого эдикта Клавдия. Но ликтор, которому я дал поручение отыскать его, не мог или же просто почему-либо не хотел найти его. Впрочем, эти христиане вообще люди очень скрытные; хотя в конце концов, оно, может быть, было и лучше не унижаться до каких-либо разговоров с главой секты, всеми презираемой за ее чудовищную развращенность, в сравнении с которой, если верить молве, древние вакханалии, запрещенные лет уже двести тому назад, были ничто.
– Да и я тоже кое-что слыхал об этих христианах, – сказал Сенека. – Наши рабы, вероятно, знают об этих людях гораздо больше, чем мы. Однако беспокоить императора каким-либо упоминанием о них, разве они вздумают устроить бунт в Риме, я пока не стану.
В эту минуту Сенеке доложили о приходе другого его брата, сенатора Марка Эннеа Мелы с сыном Луканом.
– Проси сюда, – сказал Сенека рабу и, встав, пошел навстречу брату. – А вот и ты, брат мой, мой Лукан. Ну нравится ли вам ваше пребывание в Риме? Не лучше ли было бы для всех нас, если б мы остались в родной нашей Кордове?
– Не знаю уж, так ли это, – сказал Мела. – Что же, собственно, до меня, то я должен сказать, что считаю несравненно более приятным для себя быть сенатором в Риме и прокуратором императорской вотчины, нежели управлять своим собственным родовым поместьем в Испании.
– А ты какого мнения, наш поэт? – спросил Сенека, обращаясь к молодому испанцу, стройному и красивому семнадцатилетнему юноше, первые стихотворения которого уже успели заслужить сочувственное внимание критиков.
– Да я того мнения, что если человеку стоит жить из-за того, чтобы наслаждаться счастьем в качестве частого гостя за столом Нерона и слушать, как он читает свои плохие стишонки, то в Риме, конечно, лучше, чем в Кордове.
– Стихи его вовсе уж не так плохи, – заметил Сенека.
– О, конечно, они великолепны! – с напускным восторгом воскликнул Лукан. – Сколько мысли! Как они полны самой потрясающей действительности! Сколько дивных созвучий! Словом, они плавают и тают во рту, как говорит мой друг Персий.
– Однако ты не можешь не согласиться, что император мог бы найти себе занятие похуже невинного стихотворства и пения.
– Разумеется, но императору было бы приличнее посвящать свое время делу более существенной важности, – возразил молодой человек. – К тому же с ним стою я на почве весьма опасной и, признаюсь, был бы очень рад, если б ему никогда не приходила фантазия вызвать меня из Афин, и если б он не величал меня своим другом. Откровенно говоря, я не люблю его. Да и он тоже меня не особенно долюбливает, и сколько бы он ни старался скрыть своей зависти ко мне, она проглядывает при всяком случае; то же самое и в моих похвалах, сколько бы ни восторгался я каждой строчкой читаемого им собственного стихотворения, он чувствует неискренность и фальшь.
– Смотри, будь осторожен, Лукан; берегись! Характер Нерона изменяется быстро к худшему. Мне пока еще удается сдерживать в нем внутреннего лютого зверя, но раз этот зверь хлебнет крови… Плохие, брат, шутки, когда голова лежит в пасти дикого зверя.
– Однако ж ты сам, мне кажется, не так давно еще говорил, что по своему милосердию молодой Нерон не имеет себе соперника ни в одном из своих предшественников, – заметил Галлио.
– Правда, я говорил это; но не нужно забывать, что все же он сын своего отца, – отвечал Сенека, которого неприятно покоробило такое напоминание. – А кому же из нас не известно, до какого зверства доходил в своей жестокости Домиций Агенобарб! Не помню, рассказывал ли я вам когда-нибудь, что в ночь после, как получил я назначение быть его воспитателем, мне приснилось, что мой воспитанник не Нерон, а Калигула.
Наступило тяжелое молчание. Все задумались. Тогда Лукан, чтобы дать другое направление разговору, обратился к Сенеке с вопросом:
– Скажи мне, дядя, веришь ли ты в халдеев и их гороскопы?
– Нет, не верю, – ответил философ. – По-моему, звезда судьбы каждого человека в его сердце.
– Следовательно, не веришь. Впрочем, не скажу, чтобы и я доверял им слепо. А все-таки… но не хотите ли послушать, что предсказал мне однажды один халдей?
– Рассказывай, – сказал его отец Мела. – Я не мню себя таким мудрецом, как наш добрый Сенека, и почти уверен, что в предсказаниях астрологов есть своя доля правды.
– Он сказал мне, – начал Лукан, – что прочел в звездной книге, что ранее чем через десять лет и вы оба, дяди, и ты, отец, а также и я, и… – тут молодой поэт весь содрогнулся, – и мать моя Атилла – мы все погибнем от насильственной смерти и благодаря моей вине. О боги, если только боги существуют, отвратите это ужасное прорицание!
– Полно, Лукан, ведь это же чистое суеверие, достойное еврея или даже христианина, – сказал Сенека. – Эти халдеи известные шарлатаны. Всякий человек сам кузнец своей судьбы. Я – воспитатель Нерона и ближайший его советник, ты – его друг, все члены нашей семьи в величайшей милости при дворе… Однако кто-то идет: я слышу шаги солдат. Это, вероятно, Бурр: я жду его, он должен прийти ко мне по одному важному государственному делу. А потому до свидания пока; приходите вечером ужинать, если только вы не откажетесь разделить со мной мою скромную трапезу.
– Недурна твоя скромная трапеза! – не без зависти проговорил Мела. – Твои ложи разукрашены инкрустацией из черепахи, столы на точеных ножках из дорогой слоновой кости, а на столах хрустальные кубки и мирринские сосуды.
– Ну, не безразлично ли философу, пьет ли он из хрустального кубка или из глиняного? – засмеялся Сенека. – А что до моих столов с ножками из слоновой кости, о которых все толкуют так много, то ведь и у Цицерона, небогатого студента, был один стол, стоивший пятьсот тысяч сестерций.
– Да, один, а у тебя подобных столов найдется, думаю, штук пятьсот, – сказал Мела.
Сенека немножко сконфузился.
– «Accepimus rerritura perrituri» – недолговечные мы принимаем недолговечное, – улыбаясь, сказал он. – Впрочем, даже и сама клевета не может не засвидетельствовать, что для меня, собственно, на этих ценных столах лишь в исключительных случаях подается какая-либо роскошь, более дорогая, чем свежая вода, овощи и плоды.
И, повторив Лукану на ухо совет вести себя осторожнее и не давать воли своему пылкому нраву, «суровый стоик-царедворец» встал и пошел навстречу своему сотоварищу, Бурру Афранию.
Глава VII
Бурр был сравнительно человек еще молодой, и с первого взгляда в нем был виден настоящий воин – неустрашимый и честный римлянин. Но сегодня и он был угрюм и мрачен, и те, кому случалось видеть его в день воцарения Нерона, когда он сопровождал юного императора сначала в лагерь преторианцев, а оттуда и в сенат, не могли не заметить, как много новых морщин прибилось с тех пор на его открытом и честном лице.
Подобно Сенеке, и Бурр чувствовал, что с каждым днем положение дел при дворе принимает все менее и менее утешительный характер. Но, к счастью, народные массы, как и большая часть аристократии, радуясь миру и общественному благоденствию, пока еще находились в полном неведении тех прискорбных обстоятельств, которые возбуждали столько тревог за будущее в умах этих двух государственных мужей, беспокоя их предчувствиями самого зловещего свойства. Как и аристократия, народ с восторженной похвалой отзывался о речи, произнесенной новым императором перед сенатом после того, как был отдан последний печальный долг бренным останкам умерщвленного Клавдия. «Во всем мире нет человека, против которого я питал бы чувство злобы или ненависти, – сказал Нерон, – и мстить мне некому. Моей священнейшей обязанностью сделается забота о сохранении во всей ее неприкосновенности автономии законом утвержденного суда. В моем дворце не будет ни подкупа, ни происков. Войском я буду командовать, но никогда не позволю себе затронуть чем-либо священных прав отцов-сенаторов». Нельзя было не узнать в этой речи стиля и чувств Сенеки; но ведь это могло служить только ручательством того, что кормило правления наконец-то в руках мудрой философии. И действительно, сенаторам на первых порах представлено было принять некоторые весьма благодетельные и полезные меры. Это было началом того периода царствования Нерона, благотворными результатами которого в смысле внешнего спокойствия и общественной безопасности государство было обязано исключительно совместным усилиям Сенеки и преторианского префекта Бурра.
Но кроме Нерона очень серьезные опасения возбуждало как в том, так и в другом из этих двух ближайших к императору людей непомерное и беспокойное честолюбие Агриппины. Не говоря уже об ее упорном желании занимать, вопреки обычаю того времени, и в дворцовом совете сенаторов и при приеме иностранных послов первое место после Нерона, она позволила себе почти гласно подвергнуть насильственной смерти не только давнишнего своего недоброжелателя Нарцисса, но еще и Юния Силана, брата бывшего нареченного жениха Октавии до ее замужества с Нероном, и которого она опасалась, как праправнука императора Августа и вероятного мстителя за смерть брата. Только с большим трудом удалось, наконец, соединенным противодействием Бурра и Сенеки прекратить дальнейшие такого же рода кровавые расправы мстительной женщины.
А между тем перед ними с каждым днем появлялись новые затруднения. Нерон все теснее и теснее сближался с такими представителями тогдашней римской «золотой молодежи», какими считались справедливо Отон, Туллий Сенеций и оригинальный красавец Тигеллин. Эти люди оказывались его опытными многознающими наставниками во всяких пороках, а он был крайне понятливым учеником, не замедлившим своими успехами превзойти учителей. Благодаря отчасти влиянию этих новых друзей император очень скоро перестал конфузиться своей любовью к прелестной Актее, вольноотпущеннице в свите Октавии, и отдался открыто своему чувству со всем пылом юных лет. Об этом романе не замедлила узнать везде имевшая своих шпионов Агриппина и, боясь всякого соперничества в привязанности к ней сына, разразилась целой бурей жестоких упреков и даже угроз. Это было с ее стороны очень грубой ошибкой; ласковое и спокойное слово увещания было бы, по всей вероятности, не только действеннее, но, может быть, и оказалось бы поворотной точкой в жизни человека, пока еще не совсем испорченного, а только начинавшего робко и застенчиво искушаться на поприще зла. К тому же она сделала при этом случае еще и другую ошибку: заметив, что строгостью она, оттолкнув Нерона от себя, тем самым как бы толкнула его в общество Отона, Сенеция и им подобных, она впала в противоположную крайность и начала очень снисходительно смотреть на то, к чему сперва отнеслась так строго и с таким негодованием, и этим, очень понятно, сильно пошатнула свое влияние на сына.
Но и ошибка Сенеки в этом случае имела также не менее пагубное влияние на молодого императора. Вместо того, чтобы остановить его и отвлечь, пробудив в нем благородное честолюбие и жажду славы, философ имел неосторожность пустить в ход зловредную тактику уступок, в которой дошел до того, что даже уговорил одного из своих родственников, начальника полиции, притвориться влюбленным в Актею и этим, заслонив любовь Нерона, отвести от него глаза.
Сегодня же Бурр явился к Сенеке именно с той целью, чтобы сообщить ему, что страсть Нерона к Актее начинает переходить границы разумного; что он уже стал поговаривать о намерении, с помощью подкупа, заставить двух римских консулов клятвенно засвидетельствовать, что Актея – простая раба, вывезенная из Азии, – прямой потомок Атталы, царя пергамского, и высказал Бурру свое желание развестись с Октавией и жениться на Актее.
– А вы что ему на это сказали? – спросил Сенека.
– Я очень откровенно объяснил ему, что если он разведется с Октавией, то будет обязан возвратить ей ее вено.
– Ее вено?
– Ну да – римскую империю. Ведь если он владеет ею, то только благодаря тому, что Клавдий, как мужа своей дочери, сделал его своим приемным сыном.
– А что он ответил на это?
– Надулся, как капризный ребенок, получивший выговор, и я уверен, что он когда-нибудь припомнит мне эти мои слова.
– А я так полагаю, Бурр, что с нашей стороны будет, напротив, благоразумнее помочь этой романической привязанности цезаря, нежели бороться с ней. Актея безвредна – и не опасна: добрая и кроткая, она никогда не станет злоупотреблять своим влиянием, – она неспособна обидеть даже муху. Напротив, она может только удержать Нерона на покатой дороге порока и зла. И вот почему мое мнение таково, что в данном случае некоторое потворство является наилучшей политикой, и потому, сказать по правде, я уже принял некоторые меры к устранению кое-каких затруднений…
– Вы – философ, человек мысли, и вам, конечно, лучше это знать, – сказал Бурр, – тем не менее я должен сказать, что такой образ действий мне не нравится, и не этим путем пошел бы я. Впрочем, к этому возвращаться больше не стану, если вы считаете возможным не смотреть на это дело с особенно серьезной точки зрения. Простите, я ухожу. Долг солдата требует моего присутствия в лагере. Прощайте!
Через несколько времени после ухода Бурра к Сенеке пришел в это же утро еще посетитель – стоик Аннэй Корнут.
– Милости прошу! Корнут во всякое время желанный гость в доме Сенеки, – приветствовал философ коллегу, – но никогда еще посещение твое не было так вовремя, как сегодня. Мне необходимо посоветоваться с тобой под строгим секретом насчет дальнейшего воспитания императора.
– Допустимо ли, чтобы мудрый Сенека, издавший столько прекрасных наставлений по вопросу о воспитании и образовании, нуждался в совете по этому делу? – удивился Корнут.
Но Сенека, вместо всякого ответа, изложил другу те причины, которые несколько минут тому назад приводил Бурру в объяснение своего образа действий. Несмотря на это, Корнут с откровенностью истого стоика беспощадно уничтожил его хитросплетенную ткань софизмов.
– Поступок может быть или хорош, или дурен, – сказал он. – Если он дурен, обелить его не могут никакие оправдательные мотивы, и он остается таковым, к каким бы мы не прибегали изворотам, чтобы одобрить его. Ты говоришь, что цель твоих малодушных уступок – удержать императора от тех позорных и жестоких подвигов, какими омрачили свое царствование Тиверий и Калигула. Но имеется ли возможность достичь этого иначе, как только посредством постоянного внушения императору, что он имеет право делать лишь то, что должен делать. Чтобы сдержать многоголовую гидру порочных побуждений молодого человека, ее необходимо покорить господству разума, а не давать ей волю брать над ним верх.
– Это верно; но по своему положению я обязан смотреть на вещи не только с точки зрения отвлеченных нравственных соображений, но с точки зрения государственного человека, – заметил несколько обиженный Сенека.
– Да, но в таком случае не следует и прикрывать своего образа действий философским учением. Прости, я говорю с тобой откровенно, как стоик со стоиком. Но, может быть, тебе неприятно слышать правду? Я готов в этом случае замолчать. Но если желаешь, чтобы я говорил, – вот тебе мое откровенное мнение: ты заблуждаешься жестоко, мечтая управлять страстями путем потворства им. Позволяя Нерону предаваться одной преступной наклонности, ты надеешься, по твоим словам, спасти его этим от более пагубных уклонений с пути правды и добра. Разве ты не знаешь, что все пороки – одна беспрерывная цепь. Вторая ошибка – это твоя лесть перед учеником и то, что ты вбил ему в голову уверенность в неограниченность его власти.
– Нерон император и в конце концов волен же делать и поступать, как ему заблагорассудится, – сухо заметил Сенека.
– Но, хотя он и император, однако же можно говорить и ему правду, – сказал Корнут. – Я первый осмелился оскорбить его вчера, сказав ему одну правду.
– Каким это образом?
– Твой племянник Лукан, восторгаясь фантастическими стихотворениями Нерона, высказал желание, чтобы Нерон написал четыреста томов… – «Четыреста! – воскликнул я. – Уж не много ли это будет?» – «Отчего много? – сказал Лукан. – Издал же Хризипп, которого вы постоянно так превозносите, четыреста томов». – «Да, – ответил я, – но то были такие сочинения, которые принесли пользу человеку». – Нерон надулся и стал чернее ночи. Все бывшие тут многозначительно посмотрели на меня. Но что же делать: нельзя же философам в угоду императорам превращаться в льстецов. Что стало бы тогда с философией?
– В твоей скромной доле ты счастливее меня, Корнут, – сказал Сенека и тяжело вздохнул. – Но пойми меня: не одобряю я, а только уступаю. Сам же я изнемогаю под гнетом страшной неизвестности, и бывают моменты, когда жизнь кажется мне каким-то хаосом, наполненным одной бессмысленной суетой. Хоть я и порываюсь подняться на более высокую ступень добродетели, но – увы! – человеческие слабости и несовершенства всегда тормозят мои лучшие стремления. Я уже не в силах стать наравне с лучшими, и все, что я могу, – это быть несколько получше дурных.
– Только тот, кто старается метить выше всех, может надеяться достигнуть идеала сколько-нибудь высокого; и к чему громкие слова без твердого намерения осуществлять их на деле, – сказал Корнут и, встав, простился с Сенекой.
Сенека пошел проводить гостя. Но незавидно было чувство, глухо нывшее в то время в глубине души одного из тех людей, которому больше всего завидовали в Риме.