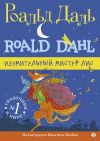Читать книгу "Пират"

Автор книги: Фредерик Марриет
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Фредерик Марриет
Пират
Источник текста: Пират / Пер. И. И. Ясинского и М. П. Игнатовой. В кн. Полное собрание сочинений капитана Марриэта. В 6 т. Том 6. – Санкт-Петербург: П.П. Сойкин, 1912. – 20 см.
I. Бискайский залив
Дело было в конце июня 1798 года: сердитые волны Бискайского залива понемногу утихали после шторма, столь же сильного, сколь и необычного в это время года. Они все еще продолжали тяжело колыхаться, и по временам ветер налетал беспокойными, яростными порывами, как будто желая возобновить борьбу стихий; однако каждая его попытка была все более слабой, и темные тучи, сбежавшиеся к началу бури, спешили теперь во все стороны, спасаясь от могучих лучей солнца, которое прорывалось сквозь их толщу лучезарным потоком света и тепла. Оно ниспосылало свои сверкающие лучи, которые глубоко вонзались в воды этого уголка Атлантического океана, куда мы сейчас перенеслись; и за исключением одного лишь предмета, едва заметного, там расстилалась только необъятная ширь воды, ограниченная воображаемым небесным сводом. Мы сказали: за исключением одного предмета, ибо в центре этой картины, столь простой однако, и столь величественной, сложившейся из трех великих стихий, находился остаток четвертой стихии. Остаток, – потому что это был только корпус корабля, лишенный мачт и наполненный водой; надводная часть судна лишь иногда всплывала над волнами, когда кратковременный перерыв в их все еще яростном колебании возвращал судну способность держаться на поверхности. Но это случалось редко; вот сейчас он поглощен морем, которое бурлит, перекатываясь через его шкафут, а в следующее мгновение он вынырнул над волнами, и вода выливается из его боковых портов.
Сколько тысяч кораблей, сколько миллионов состояния было покинуто из-за невежества или страха и целиком предоставлено всепожирающей пучине океана! Какой огромный клад богатств погребен в его песках! Сколько сокровищ застряло в его скалах или продолжает висеть в его неизмеримой глубине, где сжатая вода по своей плотности равна тому, что она окружает! И эти сокровища так и останутся там, защищенные солью от гнили и разрушения, до конца вселенной и до нового водворения хаоса! А между тем, как бы ни было несметно нагромождение этих утрат, большая часть их вызвана незнанием одного из первых законов природы – закона удельного веса. Корабль, о котором мы упомянули, находился, по-видимому, в таком же отчаянном положении, как утопающий, который держится за одну лишь тонкую прядь веревки, но в действительности опасность погрузиться в находившуюся под ним пропасть грозила ему в гораздо меньшей степени, чем многим другим кораблям, которые как раз в это время горделиво неслись по морю, между тем как их пассажиры, забыв все свои страхи, только и думали, что о скором прибытии в гавань.
«Черкес», шедший из Нью-Орлеана, был красивый, отлично снаряженный корабль, с грузом, большая часть которого состояла из хлопка. Капитан был, в обычном смысле этого слова, хороший моряк; команда была набрана из крепких и способных матросов. Пересекая Атлантический океан, они встретили шторм, о котором мы уже говорили, и были загнаны в Бискайский залив, где, как мы вскоре расскажем подробнее, судно лишилось мачт, и в нем открылась течь, которую они не могли остановить, несмотря на все свои усилия. Вот прошло уже пять дней с тех пор, как перепуганная команда покинула корабль на двух своих шлюпках, одну из которых захлестнуло волной, так что все сидевшие в ней погибли; судьба другой была неизвестна.
Мы сказали, что команда покинула судно, но не утверждали, что с него ушли все живые существа. Если бы дело обстояло так, то мы не стали бы тратить время читателя на описание неодушевленных предметов. Наша задача – изображать жизнь, и эта жизнь все еще оставалась на расшатанном корабельном остове, покинутом на произвол океана. В камбузе «Черкеса», то есть в кухне, поставленной на палубе и, к счастью, так прочно прикрепленной, что она смогла выдержать напор бурных волн, находились три живых существа: мужчина, женщина и ребенок. Первые двое принадлежали к той низшей расе, которая с давних пор поставляла с берегов Африки работников, без устали трудящихся, но собирающих жатву не для себя; младенец, прильнувший к груди женщины, был европейской крови. Он был бледен как смерть и тщетно пытался получить молоко от своей истощенной кормилицы, по черным щекам которой текли слезы, когда она по временам прижимала ребенка к своей груди и поворачивала его в сторону, противоположную ветру, чтобы защитить его от воды, брызгавшей на них при каждой новой волне Равнодушная ко всему остальному, кроме вверенного ей малютки, она не произносила ни слова, хотя дрожала от холода, когда волны накреняли судно, и вода захлестывала ей колени. Холод и страх вызвали перемену в цвете ее лица, который приобрел теперь желтый или почти медно-красный оттенок.
Мужчина, ее спутник, сидел напротив нее на железном тагане, который прежде был источником тепла и света, теперь же служил лишь неудобной скамьей для промокшего и изнуренного бедняги. Он тоже безмолвствовал уже в течение многих часов; мускулы его лица ослабли, его толстые губы далеко выдались вперед от запавших щек, высокие скулы торчали, словно зачатки будущих рогов, глаза показывали почти одни только белки, и, по-видимому, он был еще более измучен, чем женщина, мысли которой были сосредоточены на ребенке, а не на самой себе. Тем не менее, чувства его еще не утратили своей проницательности, несмотря на то, что способность действовать, казалось, была притуплена избытком страданий.
– Ox, горе мое! – слабо воскликнула негритянка после долгого молчания и в крайнем изнеможении откинула голову. Ее спутник ничего не ответил, но встал при звуке ее голоса, нагнулся вперед, немного раздвинул дверь и посмотрел в ту сторону, откуда дул ветер. Тяжелые брызги хлестнули в его стекловидные глаза и затмили ему зрение; он со стоном отпрянул на прежнее место.
– Ну что, Коко? – спросила негритянка, склонив голову над ребенком и закутывая его более тщательно. Взгляд отчаяния и дрожь от холода и голода были ей единственным ответом.
Было около восьми часов утра, когда волнение океана несколько улеглось. К полудню солнце согревало их сквозь обшивку камбуза, и его лучи вливали узкую полоску яркого света сквозь щели пригнанных панелей. Негр, по-видимому, мало-помалу оживлялся; наконец он поднялся, и после некоторого труда ему удалось снова отодвинуть дверь. Море постепенно переставало бушевать и теперь лишь изредка захлестывало корабль. Осторожно держась за косяки, Коко выбрался наружу, чтобы обозреть горизонт.
– Что ты видишь, Коко? – спросила женщина, заметив из камбуза, что он пристально смотрит в одну сторону.
– Помоги Господь, мне кажется, я вижу что-то, но у меня столько соленой воды в глазах, что я не могу видеть ясно, – ответил Коко, стирая соль, осевшую кристаллами на его лице.
– А на что оно похоже, Коко?
– Всего лишь маленькое облако, – промолвил он, входя снова в камбуз и с тяжелым вздохом занимая прежнее место на тагане.
– Ох, горе мое! – вскрикнула негритянка, развернув ребенка, чтобы посмотреть на него; силы ее быстро падали. – Бедный маленький масса Эдуард, как он плохо вы глядит! Я боюсь, он очень скоро умрет. Гляди, Коко, он перестал дышать.
Голова ребенка отвисла на грудь кормилицы, и жизнь, по-видимому, совершенно угасла в нем.
– Джуди, у тебя нет молока ребенку, а без молока как он сможет жить? Э! Погоди-ка, Джуди, я засуну свой палец ему в рот. Если масса Эдуард не мертвый, он будет его сосать.
Коко вложил свой палец в рот ребенку и почувствовал легкое всасывающее движение.
– Джуди, – закричал Коко, – масса Эдуард еще не мертвый! Посмотри, может быть есть хоть капля молока в другой груди.
Бедная Джуди горестно покачала головой, и слеза покатилась по ее щеке; она знала, что грудь ее истощена.
– Коко, – сказала она, вытирая щеку кистью руки, – я бы рада отдать кровь от сердца для масса Эдуарда, но нет молока., не осталось.
Это сильное выражение любви к ребенку, употребленное Джуди, внушило Коко новую мысль. Он достал из кармана нож и преспокойно надрезал себе указательный палец до самой кости. Выступившая кровь стала стекать на конец пальца, который он вложил в рот ребенка.
– Гляди-ка, Джуди, масса Эдуард сосет – он не мертвый! – закричал Коко, хихикнув на радостях, что опыт так счастливо удался, и на мгновение забыл об их почти безнадежном положении.
Ребенок, оживленный этим своеобразным питанием, постепенно восстанавливал свои силы и через несколько минут он сосал палец уже довольно энергично.
– Посмотри-ка, Джуди, как масса Эдуард охотно берет, – продолжал Коко. – Тяни, масса Эдуард, тяни. – У Коко десять пальцев, и пройдет еще долго времени, чтобы ты их все высосал досуха.
Но ребенок вскоре наелся и заснул на руках у Джуди.
– Коко, а не взглянуть ли тебе опять? – заметила Джуди.
Негр снова выбрался наружу и окинул взглядом горизонт.
– Помоги Господь, на этот раз мне кажется, Джуди… Да, помоги мне, Господи, я вижу корабль! – радостно закричал Коко.
– Ах! – слабо, но с восторгом взвизгнула Джуди. – Значит, масса Эдуард не умрет.
– Да, помоги мне Господь, он плывет сюда! – и Коко, к которому, кажется, вернулась часть его прежней силы и подвижности, вскарабкался на крышу камбуза и уселся там, скрестив ноги и размахивая своим желтым платком в надежде привлечь этим внимание находящихся на борту, так как он знал, что плывущий предмет, который представлял из себя их судно, лишь едва виднеется над поверхностью воды, и очень легко мог остаться незамеченным.
По счастливой случайности фрегат, каким оказался увиденный Коко корабль, продолжал свой курс как раз по направлению к затопленному обломку, хотя последний и не был замечен вахтенными на марсах – их глаза были устремлены на линию горизонта. Меньше, чем через час новая опасность начала угрожать нашему маленькому обществу – опасность попасть под фрегат, который, находясь теперь от них на расстоянии кабельтова, продолжал свой быстрый и стремительный путь, рассекая встречную воду и широко вспенивая ее. Коко стал кричать во всю мочь и, к счастью, привлек внимание матросов, которые находились на бушприте, убирая фок-стеньга стаксель, поднятый для просушки после шторма.
– Право руля! – заорали они.
– Право руля есть, – ответили на шканцах, и штурвал был повернут без дальнейших расспросов, как это всегда бывает на военных кораблях, хотя в то же время следовало бы соблюдать некоторую предосторожность при исполнении подобного распоряжения, когда оно не облечено последующими и притом самыми подробными разъяснениями.
Марс-лисель трепетал и колебался, фок-зейль вздрагивал, а кливер вздулся, когда фрегат свернул в сторону, едва не врезавшись в полузатопленный остов, который находился теперь как раз около его носа, неистово качаясь в белой пене взбаламученных волн, так что Коко лишь с трудом, вцепившись в остаток грот-мачты, сумел сохранить свою возвышенную позицию. Фрегат укоротил паруса лег в дрейф и спустил баркас, и через каких-нибудь пять минут Коко, Джуди и дитя были вызволены из их страшного положения. Бедная Джуди, которая боролась со всеми невзгодами ради ребенка, передала его спасшему их офицеру, а сама повалилась без чувств; так и была она перевезена на борт фрегата. Коко, заняв место на скамье на корме шлюпки, посмотрел вокруг себя диким взглядом, а затем разразился сумасшедшим хохотом, который продолжался без перерыва и был единственным ответом на вопросы, заданные ему на шканцах, пока он не упал в обморок, после чего его предоставили заботам врача.
II. Холостяк
Вечером того же дня, когда ребенок и чета негров были спасены с корабельного обломка, благодаря счастливому появлению фрегата, мистер Уизрингтон, живший в Финсбери Сквер, сидел один в своей столовой, недоумевая, чтобы такое могло приключиться с «Черкесом», и почему он до сих пор не получил известия о его прибытии? Мистер Уизрингтон, как мы сказали, был один; перед ним стояли портвейн и херес. И хотя погода была довольно теплая, однако в камине был разведен небольшой огонь, потому что, как утверждал мистер Уизрингтон, это придавало комнате больше комфорта. Мистер Уизрингтон, посвятив некоторое время созерцанию потолка, на котором, впрочем, нельзя было обнаружить ничего нового, налил себе еще стакан вина, а затем начал располагаться с еще большим комфортом: для этого он расстегнул еще три пуговицы своего жилета, сдвинул с головы парик и освободил все пуговицы на коленях своих панталон. Закончил он свои приготовления тем, что придвинул к себе два ближайших стула и на один из них положил ноги, а на другой облокотился рукой. Да и Почему же мистеру Уизрингтону не окружать себя комфортом? У него было хорошее здоровье, спокойная совесть и восемь тысяч фунтов годового дохода.
Удовлетворенный этими приготовлениями, мистер Уизрингтон отхлебнул портвейна и снова, поставив стакан, откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди, переплел пальцы и в этой позе полного комфорта возобновил свои размышления о причинах неприбытия «Черкеса».
Мы оставим его наедине с его мыслями, чтобы тем временем более подробно познакомить с ним наших читателей.
Отец мистера Уизрингтона был младшим сыном одной из самых старинных и гордых семей Уэст-Райдинга в Йоркшире; он должен был выбрать одну из четырех профессий, предназначенных в удел младшим сыновьям, в чьих жилах течет патрицианская кровь: армию, флот, законоведение или церковь. Армия ему была не по душе, заявил он, потому что маршировки и контр-маршировки не давали комфорта; флот был ему не по душе, потому что какого же комфорта можно ждать от штормов и от затхлых сухарей; юриспруденция была ему не по душе, так как он не был уверен, что поладит со своей совестью, а это было несовместимо с комфортом; церковь тоже была отвергнута, потому что, по его представлениям, на этом поприще можно было получить лишь убогое жалованье, тяжелые обязанности, жену и одиннадцать детей, а это значило – опять же распроститься с комфортом. К немалому ужасу своих родственников, он отказался от всех этих свободных профессий и ухватился за предложение старого дядюшки-отщепенца, который предоставил ему место в своем банкирском доме и обещал сделать его своим компаньоном, если он выслужится. Это привело к тому, что родня с негодованием пожелала ему счастливого пути и больше никогда о нем не вспоминала. Он с этих пор стал отрезанным ломтем, каким была бы в их глазах какая-нибудь представительница женской линии, если бы она со вершила faux pas.
Тем не менее, мистер Уизрингтон старший прилежно занялся избранным делом: через несколько лет он стал компаньоном, а после смерти старого джентльмена, своего дядюшки, оказался собственником изрядного состояния, продолжающим каждый год чеканить деньги в своем банке.
Тогда мистер Уизрингтон старший купил дом в Финсбери Сквер и подумал, что недурно бы приискать себе жену.
Сохраняя еще значительную долю семейной гордости, он решил не загрязнять кровь Уизрингтонов неравным браком с какой-нибудь представительницей Катитон-Стрит или Минсинг-Лэжн, и после изрядных поисков он избрал дочь шотландского графа, который приплыл на шмаке из Лейса в Лондон, сопровождаемый свитой из девяти дев, рассчитывая променять породу на деньги. Судьбе было угодно, чтобы мистер Уизрингтон оказался первым явившимся искателем, и ему, из любезности, предоставили на выбор любую из девяти молодых леди. Избранница его была светлокудрая, синеокая, слегка в веснушках, очень высокая и отнюдь не некрасивая. В фамильной Библии она была записана под номером 4. От этого союза у мистера Уизрингтона появилось потомство: во-первых, дочь, нареченная Могги, которую мы скоро представим нашим читателям в образе сорокалетней девы; во-вторых, сын, Антоний Александр Уизрингтон, которого мы только что покинули, сидящего в очень удобной позе и погруженного в очень мрачную задумчивость.
Мистер Уизрингтон старший уговорил своего сына поступить в банкирский дом в качестве сотрудника, и тот, как исполнительный сын, каждый день ходил в банк. Кроме этого он ничем не занимался, сделав лишь счастливое открытие, что «его отец родился раньше его», или, другими словами, что у его отца уйма денег, которую он вынужден будет оставить ему в наследство.
Так как мистер Уизрингтон старший всегда заботился о комфорте, то и сын его с юных лет перенял те же привычки, и в этом отношении его взгляды пошли даже гораздо дальше – он подразделял все вещи на комфортабельные и некомфортабельные. В один прекрасный день леди Мэри Уизрингтон, оплатив все хозяйственные счета, заплатила свой счет и природе, то есть умерла. Ее супруг заплатил по счету гробовщику, а на основании этого можно утверждать, что она была похоронена.
Вскоре после того мистер Уизрингтон старший получил апоплексический удар, сваливший его с ног. Смерть, которая не знает чувства чести, добила его лежачего. И мистер Уизрингтон, пролежав несколько дней в постели, вторым ударом был положен в тот же склеп, где покоилась леди Мэри Уизрингтон. А мистер Уизрингтон младший (наш мистер Уизрингтон), выделив 40000 фунтов на долю свой сестры, стал обладателем чистых 8000 фунтов годового дохода и великолепного дома в Финсбери Сквер. Мистер Уизрингтон рассудил, что такой доход достаточен для комфорта, и поэтому можно вовсе отстраниться от дел.
Еще при жизни родителей он был свидетелем одной или двух семейных сцен, и это побудило его отнести брачную жизнь к разряду вещей некомфортабельных; вот почему он остался холостяком.
Его сестра Могги тоже сохранила безбрачие – вследствие ли чрезвычайно необаятельного косоглазия, которое отпугивало поклонников, или вследствие того же нерасположения к брачной жизни, которым отличался ее брат, – этого мы не можем определенно сказать. Мистер Уизрингтон был на три года моложе сестры, и если он с некоторого времени начал носить парик, то исключительно потому, что в этом видел больше комфорта. Все личные качества мистера Уизрингтона можно было выразить двумя словами: эксцентричность и благодушие. Эксцентричным он был как, безусловно, и большинство холостяков. Мужчина остается лишь шероховатым булыжником, если не обтачивать его соприкосновением с более нежной половиной человеческого рода; просто диву даешься, как это дамы умеют до такой степени гладко отшлифовать мужчину, что он может без конца катиться кувырком вместе с прочими своими собратьями, задевая, но не царапая своих соседей, когда мощная волна житейских обстоятельств столкнет его с ними.
Мистер Уизрингтон очнулся от глубокой задумчивости и ощупью отыскал шнурок, привязанный к рукоятке звонка; дворецкий, уходя из столовой, должен был каждый раз прикреплять этот шнурок к ручке кресла, в котором сидел барин, ибо, как справедливо заметил мистер Уизрингтон, комфорт был бы нарушен, если бы приходилось вставать, чтобы дернуть звонок. Не раз мистер Уизрингтон принимался даже взвешивать, насколько удобно или неудобно было бы иметь дочь лет восьми, которая могла бы звонком вызывать слугу, просушивать перед камином газеты и разрезать страницы нового журнала.
Но когда он принял во внимание, что она не могла бы оставаться вечно в этом возрасте, то решил, что весы комфорта против нее.
Мистер Уизрингтон, дернув звонок, снова задумался.
Мистер Джонатан, дворецкий, явился на зов, но, заметив, что барин занят, он тотчас же остановился в дверях, встав навытяжку, и с таким печальным лицом, как будто он исполнял обязанности факельщика у подъезда какого-нибудь скончавшегося пэра королевства, ибо всем известно, что чем выше сан умершего, тем длиннее должно быть лицо и тем, разумеется, лучше будет плата.
Теперь, пока мистер Уизрингтон продолжает свои глубокие думы, а мистер Джонатан будет стоять на месте так же долго, как уставшая лошадь, мы их оставим в покое, и тем временем изложим читателям краткую биографию последнего. Сначала Джонатан Трапп служил в этом доме подручным мальчиком, причем скромная должность его заключалась в том, что он для приобретения опыта в работе получал от старших слуг quantum sufficium пинков ногами; затем он стал лакеем, то есть ему было пожалована утешительная привилегия раздавать, а не получать вышеупомянутые унизительные пинки; и, наконец, – ибо семейный обычай не допускал дальнейшего повышения, – он был удостоин должности дворецкого на службе у мистера Уизрингтона старшего. Тогда Джонатан влюбился, так как дворецкие подвержены тем же слабостям, что и их господа; ни он, ни его зазнобушка, служившая горничной в другом доме, не приняли в расчет последствий, к каким в иных семьях приводит подобная ошибка. Они, вместо того, попросили рассчета и обвенчались.
Подобно большинству сочетавшихся браком дворецких и горничных, они открыли питейное заведение, однако справедливость по отношению к горничной побуждает нас сказать, что она предпочла бы открыть кухмистерскую, но Джонатан склонил ее на свою сторону, сославшись на то, что если люди готовы пить, не испытывая жажды, то они не станут есть, пока не проголодаются.
Но хотя в этом замечании была доля правды, однако достоверно известно, что предприятие это не процветало; ходили слухи, что высокая, тощая, сухопарая фигура Джонатана причиняла ущерб его торговле, ибо люди слишком склонны судить о доброкачественности эля по багровому лицу и грузной комплекции трактирщика, а поэтому они предполагают, что хорошего пива не получишь там, где хозяин прилавка представляет собой олицетворение голода. Действительно, в этом мире очень многое строится на внешности, и, по-видимому, Джонатан, из-за своей мертвенной бледности, очень скоро появился в газете[1]1
Т. е., в списке банкротов.
[Закрыть]. Но то, что разорило Джонатана на одном поприще деятельности, тотчас же предоставило ему место на другом. Оценщик, меблировщик и устроитель похоронных процессий, приглашенный для оценки обстановки, окинул взглядом Джонатана и, зная цену его отменно гробовой внешности и имея сводного брата такого же роста, сейчас же предложил ему место факельщика. Джонатан не имел времени оплакивать потерю своих собственных нескольких сотен, когда ему пришлось по обязанности оплакивать потерю чужих тысяч; и когда он, словно каменное изваяние, стоял у подъезда тех, что вошли в подъезд иного мира, его прямая, как палка, фигура и вытянутое скорбное лицо слишком часто были злой насмешкой над скорбью наследников. Даже скорбь в этом торгашеском мире тогда только и хороша, когда за нее уплачено. Джонатан похоронил многих и, наконец, похоронил свою жену. До сих пор все шло хорошо; но вот он похоронил и своего хозяина, устроителя погребальных процессий, что было вовсе нежелательно. Джонатан не плакал, но зато на лице его была изображена безмолвная скорбь, когда он провожал его к месту вечного упокоения, и он почтил его память кружкой портера, возвращаясь с похорон на верхушке траурной колесницы, где он восседал вместе с товарищами, точно стая черных воронов.
Теперь Джонатан остался без заработка по той именно причине, которая большинству показалась бы наилучшей рекомендацией. Все устроители похоронных процессий отказывались взять его на службу, потому что они не могли найти ему равного. Столь затруднительное положение натолкнуло Джонатана на мысль о мистере Уизрингтоне младшем; ведь он служил мистеру Уизрингтону, его папаше и похоронил его так же, как леди Мэри, его мамашу. Он чувствовал, что такое разнообразие прошлых заслуг дает ему право рассчитывать на многое, и обратился к холостяку с соответствующим ходатайством. К счастью для Джонатана, тогдашний дворецкий мистера Уизрингтона как раз в это время собрался совершить ту же опрометчивость, которую раньше совершил Джонатан, и Джонатан, вернувшись опять на старое место, решил вести прежнюю скромную жизнь и никогда больше не путаться с горничными. Но по привычке Джонатан продолжал держаться как факельщик во всех обстоятельствах – он никогда не проявлял даже оттенка веселости, за исключением тех случаев, когда барин его был особенно оживлен. Впрочем, и тогда он отражал настроение барина скорее по чувству долга, чем вследствие действительной склонности радоваться.
Джонатан был довольно учен для своего общественного положения и за время своей похоронной службы усвоил английский перевод всех латинских изречений, помещаемых на траурных гербах знатных особ; он всегда готов был изречь любое из них, если оно казалось ему подходящим к данному случаю.
Мы оставили Джонатана стоящим около двери, которую он закрыл за собой, но продолжал держаться за ее ручку.
– Джонатан, – промолвил мистер Уизрингтон после долгого молчания, – я хочу взглянуть еще раз на последнее письмо из Нью-Йорка; вы найдете его на моем туалетном столе.
Джонатан, не ответив, вышел из комнаты и вскоре вернулся с письмом.
– Уж сколько времени я поджидаю этот корабль, Джонатан, – заметил мистер Уизрингтон, развертывая письмо.
– Да, сэр, времени прошло много; tempus fygit, – ответил дворецкий тихим голосом, полузакрыв глаза.
– Дай-то Бог, чтобы не случилось несчастья, – продолжал мистер Уизрингтон. – Бедная моя кузина и ее близнецы-малютки! Почем знать, вот я говорю о них, а они все теперь, может быть, лежат на дне моря.
– Да, сэр, – ответил дворецкий, – море у многих добросовестных гробовщиков отнимает их заработок.
– Клянусь кровью Уизрингтонов! Неужели я останусь без наследника, и мне придется жениться? Ведь это очень некомфортабельно.
– Какой уж тут комфорт, – как эхо откликнулся Джонатан, – моя жена тоже умерла. In coelo quies.
– Ну, будем надеяться на лучшее. Однако эта неизвестность чрезвычайно нарушает комфорт, – заметил мистер Уизрингтон, просматривая письмо, по крайней мере в двадцатый раз.
– Больше ничего, Джонатан. Вскоре я позвоню, чтобы подавали кофе, – и мистер Уизрингтон опять остался один и устремил взгляд на потолок.
Отдаленная кузина мистера Уизрингтона, пользовавшаяся его особым расположением (ибо мистер Уизрингтон, имея большое состояние и не имея никакого отношения к торговым делам, не был забыт родственниками), – до известной степени скомпрометировала себя; другими словами, вопреки наставлениям родителей, она полюбила молодого лейтенанта с несомненно почтенной родословной и с совершенно непочтенным состоянием, заключавшемся только в офицерском жаловании. Бедные люди, к сожалению, всегда успешнее в любви, чем богатые, потому что, имея меньше забот и не кичась своим положением, они не так эгоистичны, и гораздо больше думают о своей даме, нежели о себе. Молодые девушки, влюбляясь, тоже никогда не берут в расчет, хватит ли денег на то, чтобы «сварить суп», потому, вероятно, что влюбленные молодые люди теряют свой аппетит и, не чувствуя в этот период голода, воображают, что любовь вечно будет заменять им пищу. Ну-ка, пусть замужние леди скажут сами, правы ли мы, утверждая, что хотя закуска, предложенная им и их друзьям в день свадьбы, вызывает в них чуть ли не отвращение, однако вскоре после того аппетит их возвращается да еще и с процентами. Именно так было и с Цецилией Уизрингтон или, вернее, с Цецилией Темпльмор, так как она накануне свадьбы успела переменить фамилию. Так было и с ее супругом, который всегда обладал хорошим аппетитом, даже в дни своего сватовства; и счет заведующего столом (они поселились в бараках) через несколько недель возрос до тревожных размеров. Цецилия обратилась к своим родным, которые ласково ответили ей, что она может умирать с голоду, но так как подобный совет не пришелся по душе ни ей, ни ее мужу, то она послала письмо к своему кузену Антонию, который ответил ей, что он будет очень рад видеть их у себя за столом, и что они должны переселиться к нему в Финсбери Сквер. Это как раз отвечало их желаниям, но тем не менее оставалось еще преодолеть некоторое затруднение: полк лейтенанта Темпльмора квартировал в одном из йоркширских городов, значит, как ни как, но на каком-то, хоть и небольшом, расстоянии от Финсбери Сквер, и присутствовать за обедом у мистера Уизрингтона в шесть часов пополудни, тогда, когда надо было ежедневно являться на парад в девять часов утра, значило решить невозможную дилемму. Обменялись несколькими письмами по поводу этого запутанного вопроса и, наконец, решили, что мистер Темпльмор выйдет в отставку и переедет к мистеру Уизрингтону вместе со своей хорошенькой женой. Он так и поступил и нашел, что в девять часов утра гораздо приятнее являться к хорошему завтраку, чем на военный парад. Но мистер Темпльмор отличался гордостью и независимостью характера, не позволяющими ему питаться хлебом праздности, и, прожив два месяца в чрезвычайно комфортабельном помещении, где ему не угрожал счет за пользование столовым довольствием, он напрямик изложил свои мысли мистеру Уизрингтону и обратился к нему за помощью в нахождении честного заработка. Мистер Уизрингтон, успевший привязаться к ним обоим, хотел было воспротивиться, сославшись на то, что Цецилия его родная кузина, и что он убежденный холостяк, но мистер Темпльмор твердо стоял на своем, и мистер Уизрингтон весьма нехотя согласился. Один из первоклассных торговых домов подыскивал компаньона для надзора за товарами, отправляемыми в Америку. Мистер Уизрингтон внес требуемую сумму, и через несколько недель мистер и миссис Темпльмор отплыли в Нью-Йорк.
Мистер Темпльмор был деятелен и способен; их дела преуспевали, и по прошествии нескольких лет они могли бы уже надеяться на возвращение в родные края с независимым состоянием. Но осенью, на второй год после их прибытия, разразилась эпидемия – свирепствовала желтая лихорадка; в число тысяч жертв попал и мистер Темпльмор – через каких-нибудь три недели после того, как жена его родила близнецов. Миссис Темпльмор встала с постели вдовой и матерью двух милых мальчиков. На должность покойного мистера Темпльмора торговым учреждением был прислан заместитель, а мистер Уизрингтон снова предложил своей кузине приют, в котором она так нуждалась после столь горестной и неожиданной утраты. В три месяца дела ее были устроены, и миссис Темпльмор со своими малютками, сосавшими грудь двух кормилиц негритянок, и в сопровождении слуги Коко (белые ни за что не соглашались путешествовать одни) отправилась на надежном корабле «Черкес» в Ливерпуль.