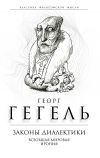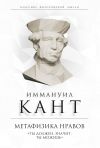Текст книги "Категорический императив и всеобщая мировая ирония"
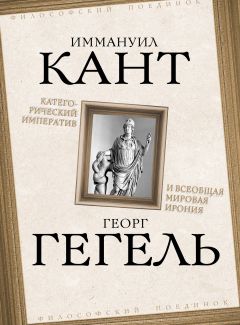
Автор книги: Фридрих Гегель
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Порок в такого рода неумеренности рассматривается здесь не с точки зрения вреда или физической боли (таких болезней), которые человек причиняет себе этим, ибо в таком случае речь шла бы о принципе здоровья и удобства (следовательно, о принципе счастья), с помощью которого следовало бы противодействовать этому пороку; но такой принцип мог бы обосновывать вовсе не долг, а только правило благоразумия; во всяком случае, он был бы принципом прямого долга.
Скотская неумеренность в пище есть злоупотребление средствами удовольствия, из-за чего уменьшается или истощается способность их интеллектуального применения. Пьянство и обжорство – пороки, которые подходят под эту рубрику. Человека, находящегося в пьяном состоянии, следует рассматривать как животное, а не как человека. Перегрузка пищей делает человека на время неспособным совершать действия, требующие ловкости и рассудительности. – Что доходить до такого состояния означает нарушение долга перед самим собой – это очевидно. Первое из этих унижений даже среди животных вызывается обычно хмельными напитками и другими одурманивающими средствами, такими как маковое семя и прочие продукты растительного царства; оно соблазняет тем, что благодаря им на короткое время наступает состояние мнимого счастья и беззаботности и возникает даже воображаемая сила; [затем] наступает разбитость и слабость, и, что хуже всего, становится необходимостью повторять [применение] этих одурманивающих средств, причем во все большем объеме. Обжорство есть животное чувственное удовольствие, поскольку оно превращает чувство лишь в пассивное свойство, и даже воображение не работает, а ведь при воображении все же происходит деятельная игра представлений, как это бывает при пьянстве; стало быть, обжорство еще ближе к животному чувственному удовольствию.
Казуистические вопросы
Можно ли употреблять вино, если не как панегирист, то хотя бы как апологет, до степени, близкой к опьянению? Ведь оно делает общество более разговорчивым и тем самым приводит к откровенности. – Или можно признать за ним ту заслугу, что оно содействует тому, что славил Сенека в Катоне: virtus eius incaluit mero? Употребление опиума и водки как средств удовольствия более мерзко, так как они при мнимоприятном состоянии делают человека безмолвным, скрытным и безучастным, почему они и дозволены только как лечебное средство. Но кто может определить меру для человека, который вот-вот перейдет в состояние, когда его взор уже перестанет видеть какую-либо меру? – Магометанство, полностью запретившее [употребление] вина, сделало плохой выбор, разрешив взамен этого употребление опиума.
Пиршество как приглашение по всем правилам к неумеренности в обоих видах наслаждения, помимо чисто физического удовольствия, имеет еще нечто, направленное на нравственную цель, а именно держит много людей и на долгое время во взаимном общении. Но так как множество людей (если их количество, как говорит Честерфилд, превосходит число муз) позволяет только небольшое общение (с рядом сидящими), стало быть, сама обстановка противоречит цели взаимного общения, то пиршество всегда побуждает к безнравственному, а именно к неумеренности, к нарушению долга перед самим собой, не говоря о физическом вреде перегрузки [пищей], который может быть устранен врачом. Как далеко простирается нравственное правомочие принимать такие приглашения к неумеренности?
ЛожьВеличайшее нарушение долга человека перед самим собой, рассматриваемого только как моральное существо (человечество в его лице), – это противоположность истине – ложь. Ясно само собой, что каждая преднамеренная неправда при высказывании собственных мыслей не может избежать этого резкого слова (которым в учении о праве называется извращение истины только тогда, когда ложь нарушает права других) в этике, не заимствующей свои основания (Befugnis) из безобидности. В самом деле, бесчестность ([что означает] быть предметом морального презрения), которая сопутствует лжи, сопутствует лжецу так же, как его тень. – Ложь может быть внешней (mendacium externum) или внутренней. Внешняя ложь делает человека предметом презрения в глазах других, внутренняя – а это еще хуже – в его собственных глазах, она также оскорбляет достоинство человечества в его лице; причем ущерб, который может быть этим нанесен другим, не касается сущности порока (ведь тогда порок состоял бы только в нарушении долга перед другими), и, следовательно, здесь не принимается в расчет, как не принимается во внимание даже ущерб, нанесенный им самому себе; ведь тогда порок противоречил бы лишь как недостаток благоразумия прагматической, а не моральной максиме и никак не мог бы рассматриваться как нарушение долга. – Ложь есть унижение и как бы уничтожение человеческого достоинства в себе. Человек, который сам не верит тому, что он говорит другому (хотя бы даже идеальному лицу), имеет еще меньшую ценность, чем если бы он был просто вещью; ведь другой может найти применение вещи, используя ее свойство, поскольку она есть нечто действительное и данное. Но передача своих мыслей другому в словах, которые (умышленно) содержат как раз противоположное тому, что при этом думает говорящий, есть цель, прямо противоположная естественной целесообразности его способности сообщать свои мысли, стало быть, отказ от своей личности и лишь обманчивая видимость человека, а не сам человек. – Правдивость в объяснениях называется также честностью, если они к тому же и обещания – добросовестностью, а вообще-то – искренностью.
Для того чтобы объявить неприемлемой ложь (в этическом смысле слова) как преднамеренную неправду вообще, она необязательно должна нанести ущерб другим, ведь тогда она была бы нарушением прав других. Причиной лжи может быть и легкомыслие или даже добродушие; более того, при помощи лжи можно преследовать действительно добрую цель; но сам способ следовать лжи в одной только форме есть преступление человека по отношению к своему собственному лицу и подлость, которая должна делать человека достойным презрения в его собственных глазах.
Доказать действительность некоторых случаев внутренней лжи, в которой люди повинны, легко, но объяснить их возможность все же кажется более трудным, так как требуется второе лицо, которое хотели ввести в заблуждение, но преднамеренный обман самого себя содержит в себе, кажется, противоречие.
Человек как моральное существо (homo noumenon) может пользоваться собой как физическим существом (homo phaenomenon), но не просто как средством (как говорящей машиной), которое не было бы связано внутренней целью (общением мыслей); он связан условием соответствия объяснению (declaratio) морального существа и обязан быть правдивым перед самим собой. – Например, человек притворяется верующим во второе пришествие Христа, не находя в себе этой веры, но уверяя себя, что не повредит, да, пожалуй, будет даже полезно мысленно признаться в этой вере Богу, чтобы на всякий случай лицемерием извлечь себе выгоду. Или он в этом случае хотя и не имеет сомнений, но лицемерит в отношении внутреннего преклонения перед своим законом, так как не чувствует в себе никакого иного мотива, кроме страха перед карой.
Нечестность есть отсутствие совестливости, т. е. ясности признания перед своим внутренним судьей, который мыслится как другое лицо, если рассматривать его с самой большой строгостью; в этом случае желание (из себялюбия) принимается за действие, так как человек ставит перед собой самое по себе добрую цель, и внутренняя ложь, хотя и противоречит долгу человека перед самим собой, приобретает здесь название слабости, подобно тому как желание влюбленного видеть в своей возлюбленной одни лишь хорошие качества делает для него незаметным явные недостатки ее. – Все же эта неясность в объяснениях, которые человек дает самому себе, заслуживает самого серьезного порицания, ибо из такого гнилого места (из фальшивости, которая, по-видимому, имеет свои корни в человеческой природе) зло неправдивости распространяется и в отношении к другим людям, после того как однажды был нарушен высшей принцип правдивости.
Примечание
Заслуживает внимания то, что Библия датирует первое преступление, которое принесло в мир зло, не с братоубийства (Каина), а с первой лжи (так как против братоубийства восстает сама природа) и причиной всего злого называет первого лжеца и отца лжи, хотя разум не может указать дальнейшую причину этой склонности людей к лицемерию (esprit fourbe), которая ведь должна была предшествовать, так как акт свободы не может быть дедуцирован и объяснен (наподобие физического действия) по естественному закону связи действия и его причины, которые вместе суть явления.
Казуистические вопросы
Можно ли считать ложью неправду просто из вежливости (например, «покорнейший слуга» в конце письма)? Ведь это никого не обманывает. – Один автор спрашивает читателя: как вам нравится мое произведение? Ответ, правда, можно дать иллюзорный, так как обычно подтрунивают над щекотливостью такого вопроса, но разве каждый всегда имеет в запасе готовые остроты? Ведь малейшая задержка с ответом уже огорчает автора. Итак, должен ли читатель угождать автору?
Должен ли я отвечать за все последствия сказанной мной неправды в практических сделках, где речь идет о моем и твоем? Например, хозяин приказывает, если его спросит такой-то человек, ответить, что его нет дома. Прислуга выполняет приказание, но это приводит к тому, что хозяин убегает и совершает крупное преступление, которое могло бы быть предотвращено высланной за ним охраной. На кого же здесь ложится вина (согласно этическим принципам)? Без сомнения, также и на слугу, который здесь ложью нарушил долг перед самим собой; последствия этой лжи вменяет ему его собственная совесть.
СкупостьПод ней я подразумеваю здесь не жадность (стремление умножать средства к жизни в достатке за пределы истинных потребностей), так как это можно называть также нарушением своего долга (благотворения) перед другими; и не мелочную расчетливость, которая, если приобретает постыдные формы, называется скаредностью или скряжничеством и все же может быть лишь пренебрежением своим долгом любви к другим; я подразумеваю под скупостью ограничение своего собственного употребления средств существования до предела, который находится ниже меры собственных истинных потребностей. Именно эту скупость я здесь имею в виду, она, собственно, противоречит долгу перед самим собой.
Для выяснения этого порока можно сослаться на пример неправильности всех дефиниций добродетели и порока, исходящих из одной лишь степени, и вместе с тем доказать непригодность аристотелевского принципа, согласно которому добродетель есть середина между двумя пороками.
Если я беру хорошее хозяйство как среднее между расточительством и скупостью и если оно должно быть средним по степени, то порок перешел бы в (contrarie) противоположный порок не иначе, как через добродетель, а добродетель была бы не чем иным, как уменьшенным или, вернее, исчезающим пороком; и в данном случае следовало бы сделать вывод, что истинным долгом добродетели было бы вообще не употреблять никакие средства к жизни в достатке.
Если мы должны отличить порок от добродетели, то нам следует распознавать и излагать как различное не меру исполнения нравственных максим, а объективный принцип их. – Максима жадности приобретения (как максима расточителя) такова: доставать и получать все средства к жизни в достатке с целью употребления. – Максима скаредности, напротив, состоит в приобретении и сохранении всех средств к жизни в достатке, но без намерения употреблять их (т. е. цель здесь не употребление, а обладание).
Итак, отличительный признак последнего из упомянутых пороков – принцип обладания средствами для различных целей, но с оговоркой, что избегают употреблять все эти средства для самого себя и тем самым лишают себя наслаждения жизнью. Это прямо противоположно долгу перед самим собой в отношении цели. Стало быть, расточительство и скаредность отличаются друг от друга не степенью, а специфически, тем, что у них противоположные максимы.
Казуистические вопросы
Так как здесь идет речь только об обязанностях по отношению к самому себе, и алчность (ненасытность в приобретении) с целью расточать, так же как и скряжничество (мелочность в тратах), имеет в своей основе эгоизм (solipsismus), и оба этих порока, как расточительство, так и скаредность, кажутся достойными осуждения только потому, что они приводят к бедности: в одном случае – к неожиданной, в другом – к добровольной (желание жить бедно), – то спрашивается: следует ли их вообще называть пороками и не вернее ли считать их только неблагоразумием, стало быть, не находятся ли они целиком за пределами долга перед самим собой? Однако скаредность есть не только неверно понятая бережливость, но и рабское подчинение материальным благам, а не власть над ними, что представляет собой нарушение долга перед самим собой. Она противоположна либеральности (liberalitas moralis) образа мыслей вообще (не щедрости (liberalitas sumptuosa), которая есть лишь применение ее к отдельному случаю), т. е. принципу независимости от всего другого, кроме закона; она есть хищение, осуществляемое субъектом у самого себя. Но что это за закон, внутренний законодатель которого сам не знает, когда следует применять этот закон? Должен ли я отказывать желудку или отказываться от внешних расходов? В старости или уже в молодости? А вообще, добродетель ли бережливость?
РаболепиеВ системе природы человек (homo phacnomenon, animal rationale) – незначительное существо, имеющее ценность, одинаковую с другими животными как продуктами земли (pretium vulgare). Даже то, что человек превосходит их рассудком и может ставить себе цели, придает ему лишь внешнюю ценность его пригодности (pretium usus), а именно одного человека для другого, т. е. цену как товару в обращении с этими животными как вещами, в котором он все же имеет более низкую цену, чем всеобщее средство обмена – деньги, ценность которых называется поэтому превосходной (pretium eminens).
Однако человек, рассматриваемый как лицо, т. е. как субъект морально-практического разума, выше всякой цены; ведь как такого (homo noumenon) его должно ценить не просто как средство для целей других, да и своих собственных целей, но как цель самое по себе, т. е. он обладает некоторым достоинством (некоей абсолютной внутренней ценностью), благодаря которому он заставляет все другие разумные существа на свете уважать его, может сравнивать себя с каждым другим представителем этого рода и давать оценку на основе равенства.
Человечество в его лице есть объект уважения, которого он может требовать от каждого человека, но которого он и себя не должен лишать. Следовательно, он может и должен оценивать себя и по малому, и по большому мерилу в зависимости от того, рассматривает ли он себя как чувственно воспринимаемое существо (по своей животной природе) или как умопостигаемое существо (по своим моральным задаткам). Но поскольку он должен рассматривать себя не только как лицо вообще, но и как человека, т. е. как лицо, имеющее по отношению к самому себе обязанности, налагаемые на него его собственным разумом, то его ничтожность как человека животного не может умалить его достоинство как человека, наделенного разумом, и он не должен отрекаться от высокой моральной оценки самого себя, имея в виду это достоинство, т. е. он должен добиваться своей цели, которая сама по себе есть долг, не раболепно, не холопски (animo servili), как если бы он добивался милости, не отрекаться от своего достоинства, а всегда [добиваться своей цели] с сознанием возвышенности своих моральных задатков (что содержится уже в понятии добродетели); и такая самооценка есть долг человека перед самим собой.
Сознание и чувство ничтожности своей моральной ценности при сравнении с законом есть смирение (humilitas moralis). Уверенность в величии этой моральной ценности, которую, однако, не сравнивают с законом, называется моральной гордостью (arrogantia moralis). – Отказ от всяких притязаний на моральную ценность самого себя в убеждении, что именно этим можно приобрести скрытую ценность, есть нравственно ложное раболепие (humilitas spuria).
Смирение при сравнении с другими людьми (или вообще с каким бы то ни было конечным существом, если бы оно было даже серафимом) вовсе не долг; более того, стремление в этом отношении сравняться с другими или превзойти их в убеждении создать себе таким образом бо́льшую внутреннюю ценность, есть высокомерие (ambitio), которое прямо противоречит долгу перед другими. Однако унижение своей моральной ценности, придуманное как средство добиться милости другого (кто бы он ни был) есть ложное (вымышленное) смирение и как умаление достоинства своей личности противоположно долгу перед самим собой.
Из нашего искреннего и точного сравнения с моральным законом (с его святостью и строгостью) неизбежно должно следовать истинное смирение, но из того, что мы способны на такое внутреннее законодательство, что (физический) человек чувствует себя принужденным уважать в своем собственном лице (морального) человека, должно в то же время следовать возношение и глубочайшее уважение к себе как чувство своей внутренней ценности (valor), имея которую, человек не может стать предметом продажи ни за какую цену (pretium) и обладает неотъемлемым достоинством (dignitas interna), внушающим ему уважение (reverentia) к самому себе.
Этот долг в отношении достоинства человеческого в нас, стало быть, и в отношении нас самих, можно более или менее пояснить на следующих примерах.
Не становитесь холопом человека. – Не допускайте безнаказанного попрания ваших прав другими. – Не делайте долгов, если у вас нет полной уверенности, что вы сможете их вернуть. – Не принимайте благодеяний, без которых вы можете обойтись, и не будьте прихлебателями или льстецами и уж тем более (что, правда, отличается от них только в степени) нищенствующими. Будьте бережливыми, чтобы не стать нищими. – Жалобы и стенания и даже просто крики при физической боли недостойны вас, особенно если вы сознаете, что сами в этом виноваты; отсюда и проистекает облагораживание (снятие позора) смерти осужденного к казни преступника благодаря стойкости, с которой он умирает. – Склонять колени или падать ниц даже с целью показать свое преклонение перед небесными силами противно человеческому достоинству, так же как и обращение к их изображениям; ибо в этом случае вы покоряетесь не идеалу, который представляет вам ваш собственный разум, а идолу, сотворенному вами самими.
Казуистические вопросы
Не слишком ли сродно в человеке чувство своего высокого признания, т. е. возвышение души (elatio amini) как оценка самого себя, с самомнением (arrogantia), которое прямо противоположно истинному смирению (humilitas moralis), чтобы считать полезным поощрение его даже при сравнении с другими людьми, не только с законом? И не может ли такого рода самоотречение довести суждение других до пренебрежения к нашему лицу и потому противоречить долгу (уважению) перед нами самими? Коленопреклонение и угодничество перед человеком недостойно человека во всех случаях.
Не доказательство ли распространенной среди людей склонности к раболепию выражение предпочтения и уважения в речи и манерах даже не к власть имущим в гражданском устройстве – реверансы, поклоны (комплименты), при дворе – фразы, со скрупулезной пунктуальностью отмечающие различие между сословиями, которые совершенно отличны от вежливости (необходимой и для одинаково уважающих себя), – выражения, как: ты, он, вы, они или ваше преподобие, ваше благородие, ваше высокоблагородие, его высокородие (ohe, iam, satis est!) при обращении – педантизм, который из всех народов мира (быть может, за исключением каст у индийцев) немцы развили дальше всех (Нае nugae in seria ducunt)? Но кто превратил себя в червя, не должен потом жаловаться, что его топчут ногами.
ЧеловеконенавистничествоПороки человеконенавистничества составляют отвратительное семейство зависти, неблагодарности и злорадства. – Ненависть здесь, однако, не открытая и грубая, а тайная и замаскированная, что добавляет к забвению долга перед своим ближним еще низость и таким образом нарушает также долг перед самим собой.
A. Зависть (livor) есть склонность воспринимать с неудовольствием благополучие других, хотя оно не наносит никакого ущерба его благополучию; когда она проявляется в поступке (направленном на то, чтобы лишить блага другого), она называется черной завистью, в остальных же случаях – просто недоброжелательством (invidentia); зависть все же представляет собой лишь косвенно злонравный образ мыслей, а именно досаду от того, что мы видим, как чужое благополучие заслоняет наше собственное; потому что мы не умеем оценивать наше благо по его внутреннему достоинству, а делаем эту оценку наглядной, лишь сравнивая наше благо с благом других. – Поэтому, вероятно, и говорят о завидном согласии и счастье в браке, в семье и т. д., как будто бы есть такие случаи, когда дозволено кому-то завидовать. Побудительные мотивы зависти заложены, следовательно, в природе человека, и лишь их внешнее проявление превращает ее в отвратительный порок угрюмой страсти, терзающей человека и стремящейся к разрушению счастья других, хотя бы только мысленно; [порок этот], стало быть, противен долгу человека перед самим собой и перед другими.
B. Неблагодарность по отношению к своему благотворителю, когда она доходит до ненависти к нему, называется черной неблагодарностью, в прочих же случаях – лишь отсутствием признательности, и хотя в общественном мнении она в высшей степени отвратительный порок, однако из-за нее человек пользуется столь дурной славой, что не считается невероятной возможность нажить себе врага в результате оказанных [кому-либо] благодеяний. – Причина возможности такого порока заключается в неправильно понятом долге перед самим собой, а именно не нуждаться в благотворении других и не требовать его, потому что оно налагает на нас обязательность в отношении других, и лучше самим переносить жизненные тяготы, чем обременять ими других и тем самым становиться их должниками (обязываемыми); дело в том, что мы боимся оказаться, таким образом, ступенью ниже нашего покровителя, стать к нему в отношение покровительствуемого, что противно истинному самоуважению ([состоящему в том, чтобы] гордиться достоинством человечества в своем собственном лице). Поэтому мы так щедры в нашей благодарности по отношению к тем, кто неизбежно должен был опередить нас в благодеянии (по отношению к предкам в нашей памяти или по отношению к родителям), но скудны по отношению к нашим современникам, более того, чтобы как-то сделать незаметным это отношение неравенства, часто доказывается нечто прямо противоположное. – Но в таком случае это порок, возмущающий человечество, и не только из-за ущерба, который подобный пример может нанести людям, отпугивая их от дальнейшего благотворения (ибо люди могут с истинно моральным образом мыслей полагать, что как раз пренебрежение любым подобным вознаграждением придаст их благодеянию более высокую внутреннюю моральную ценность), а потому, что человеколюбие здесь поставлено как бы на голову и отсутствие любви низводится до права ненавидеть любящего.
С. Злорадство, представляющее собой прямую противоположность участливости, также не чуждо человеческой природе; хотя, когда оно доходит до такой степени, что способствует самому несчастью и злу, оно как явное злорадство делает очевидным человеконенавистничество и обнаруживает себя во всей своей гнусности. По законам воображения, а именно по законам контраста, в самой природе заложена возможность сильнее чувствовать свое благополучие и даже свое хорошее поведение, когда несчастье и позор других как бы подкладываются под наше собственное благосостояние как фольга, чтобы показать его еще в более ярком свете. Но выказывать непосредственную радость по поводу существования подобных безобразий, разрушающих всеобщее благо, а стало быть, и желать, чтобы они происходили, – это не что иное, как тайное человеконенавистничество и прямая противоположность любви к ближнему, которая есть наш долг. – Заносчивость людей, живущих все время в благополучии, и самомнение как результат хорошего поведения (но, в сущности, только при счастливом стечении обстоятельств, позволивших пока не поддаться соблазну публичного проявления своего порока), которые самолюбивый человек считает своей заслугой, порождают это злорадство; такое злорадство прямо противоположно долгу, вытекающему из принципа участливости (например, участливости честного Хремета у Теренция: «Я человек, и все, что случается с людьми, касается и меня»).
Самое сладостное злорадство, притом имеющее видимость высшего права и даже обязательности (как жажда справедливости) ставить своей целью ущерб, причиняемый другим без всякой выгоды для себя, – это жажда мести.
Каждый поступок, задевающий право человека, заслуживает наказания, посредством которого виновному отмщают за его преступление (а не просто возмещают причиненный ущерб). Однако наказание есть акт не частной власти обиженного, а отдельного от него суда, который придает законам силу высшей власти, стоящей над всеми, кто подчинен суду, и если рассматривать людей в правовом состоянии, как это и необходимо в этике, но с точки зрения законов чистого разума (а не с точки зрения гражданских законов), то никто неправомочен назначать наказания и мстить за обиды, нанесенные людьми, кроме того, кто есть также высший моральный законодатель, – и только он один (а именно Бог) может сказать: «Мне отмщение, и аз воздам». Следовательно, долг добродетели – не только не отвечать ненавистью, даже из одного лишь чувства мести, на враждебность других, но и никогда не взывать о мести даже к судье мира отчасти потому, что человек сам достаточно осознает собственную вину, чтобы сильно нуждаться в прощении, отчасти и главным образом потому, что никакое наказание, от кого бы оно ни исходило, нельзя назначать из ненависти. – Вот почему миролюбие (placabilitas) есть долг человека; но с этим не следует смешивать бессильную терпимость к обидам (mitis iniuriarum patientia) как отказ от жестких (rigorosa) средств, необходимых для того, чтобы предупреждать оскорбление со стороны других в будущем; ведь это означало бы попрание моих прав другими и нарушение долга человека перед самим собой.
Примечание
Все пороки, которые могли бы сделать ненавистной самое человеческую природу, если бы они (как действенные пороки) приобрели значение принципов, с объективной точки зрения антигуманны, но с субъективной точки зрения они все же человеческие, т. е. такие, по каким мы познаем в опыте наш род. И пусть даже некоторые из них можно было бы в пылу отвращения назвать дьявольскими, равно как противоположные им [качества] – ангельскими добродетелями, все же оба этих понятия – только идеи некоего максимума, который мыслится как мерило при сравнении степени моральности, когда человеку указывается его место либо на небесах, либо в аду, вместо того чтобы превратить его в некое среднее существо, не занимающее ни одного из этих мест. Мы не будем здесь выяснять, постигла ли Галлера бо́льшая удача с его «двузначным существом, полуангелом, полускотом». Но раздваивание при сочетании двух разнородных вещей никогда не ведет к определенному понятию, и ничто не может привести нас к нему в ряду существ, построенном в соответствии с неизвестным нам делением на классы. Первое противопоставление (ангельской добродетели и дьявольского порока) – это преувеличение. Второе, хотя люди, увы, предаются скотским порокам, все же не дает права приписывать им склонность к ним как присущую их виду, так же как уродства отдельных деревьев в лесу еще не дают основания относить эти деревья к особому виду растений.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?