Текст книги "По ту сторону добра и зла"
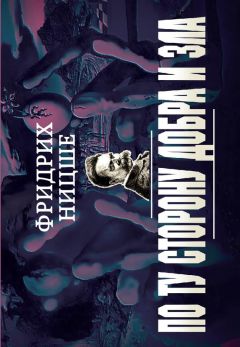
Автор книги: Фридрих Ницше
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
16
Все еще есть такие простодушные самосозерцатели, которые думают, что существуют «непосредственные достоверности», например «я мыслю» или, подобно суеверию Шопенгауэра, «я хочу» – точно здесь познанию является возможность схватить свой предмет в чистом и обнаженном виде, как «вещь в себе», и ни со стороны субъекта, ни со стороны объекта нет места фальши. Но я буду сто раз повторять, что «непосредственная достоверность» точно так же, как «абсолютное познание» и «вещь в себе», заключает в себе contradictio in adjecto[11]11
Противоречие между определяемым словом и определением (лат.).
[Закрыть]: нужно же наконец когда-нибудь освободиться от словообольщения! Пусть народ думает, что познавать – значит узнавать до конца, – философ должен сказать себе: если я разложу событие, выраженное в предложении «я мыслю», то я получу целый ряд смелых утверждений, обоснование коих трудно, быть может, невозможно, – например, что это Я – тот, кто мыслит; что вообще должно быть нечто, что мыслит; что мышление есть деятельность и действие некоего существа, мыслимого в качестве причины; что существует Я; наконец, что уже установлено значение слова «мышление»; что я знаю, что такое мышление. Ибо если бы я не решил всего этого уже про себя, то как мог бы я судить, что происходящее теперь не есть – «хотение» или «чувствование»? Словом, это «я мыслю» предполагает, что я сравниваю мое мгновенное состояние с другими моими состояниями, известными мне, чтобы определить, что оно такое; опираясь же на другое «знание», оно во всяком случае не имеет для меня никакой «непосредственной достоверности». – Вместо этой «непосредственной достоверности», в которую пусть себе в данном случае верит народ, философ получает таким образом целый ряд метафизических вопросов, истых вопросов совести для интеллекта, которые гласят: «Откуда беру я понятие мышления? Почему я верю в причину и действие? Что дает мне право говорить о каком-то Я и даже о Я как о причине и, наконец, еще о Я как о причине мышления?» Кто отважится тотчас же ответить на эти метафизические вопросы, ссылаясь на некоторого рода интуицию познания, как делает тот, кто говорит: «Я мыслю и знаю, что это по меньшей мере истинно, действительно, достоверно», – тому нынче философ ответит улыбкой и парой вопросительных знаков. «Милостивый государь, – скажет ему, быть может, философ, – это невероятно, чтобы вы не ошибались, но зачем же нужна непременно истина?»
17
Что касается суеверия логиков, то я не перестану подчеркивать один маленький факт, неохотно признаваемый этими суеверами, именно, что мысль приходит, когда «она» хочет, а не когда «я» хочу[12]12
Ср. высказывание Гёте у Эккермана: «Надо, чтобы человек был от природы таким, каким он и должен быть, и добрые мысли предстояли нам, словно вольные дети Божии: «Здесь мы!» (Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1986. С. 104).
[Закрыть]; так что будет искажением сущности дела говорить: субъект «я» есть условие предиката «мыслю». Мыслится (Es denkt): но что это «ся» есть как раз старое знаменитое Я, это, выражаясь мягко, только предположение, только утверждение, прежде всего вовсе не «непосредственная достоверность». В конце же концов этим «мыслится» уже много сделано: уже это «ся» содержит в себе толкование события и само не входит в состав его. Обыкновенно делают заключение по грамматической привычке: «Мышление есть деятельность; ко всякой деятельности причастен некто действующий, следовательно —». Примерно по подобной же схеме подыскивала старая атомистика к действующей «силе» еще комочек материи, где она сидит и откуда она действует, – атом; более строгие умы научились наконец обходиться без этого «остатка земного», и, может быть, когда-нибудь логики тоже приучатся обходиться без этого маленького «ся» (к которому улетучилось честное, старое Я).
18
Поистине немалую привлекательность каждой данной теории составляет то, что она опровержима: именно этим влечет она к себе более тонкие умы. Кажется, что сто раз опровергнутая теория о «свободной воле» обязана продолжением своего существования именно этой привлекательности: постоянно находится кто-нибудь, чувствующий себя достаточно сильным для ее опровержения.
19
Философы имеют обыкновение говорить о воле как об известнейшей в мире вещи; Шопенгауэр же объявил, что одна-де воля доподлинно известна нам, известна вполне, без всякого умаления и примеси. Но мне постоянно кажется, что и Шопенгауэр сделал в этом случае лишь то, что обыкновенно делают философы: принял народный предрассудок и еще усилил его. Мне кажется, что хотение есть прежде всего нечто сложное, нечто имеющее единство только в качестве слова – и как раз в выражении его одним словом сказывается народный предрассудок, господствующий над всегда лишь незначительной осмотрительностью философов. Итак, будем же осмотрительнее, перестанем быть «философами» – скажем так: в каждом хотении есть, во-первых, множество чувств, именно: чувство состояния, от которого мы стремимся избавиться, чувство состояния, которого мы стремимся достигнуть, чувство самих этих стремлений, затем еще сопутствующее мускульное чувство, возникающее, раз мы «хотим», благодаря некоторого рода привычке и без приведения в движение наших «рук и ног». Во-вторых, подобно тому как ощущения – и именно разнородные ощущения – нужно признать за ингредиент воли, так же обстоит дело и с мышлением: в каждом волевом акте есть командующая мысль; однако нечего и думать, что можно отделить эту мысль от «хотения» и что будто тогда останется еще воля! В-третьих, воля есть не только комплекс ощущения и мышления, но прежде всего еще и аффект – и к тому же аффект команды. То, что называется «свободой воли», есть в сущности превосходящий аффект по отношению к тому, который должен подчиниться: «я свободен, «он» должен повиноваться», – это сознание кроется в каждой воле так же, как и то напряжение внимания, тот прямой взгляд, фиксирующий исключительно одно, та безусловная оценка положения «теперь нужно это и ничто другое», та внутренняя уверенность, что повиновение будет достигнуто, и все, что еще относится к состоянию повелевающего. Человек, который хочет, – приказывает чему-то в себе, что повинуется или о чем он думает, что оно повинуется. Но обратим теперь внимание на самую удивительную сторону воли, этой столь многообразной вещи, для которой у народа есть только одно слово: поскольку в данном случае мы являемся одновременно приказывающими и повинующимися и, как повинующимся, нам знакомы чувства принуждения, напора, давления, сопротивления, побуждения, возникающие обыкновенно вслед за актом воли; поскольку, с другой стороны, мы привыкли не обращать внимания на эту двойственность, обманчиво отвлекаться от нее при помощи синтетического понятия Я, – к хотению само собой пристегивается еще целая цепь ошибочных заключений и, следовательно, ложных оценок самой воли, – таким образом, что хотящий совершенно искренне верит, будто хотения достаточно для действия. Так как в огромном большинстве случаев хотение проявляется там, где можно ожидать и воздействия повеления, стало быть, повиновения, стало быть, действия, то видимая сторона дела, будто тут существует необходимость действия, претворилась в чувство; словом, хотящий полагает с достаточной степенью уверенности, что воля и действие каким-то образом составляют одно, – он приписывает самой воле еще и успех, исполнение хотения и наслаждается при этом приростом того чувства мощи, которое несет с собою всяческий успех. «Свобода воли» – вот слово для этого многообразного состояния удовольствия хотящего, который повелевает и в то же время сливается в одно существо с исполнителем, – который в качестве такового наслаждается совместно с ним торжеством над препятствиями, но втайне думает, будто в сущности это сама его воля побеждает препятствия. Таким образом, хотящий присоединяет к чувству удовольствия повелевающего еще чувства удовольствия исполняющих, успешно действующих орудий, служебных «под-воль» или под-душ, – ведь наше тело есть только общественный строй многих душ. L’effet c’est moi[13]13
Действие – это я (фр.).
[Закрыть]: тут случается то же, что в каждой благоустроенной и счастливой общине, где правящий класс отождествляет себя с общественными успехами. При всяком хотении дело идет непременно о повелевании и повиновении, как сказано, на почве общественного строя многих «душ», отчего философ должен бы считать себя вправе рассматривать хотение само по себе уже под углом зрения морали, причем под моралью подразумевается именно учение об отношениях власти, при которых возникает феномен «жизнь». —
20
Что отдельные философские понятия не представляют собою ничего произвольного, ничего само по себе произрастающего, а вырастают в соотношении и родстве друг с другом; что, несмотря на всю кажущуюся внезапность и произвольность их появления в истории мышления, они все же точно так же принадлежат к известной системе, как все виды фауны к данной части света, – это сказывается напоследок в той уверенности, с которой самые различные философы постоянно заполняют некую краеугольную схему возможных философий[14]14
Эта схема (своего рода периодическая таблица возможных философий) была впервые открыта Р. Штейнером в курсе лекций «Человеческое и космическое мышление», прочитанном в Дорнахе в 1914 г. (Steiner R. Der menschliche und der kosmische Gedanke. Dornach. 1961).
[Закрыть]. Под незримым ярмом постоянно вновь пробегают они по одному и тому же круговому пути, и, как бы независимо ни чувствовали они себя друг от друга со своей критической или систематической волей, нечто в них самих ведет их, нечто гонит их в определенном порядке друг за другом – прирожденная систематичность и родство понятий. Их мышление в самом деле является в гораздо меньшей степени открыванием нового, нежели опознаванием, припоминанием старого, – возвращением под родной кров, в далекую стародавнюю общую вотчину души, в которой некогда выросли эти понятия, – в этом отношении философствование есть род атавизма высшего порядка. Удивительное фамильное сходство всего индийского, греческого, германского философствования объясняется довольно просто. Именно там, где наличествует родство языков, благодаря общей философии грамматики (т. е. благодаря бессознательной власти и руководительству одинаковых грамматических функций), все неизбежно и заранее подготовлено для однородного развития и последовательности философских систем; точно так же как для некоторых иных объяснений мира путь является как бы закрытым. Очень вероятно, что философы урало-алтайских наречий (в которых хуже всего развито понятие «субъект») иначе взглянут «в глубь мира» и пойдут иными путями, нежели индогерманцы и мусульмане[15]15
Почти дословное предвосхищение гипотезы лингвистической относительности Сепира и Уорфа.
[Закрыть]: ярмо определенных грамматических функций есть в конце концов ярмо физиологических суждений о ценностях и расовых условий. – Вот что можно сказать против поверхностных взглядов Локка на происхождение идей.
21
Causa sui – это самое вопиющее из всех доселе выдуманных самопротиворечий, своего рода логическое насилие и противоестественность; но непомерная гордость человека довела его до того, что он страшнейшим образом запутался как раз в этой нелепости. Желание «свободы воли» в том метафизическом, суперлативном смысле, который, к сожалению, все еще царит в головах недоучек, желание самому нести всю без изъятия ответственность за свои поступки, сняв ее с Бога, с мира, с предков, со случая, с общества, – есть не что иное, как желание быть той самой causa sui и с более чем мюнхаузеновской смелостью вытащить самого себя за волосы в бытие из болота Ничто. Но допустим, что кто-нибудь раскусит-таки мужицкую простоватость этого знаменитого понятия «свободная воля» и выкинет его из своей головы, – в таком случае я уж попрошу его подвинуть еще на шаг дело своего «просвещения» и выкинуть из головы также и инверсию этого лжепонятия «свободная воля»: я разумею «несвободную волю», являющуюся следствием злоупотребления причиной и действием. «Причину» и «действие» не следует овеществлять, как делают натуралисты (и те, кто нынче следует их манере в области мышления) согласно с господствующей механистической бестолковостью, заставляющей причину давить и толкать, пока она не «задействует». «Причиной» и «действием» нужно пользоваться как чистыми понятиями, т. е. как общепринятыми фикциями, в целях обозначения, соглашения, а не объяснения. В «сущности вещей» (An-sich) нет никакой «причинной связи», «необходимости», «психологической несвободы»: там «действие» не следует «за причиной», там не царит никакой «закон». Это мы, только мы выдумали причины, последовательность, взаимную связь, относительность, принуждение, число, закон, свободу, основание, цель; и если мы примысливаем, примешиваем к вещам этот мир знаков как нечто «само по себе», то мы поступаем снова так, как поступали всегда, именно мифологически. «Несвободная воля» – это мифология: в действительной жизни дело идет только о сильной и слабой воле. – Если мыслитель во всякой «причинной связи» и «психологической необходимости» уже чувствует некоторую долю приневоливания, нужды, необходимости следствия, давления, несвободы, то это почти всегда симптом того, чего не хватает ему самому: чувствовать так – предательство: личность выдает себя. И вообще, если верны мои наблюдения, «несвобода воли» понимается как проблема с двух совершенно противоположных сторон, но всегда с глубоко личной точки зрения: одни ни за что не хотят отказаться от собственной «ответственности», от веры в себя, от личного права на свои заслуги (к этой категории принадлежат тщеславные расы); другие, наоборот, не хотят ни за что отвечать, ни в чем быть виновными и желали бы, из чувства внутреннего самопрезрения, иметь возможность сбыть куда-нибудь самих себя. Последние, если они пишут книги, имеют нынче обыкновение защищать преступников; род социалистического сострадания – их любимая маска. И в самом деле, фатализм слабовольных удивительно украшается, если он умеет отрекомендовать себя как «la religion de la souffrance humaine»[16]16
Религия человеческого страдания (фр.).
[Закрыть]: это его «хороший вкус».
22
Пусть простят мне, как старому филологу, который не может отделаться от злой привычки клеймить скверные уловки толкования – но эта «закономерность природы», о которой вы, физики, говорите с такой гордостью, как если бы… – существует только благодаря вашему толкованию и плохой «филологии», – она не есть сущность дела, не есть «текст», а скорее только наивно-гуманитарная подправка и извращение смысла, которыми вы вдосталь угождаете демократическим инстинктам современной души! «Везде существует равенство перед законом; в природе дело обстоит в этом отношении не иначе и не лучше, чем у нас»; благонравная задняя мысль, которой еще раз маскируется враждебность черни ко всему привилегированному и самодержавному, маскируется второй, более тонкий атеизм. «Ni dieu, ni maître»[17]17
Ни Бога, ни хозяина (фр.).
[Закрыть] – этого хотите и вы, – и потому «да здравствует закон природы!» – не так ли? Но, как сказано, это – толкование, а не текст, и может явиться кто-нибудь такой, кто с противоположным намерением и искусством толкования сумеет вычитать из той же самой природы и по отношению к тем же самым явлениям как раз тиранически беспощадную и неумолимую настойчивость требований власти; может явиться толкователь, который представит вам в таком виде неуклонность и безусловность всякой «воли к власти», что почти каждое слово, и даже слово «тирания», в конце концов покажется непригодным, покажется уже ослабляющей и смягчающей метафорой, покажется слишком человеческим; и при всем том он, может быть, кончит тем, что будет утверждать об этом мире то же, что и вы, именно, что он имеет «необходимое» и «поддающееся вычислению» течение, но не потому, что в нем царят законы, а потому, что абсолютно нет законов и каждая власть в каждое мгновение выводит свое последнее заключение. Положим, что это тоже лишь толкование – и у вас хватит усердия возражать на это? – ну что ж, тем лучше. —
23
Вся психология не могла до сих пор отделаться от моральных предрассудков и опасений: она не отважилась проникнуть в глубину. Понимать ее как морфологию и учение о развитии воли к власти, как ее понимаю я, – этого еще ни у кого даже и в мыслях не было; если только позволительно в том, что до сих пор написано, опознавать симптом того, о чем до сих пор умолчано[18]18
Тема, получившая глубокое развитие во всем философском творчестве М. Хайдеггера.
[Закрыть]. Сила моральных предрассудков глубоко внедрилась в умственный мир человека, где, казалось бы, должны царить холод и свобода от гипотез, – и, само собою разумеется, она действует вредоносно, тормозит, ослепляет, искажает. Истой физиопсихологии приходится бороться с бессознательными противодействиями в сердце исследователя, ее противником является «сердце»: уже учение о взаимной обусловленности «хороших» и «дурных» инстинктов (как более утонченная безнравственность) удручает даже сильную, неустрашимую совесть, – еще более учение о выводимости всех хороших инстинктов из дурных. Но положим, что кто-нибудь принимает даже аффекты ненависти, зависти, алчности, властолюбия за аффекты, обусловливающие жизнь, за нечто принципиально и существенно необходимое в общей экономии жизни, что, следовательно, должно еще прогрессировать, если должна прогрессировать жизнь, – тогда он будет страдать от такого направления своих мыслей как от морской болезни. Однако даже эта гипотеза не самая мучительная и не самая странная в этой чудовищной, почти еще новой области опасных познаний: и в самом деле есть сотни веских доводов за то, что каждый будет держаться вдали от этой области, – кто может! С другой стороны: раз наш корабль занесло туда, ну что ж! крепче стиснем зубы! будем смотреть в оба! рукою твердою возьмем кормило! – мы переплываем прямо через мораль, мы попираем, мы раздробляем при этом, может быть, остаток нашей собственной моральности, отваживаясь направить наш путь туда, – но что толку в нас! Еще никогда отважным путешественникам и искателям приключений не открывался более глубокий мир прозрения: и психолог, который таким образом «приносит жертву» (но это не sacrifizio dell’intelletto[19]19
Принесение в жертву ума (ит.). Оборот, ставший расхожим после провозглашения папской непогрешимости (булла Ineffabilis, 1870).
[Закрыть], напротив!), будет по меньшей мере вправе требовать за это, чтобы психология была снова признана властительницей наук, для служения и подготовки которой существуют все науки. Ибо психология стала теперь снова путем к основным проблемам.
Отдел второй: Свободный ум
24
О sancta simplicitas! В каком диковинном опрощении и фальши живет человек! Невозможно вдосталь надивиться, если когда-нибудь откроются глаза, на это чудо! каким светлым, и свободным, и легким, и простым сделали мы всё вокруг себя! – как сумели мы дать своим чувствам свободный доступ ко всему поверхностному, своему мышлению – божественную страсть к резвым скачкам и ложным заключениям! – Как ухитрились мы с самого начала сохранить свое неведение, чтобы наслаждаться едва постижимой свободой, несомненностью, неосторожностью, неустрашимостью, веселостью жизни, – чтобы наслаждаться жизнью! И только уже на этом прочном гранитном фундаменте неведения могла до сих пор возвышаться наука, воля к знанию, на фундаменте гораздо более сильной воли, воли к незнанию, к неверному, к ложному! И не как ее противоположность, а как ее утонченность! Пусть даже речь, как в данном, так и в других случаях, не может выйти из своей неповоротливости и продолжает говорить о противоположностях везде, где только есть степени и кое-какие тонкости в оттенках; пусть также воплощенное тартюфство морали, ставшее теперь составной частью нашей непобедимой «плоти и крови», даже у нас, знающих, извращает слова в устах наших – порой мы понимаем это и смеемся, видя, как и самая лучшая наука хочет всеми силами удержать нас в этом опрощенном, насквозь искусственном, складно сочиненном, складно подделанном мире, видя, как и она, волей-неволей, любит заблуждение, ибо и она, живая, любит жизнь!
25
После такого веселого вступления пусть будет выслушано и серьезное слово: оно обращается к серьезнейшим. Берегитесь, философы и друзья познания, и остерегайтесь мучений! Остерегайтесь страдания «во имя истины»! Остерегайтесь даже собственной защиты! Это лишает вашу совесть всякой невинности и тонкого нейтралитета, это делает вас твердолобыми к возражениям и красным платкам, это отупляет, озверяет, уподобляет вас быкам, когда в борьбе с опасностью, поруганием, подозрениями, изгнанием и еще более грубыми последствиями вражды вам приходится в конце концов разыгрывать из себя защитников истины на земле, – точно «истина» такая простодушная и нерасторопная особа, которая нуждается в защитниках! И именно в вас, о рыцари печального образа, господа зеваки и пауки-ткачи ума! В конце концов, вы довольно хорошо знаете, что решительно все равно, окажетесь ли именно вы правыми, так же как знаете, что до сих пор еще ни один философ не оказывался правым и что в каждом маленьком вопросительном знаке, который вы ставите после ваших излюбленных слов и любимых учений (а при случае и после самих себя), может заключаться более достохвальная правдивость, чем во всех торжественных жестах, которыми вы козыряете перед обвинителями и судилищами! Отойдите лучше в сторону! Скройтесь! И наденьте свою маску и хитрость, чтобы вас путали с другими! Или немного боялись! И не забудьте только о саде, о саде с золотой решеткой! И окружите себя людьми, подобными саду, – или подобными музыке над водами в вечерний час, когда день становится уже воспоминанием, – изберите себе хорошее одиночество, свободное, веселое, легкое одиночество, которое даст и вам право оставаться еще в каком-нибудь смысле хорошими! Какими ядовитыми, какими хитрыми, какими дурными делает людей всякая долгая война, которую нельзя вести открытою силой! Какими личными делает их долгий страх, долгое наблюдение за врагами, за возможными врагами! Эти изгнанники общества, эти долго преследуемые, злобно травимые, – также отшельники по принуждению, эти Спинозы или Джордано Бруно – становятся всегда в конце концов рафинированными мстителями и отравителями, хотя бы и под прикрытием духовного маскарада и, может быть, бессознательно для самих себя (доройтесь-ка хоть раз до дна этики и теологии Спинозы!), – нечего и говорить о бестолковости морального негодования, которое у всякого философа всегда служит безошибочным признаком того, что его покинул философский юмор. Мученичество философа, его «принесение себя в жертву истине» обнаруживает то, что было в нем скрыто агитаторского и актерского; и если предположить, что на него до сих пор смотрели только с артистическим любопытством, то по отношению к иному философу, конечно, может показаться понятным опасное желание увидеть его когда-нибудь также и в состоянии вырождения (выродившимся в «мученика», в крикуна подмостков и трибун). Лишь бы при подобном желании непременно ясно понимать, что при этом во всяком случае придется увидеть: только драму сатиров, только заключительный фарс, только непрерывное доказательство того, что долгая подлинная трагедия кончилась, – предполагая, что всякая философия в своем возникновении была долгой трагедией. —
26
Каждый избранный человек инстинктивно стремится к своему замку и тайному убежищу, где он избавляется от толпы, от многих, от большинства, где он может забыть правило «человек» как его исключение, – за исключением одного случая, когда еще более сильный инстинкт наталкивает его на это правило, как познающего в обширном и исключительном смысле. Кто, общаясь с людьми, не отливает при случае всеми цветами злополучия, зеленея и серея от отвращения, пресыщения, сочувствия, сумрачности, уединенности, тот наверняка не человек с высшими вкусами; но положим, что он не берет на себя добровольно всю эту тягость и докуку, что он постоянно уклоняется от нее и, как сказано, продолжает гордо и безмолвно скрываться в своем замке, – в таком случае верно одно: он не создан, не предназначен для познания. Ибо как таковой он должен бы был сказать себе в один прекрасный день: «Черт побери мой хороший вкус! но правило интереснее, нежели исключение – нежели я, исключение!» – и отправился бы вниз, прежде всего «в среду». Изучение среднего человека, долгое, серьезное, и с этой целью множество переодеваний, самопреодолений, фамильярности, дурного обхождения (всякое обхождение дурно, кроме обхождения с себе подобным), – составляет необходимую часть биографии каждого философа, быть может, самую неприятную, самую зловонную, самую богатую разочарованиями часть. Если же на долю его выпадает счастье, как подобает баловню познания, то он встречает людей, поистине сокращающих и облегчающих его задачу, – я разумею так называемых циников, т. е. таких людей, которые просто признают в себе животность, пошлость, «правило» и при этом обладают еще той степенью ума и кичливости, которая их заставляет говорить о себе и себе подобных перед свидетелями: иногда даже и в книгах они точно валяются в собственном навозе. Цинизм есть единственная форма, в которой пошлые души соприкасаются с тем, что называется искренностью; и высшему человеку следует навострять уши при каждом более крупном и утонченном проявлении цинизма и поздравлять себя каждый раз, когда прямо перед ним заговорит бесстыдный скоморох или научный сатир. Бывают даже случаи, когда при этом к отвращению примешивается очарование: именно, когда с таким нескромным козлом и обезьяной по прихоти природы соединяется гений, как у аббата Галиани, самого глубокого, самого проницательного и, может быть, самого грязного из людей своего века; он был гораздо глубже Вольтера и, следовательно, также в значительной степени молчаливее его. Гораздо чаще бывает, что, как сказано, ученая голова насажена на туловище обезьяны, исключительно тонкий ум соединен с пошлой душой, – среди врачей и физиологов морали это не редкий случай. И где только кто-нибудь без раздражения, а скорее добродушно говорит о человеке как о брюхе с двумя потребностями и о голове – с одной; всюду, где кто-нибудь видит, ищет и хочет видеть подлинные пружины людских поступков только в голоде, половом вожделении и тщеславии; словом, где о человеке говорят дурно, но совсем не злобно, – там любитель познания должен чутко и старательно прислушиваться, и вообще он должен слушать там, где говорят без негодования. Ибо негодующий человек и тот, кто постоянно разрывает и терзает собственными зубами самого себя (или взамен этого мир, или Бога, или общество), может, конечно, в моральном отношении стоять выше смеющегося и самодовольного сатира, зато во всяком другом смысле он представляет собою более обычный, менее значительный, менее поучительный случай. И никто не лжет так много, как негодующий.
27
Трудно быть понятым: особенно если мыслишь и живешь gangasrotogati среди людей, которые все поголовно иначе мыслят и живут, именно, kurmagati или в лучшем случае «аллюром лягушки», mandeikagati[20]20
Эти три санскритских слова означают: ходом течения Ганга (presto), ходом черепахи (lento), ходом лягушки (staccato).
[Закрыть], – не делаю ли я все для того, чтобы меня самого «понимали с трудом»! – и нужно быть сердечно признательным за добрую волю к некоторой тонкости толкования. Что же касается «добрых друзей», которые всегда слишком ленивы и полагают, что именно в качестве друзей имеют право на леность, – то поступишь хорошо, если заранее предоставишь им просторную арену недоразумений: тогда можно еще и посмеяться; или можно совсем избавиться от них, от этих добрых друзей, – и тоже посмеяться!
28
Что труднее всего поддается переводу с одного языка на другой, так это темп его стиля, коренящийся в характере расы, или, выражаясь физиологически, в среднем темпе ее «обмена веществ». Есть переводы, считаемые добросовестными, но являющиеся почти искажениями, как невольные опошления оригинала, просто потому, что не могут передать его смелого, веселого темпа, который перескакивает, переносит нас через все опасности, кроющиеся в вещах и словах. Немец почти неспособен в своей речи к presto, а стало быть, само собой разумеется, и ко многим забавным, смелым nuances свободной, вольной мысли. Насколько чужды ему буффон и сатир телом и совестью, настолько же непереводимы для него Аристофан и Петроний. Все важное, неповоротливое, торжественно тяжеловесное, все томительные и скучные роды стиля развились у немцев в чрезмерном разнообразии – пусть простят мне тот факт, что даже проза Гёте, представляющая собою смесь чопорности и изящества, не составляет исключения, как отражение «доброго старого времени», к которому она относится, и как выражение немецкого вкуса того времени, когда еще существовал «немецкий вкус» – вкус рококо, in moribus et artibus[21]21
В правах и искусствах (лат.).
[Закрыть]. Лессинг является исключением благодаря своей актерской натуре, которая многое понимала и многое умела, – недаром он был переводчиком Бейля и охотно искал убежища у Дидро и Вольтера, а еще охотнее у римских комедиографов: Лессинг тоже любил в темпе вольность, бегство из Германии. Но как смог бы немецкий язык, хотя бы даже в прозе какого-нибудь Лессинга, перенять темп Макиавелли, который в своем principe[22]22
Государь (ит.).
[Закрыть] заставляет дышать сухим, чистым воздухом Флоренции и который принужден излагать серьезнейшие вещи в неукротимом allegrissimo – быть может, не без злобно артистического чувства того контраста, на который он отваживается: длинные, тяжелые, суровые, опасные мысли – и темп галопа и самого развеселого настроения. Наконец, кто посмел бы рискнуть на немецкий перевод Петрония, который, как мастер presto в вымыслах, причудах, словах, был выше любого из великих музыкантов до настоящего времени, – и что такое, в конце концов, все болота больного, страждущего мира, также и «древнего мира», для того, кто, подобно ему, имеет ноги ветра, полет и дыхание его, освободительный язвительный смех ветра, который всё оздоровляет, приводя всё в движение! Что же касается Аристофана, этого просветляющего и восполняющего гения, ради которого всему эллинству прощается его существование, – при условии, что люди в совершенстве поняли, что именно там нуждается в прощении, в просветлении, – я и не знаю ничего такого, что заставляло меня мечтать о скрытности Платона и его натуре сфинкса больше, нежели тот счастливо сохранившийся petit fait[23]23
Маленький факт (фр.).
[Закрыть], что под изголовьем его смертного ложа не нашли никакой «Библии», ничего египетского, пифагорейского, платоновского, а нашли Аристофана. Как мог бы даже и Платон вынести жизнь – греческую жизнь, которую он отрицал, – без какого-нибудь Аристофана! —
29
Независимость – удел немногих: это преимущество сильных. И кто покушается на нее, хотя и с полнейшим правом, но без надобности, тот доказывает, что он, вероятно, не только силен, но и смел до разнузданности. Он вступает в лабиринт, он в тысячу раз увеличивает число опасностей, которые жизнь сама по себе несет с собою; из них не самая малая та, что никто не видит, как и где он заблудится, удалится от людей и будет разорван на части каким-нибудь пещерным Минотавром совести. Если такой человек погибает, то это случается так далеко от области людского уразумения, что люди этого не чувствуют и этому не сочувствуют, – а он уже не может больше вернуться назад. Он не может более вернуться к состраданию людей! —
30
Наши высшие прозрения должны – и обязательно! – казаться безумствами, а смотря по обстоятельствам, и преступлениями, если они запретными путями достигают слуха тех людей, которые не созданы, не предназначены для этого. Различие между эксотерическим и эсотерическим, как его понимали встарь в среде философов, у индусов, как и у греков, персов и мусульман, словом, всюду, где верили в кастовый порядок, а не в равенство и равноправие, – это различие основывается не на том, что эксотерик стоит снаружи и смотрит на вещи, ценит, мерит их, судит о них не изнутри, а извне: – более существенно здесь то, что он смотрит на вещи снизу вверх, – эсотерик же сверху вниз! Есть такие духовные высоты, при взгляде с которых даже трагедия перестает действовать трагически; и если совокупить в одно всю мировую скорбь, то кто отважится утверждать, что это зрелище необходимо склонит, побудит нас к состраданию и таким образом к удвоению скорби?.. То, что служит пищей или усладой высшему роду людей, должно быть почти ядом для слишком отличного от них и низшего рода. Добродетели заурядного человека были бы, пожалуй, у философа равносильны порокам и слабостям, и возможно, что человек высшего рода, вырождаясь и погибая, только благодаря этому становится обладателем таких качеств, которые заставляют низший мир, куда привело его падение, почитать его теперь как святого. Есть книги, имеющие обратную ценность для души и здоровья, смотря по тому, пользуется ли ими низкая душа, низменная жизненная сила или высшая и мощная: в первом случае это опасные, разъедающие, разлагающие книги, во втором – клич герольда, призывающий самых доблестных к их доблести. Общепринятые книги – всегда зловонные книги: запах маленьких людей пристает к ним. Там, где толпа ест и пьет, даже где она поклоняется, – там обыкновенно воняет. Не нужно ходить в церкви, если хочешь дышать чистым воздухом. —
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































