Текст книги "Леонардо да Винчи. О науке и искусстве"
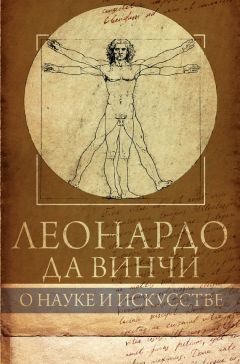
Автор книги: Габриэль Сеайль
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Я не вижу, чтобы он сжигал свои рукописи или написал хоть одну фразу, которая походила бы на отречение. Ничего нет удивительного в том, что незадолго до смерти он окинул меланхолическим взглядом всю пройденную жизнь, что в последний раз доверил Мельци свои сожаления о великих прерванных планах, о стольких истинах, затерянных в неразборчивых рукописях; что он в смертный час чувствовал скорбь, удаляясь неузнанным, не сказав последнего, высшего слова, которое, по его мнению, было только лепетом даже в его шедеврах. Сожаление о благе, какое он мог бы сделать, затемняет воспоминание о благе, уже сделанном им. Но зачем эти угрызения совести? Не сказал ли он: «Полезно проведенная жизнь достаточно долга»? Кто больше его работал и какая работа была когда-либо плодотворнее, чем его? Кто мог бы похвалиться, что, открывая такую массу истин, он всем этим обязан только самому себе? Если какая-либо горестная мысль и примешивалась к сознанию, что он вполне заслужил великое спокойствие смерти, то это были думы не о себе самом, а о других, о духовном общении людей, о вечной работе, постепенно создаваемой людьми, об открываемых ими истинах, о создаваемой ими красоте. Был ли он ответствен за свой многосторонний гений, побуждавший его проявлять себя в разнообразнейших направлениях? Должен ли он был бороться с этим? Как ученый, должен ли он был пожертвовать наукой? Будучи мыслителем, обязан ли он был пожертвовать мыслью? Он прекрасно исполнил свои человеческие обязанности; он был человеком в полном смысле этого слова: гармоническим сочетанием души и тела, чудной уравновешенностью всех способностей он нам оставил образец человеческого рода, к которому мы еще долго будем обращаться с благоговейным удивлением.
И, однако, почему в конце этой жизни – и какой жизни! – какой-то прилив меланхолии? Почему нет чувства удовлетворенности, сознания полезно употребленного времени? Ведь кажется неблагодарностью сожалеть о том, что оно прошло. Рафаэль умер в самом блеске своего гения и своей славы, и эта жизнь, оборванная в самой цветущей поре, кажется от этого еще более прелестной и более желанной. Вечно волнующийся Микеланджело находит в этой душевной буре какое-то счастье, которое подходит к его мрачно-величественной душе. Почему же жизнь Винчи, как и его чудесные произведения, оставляют в нас какую-то смутную тревогу? Бернардино Луини непременно хотел, чтобы в его картине «Брак св. Девы», написанной им для церкви городка Саронно, был изображен его учитель, без которого он не мог бы создать такого произведения. На фоне картины он нарисовал голову Леонардо, с его длинными волосами, сверкающая белизна которых смешивается с белизной бороды, падающей на грудь. Какое суровое лицо у него среди этого празднества, как он там одинок! Таково воспоминание, которое сохранил Луини о глубокопочитаемом наставнике. Еще более выразителен находящийся в Турине этюд, где сам Леонардо оставил нам свое собственное изображение. Несколькими штрихами карандаша обозначены волнистые волосы и борода, обрамляющие лицо, которое выступает с какой-то резкой силой. Обнаженный лоб изборожден морщинами; густые брови покрывают верхнее веко; окруженные синевой глаза повелительно устремлены, а складка над носом указывает на сосредоточенное внимание; нижняя губа выражает презренье, а опущенные углы рта образуют скорбную складку[35]35
Когда я показал этот портрет одной почтенной даме, то первыми ее словами было: «Какая у него добрая наружность!» Меня не особенно поражает эта доброта, но именно поэтому мне показалось любопытным отметить это восклицание.
[Закрыть]. Это голова старого орла, привыкшего к грандиозным полетам и утомленного от слишком частого созерцания солнца. Меланхолия Винчи есть следствие глубоких дум и великих надежд. Микеланджело и Рафаэль – люди своего века. Между их гением и их средой существует полнейшее равновесие. Их приветствуют, прославляют, признают. Их работа ограничена и пропорциональна их силам; они чувствуют радость хорошего работника, видящего, что его задача исполнена. Леонардо есть предвестник грядущего времени. Он мечтает, что с помощью науки, привлеченной к услугам искусства, он доставит человеку господство над миром. По мере того как он продвигается вперед, все увеличивается расстояние, отделяющее его от этой мечты; мы и до сих пор не одолели его. Этот человек, так много живший с людьми, этот любимец принцев и знатных дам Милана и Флоренции, этот страстно любимый учениками наставник, в сущности, жил отшельником. Не зависело ли это от того, что он носил в себе мечту о новом мире, который он созерцал издали, но никогда не мог войти в него, как Моисей в обетованную землю?
Часть вторая
Метод и научные теории Леонардо да Винчи (по его рукописям)
Первая глава
Леонардо да Винчи как ученый. Его метод и взгляд на науку
I. Рукописи представляют или простые заметки, или необработанное резюме этих заметок. – Не существует ни цельного произведения, ни связных статей.
II. Леонардо – не схоластик и не гуманист. – Нападки на авторитеты. – Уважение и независимое отношение к древним.
III. Истинный научный метод – опыт. – Индуктивная логика.
IV. Наука начинается индукцией, а завершается математическими доказательствами. – Она отличается достоверностью и могуществом.
V. Нападки на мнимые науки: схоластику, алхимию и некромантию.
VI. Позитивист ли Леонардо? – Наука и метафизика.
Мы не знаем так хорошо, как желали бы, жизнь Леонардо. Обнародованные документы, контракты, банковские счета, отчет о состоянии его отца – все это не дает нам того, чем мы особенно интересуемся. Мы знаем, сколько флоринов он внес в госпиталь Санта-Мария-Новелла, но нам приятнее было бы узнать, насколько он отдавался страстям, которых никто не может избежать. Поздняя любовь Микеланджело к Виктории Колонна внушила ему самые трогательные его сонеты. Леонардо не оставил нам никаких признаний, кроме портрета Джоконды, тайна которой осталась неразоблаченной. В этой неизвестности заключается нечто, возбуждающее наше любопытство: интерес к банальному роману заменяется суровой повестью великого духа. В своих многочисленных записных книжках Леонардо неоднократно упоминает о касающихся его событиях – но в немногих словах, с точным обозначением времени, без всяких объяснений, без малейшего выражения чувств, возбужденных в нем этими событиями.
Само это молчание поучительно. Великие страсти Леонардо не носят личного характера или, вернее, относятся к событиям его внутренней жизни: к отыскиваемой им истине, к создаваемой им красе. Утешимся: то, чего мы не знаем, не было, без сомнения, особенно ценным. Настоящие признания Леонардо – те, которые стоило собирать, – это произведения живописца, его рисунки и этюды, это рукописи ученого, его заметки, писавшиеся изо дня в день. Его идеи и творения суть те действия, которые ткут нить его жизни: в них выражается весь человек, в них проявляется его истинная натура, его характер, определявший его способ чувствовать, испытанные или внушенные им страсти; это же дает нам возможность угадать неизвестное.
IКогда мы приступаем к изложению научных работ Леонардо, то наталкиваемся на большое препятствие. Своим методом, своими работами и открытиями он за сто лет до Галилея открывает собою эпоху современной науки. В его рукописях заключаются материалы для обширнейшей энциклопедии. Но здание не было воздвигнуто; нам остались от него только многочисленные и разрозненные материалы. Леонардо, вследствие особенных свойств, своего гения, разносторонности своих способностей и правильного понимания науки, был осужден на то, чтоб оставить только отрывки и не закончить своей работы, которая, говоря по справедливости, есть бесконечная работа человеческого духа. Он постоянно носил с собою маленькую памятную книжку, куда заносил всякого рода наблюдения, пока она вся не заполнялась. Рукописи, находящиеся в нашем распоряжении, состоят или из этих записных книжек, или, иногда, из наиболее важных заметок, извлеченных из них: «Начато 22 марта 1508 г. во Флоренции, в доме Пиеро Мартелли; вот несистематический сборник, извлеченный из многих бумаг, которые я здесь списал, надеясь впоследствии расположить по порядку, согласно затронутым в них вопросам. Опасаюсь, что, пока дойду до конца, я те же вещи буду повторять много раз; не осуждай меня за это, читатель, ибо предметы многочисленны и не всегда возможно их держать наготове в памяти, чтобы сказать себе: не стану писать об этом, потому что оно уже написано у меня; а чтобы не впасть в такую ошибку, необходимо было бы каждый раз, для избегания повторения, перечитать все предшествующее, тем более что я писал через длинные промежутки». Из этого текста видно, что Леонардо иногда извлекал наиболее интересные заметки из записных книжек и не принуждал себя притом к строгому порядку; что, по его замыслу, эта первоначальная работа подготовляла окончательное произведение, обработку цельных трактатов, в которых должны быть распределены эти заметки смотря по их содержанию. Но последняя работа никогда не была сделана[36]36
Находящаяся во французском Институте рукопись D состоит из 10 листочков и содержит только заметки, относящиеся к глазу и зрению; но нельзя считать эти страницы правильно составленным трактатом.
[Закрыть].
Мне кажется, что не следует удивляться этому. В конце XV века наука сохраняла еще свой универсальный характер. Для схоластика все ясно: наука закончена. Мир, человек, размышляющий о нем, Бог, создавший его, все это – дело нескольких фолиантов. Его ум, как и его мир, представляет законченную систему. Он знает, где наука начинается и где она кончается, знает ее подразделения и их порядок; он знает, через сколько небесных сфер можно достигнуть рая и войти в царствие Божье. Леонардо открывает мир, границы которого беспрерывно раздвигаются перед ним. Он всматривается, и на его глазах возникают все новые явления. Практика ведет его к теории: от инженерного искусства он переходит ко всем наукам, на которые она опирается; от изобретения машин – к механике; от живописи – к законам перспективы, к оптике, к анатомии, к ботанике. При выемке каналов приподнятые пласты земли и некоторые морские раковины рассказывают ему историю земли; он создает геологию. Не теряя чувства единства вещей, которое, наоборот, всегда увлекало его, он не установил плана энциклопедии. От скороспелых притязаний его удерживал метод, которому он следовал, постоянная проверка своих идей фактами и, наконец, даже его страстное стремление к истине. Он не мог классифицировать заранее и сообразно их взаимным отношениям те знания, которые он приобретал изо дня в день. Система не могла быть в начале, она должна была появиться в конце, потому что она есть только сводка частных истин в одну, более понятную и высшую истину.
Ход мыслей Леонардо был, вероятно, таков. Он наблюдает факты, делает заметки; мало-помалу эти материалы укладываются в его голове; он задумывает главы; эти главы образуют отделы, а последние, сливаясь, охватывают – по мере того как перед ним открываются соотношения вещей – все более и более обширные предметы. Таким-то образом он ссылается на собственные сочинения – или, вернее, на те, какие он задумывал писать, – и приводит то заглавие глав, то отделов, а иногда даже целого произведения, отделы которого образуют отдельные книги. По плану, находящемуся в одной из Виндзорских рукописей, анатомия состояла из следующих глав, которые цитируются то здесь, то там: об общих размерах человека; о некоторых мышцах и всех мышцах; о сочленениях человека; книга о движениях; а следующее, может быть, заключало сравнительную анатомию: книга о птицах; описание четвероногих животных; анатомия лошади. Леонардо ссылается где-то на четвертую книгу о мире и воде. Под миром он чаще всего подразумевает землю; но, говоря о ней, занимается, кстати, всем, что ее окружает: элементами, небом, звездами. Это сочинение должно было составить свод его идей об астрономии, геологии, физике, главным синтезом собранных им наблюдений по истории и образованию нашего мира.
Шел ли он дальше? Мечтал ли он о всеобъемлющем сочинении, установил ли он, по крайней мере, его главные отделы? В рукописи Е он ссылается на «четвертую главу 113-й книги о природе вещей (delle cose naturali)». Если здесь дело идет о сочинении, для которого он обдумал план и распределил даже книги и главы, то вопрос решен. Маловероятна гипотеза о предполагаемом сочинении, из которой автор, не задумываясь, цитирует 4-ю главу 113-й книги! Почему только одна такая ссылка? Почему ученый никогда больше не ссылается на эту окончательную работу? В другом месте он говорит о 120 книгах, которые будут свидетельствовать об его упорных занятиях и преданности науке. Эти 120 книг могут быть только тетрадями, из которых состоят его рукописи. Я думаю поэтому, что текст из рукописи Е есть только ссылка на какое-нибудь место из этих тетрадей, содержание которых он резюмирует выразительным заглавием «Delle cose naturali». Если наша гипотеза верна, то все-таки заглавие нисколько не теряет своего интереса. Оно доказывает, как Леонардо чувствовал, что его разрозненные заметки проникнуты одним духом, одной объединяющей мыслью и одним содержанием, как он чувствовал возможность великого произведения. Такой художник, как он, не мог удовлетвориться собранием необработанных материалов. В его уме происходила постоянная работа, вечное стремление к единству: в нем складывалась, последовательным рядом все более и более ясных очерков, архитектура все более и более грандиозного здания, долженствовавшего служить как бы невещественным изображением исполинской работы этой природы, на которую он часто указывает как на единый и живой закон мира и мысли.
IIЕдинство, отсутствующее в произведении Леонардо, имеется в его методе. Когда читаешь эти записные книжки с его заметками, писанными изо дня в день, то не чувствуешь себя в чужой среде, в конце XV века. Избежание ошибок зависело не от него. Темные места объясняются больше свойством документов, которые нам остались от него. Еще больше, чем открытые истины, поражает меня его метод исследования, верность его научного инстинкта, питающего отвращение к чудесам и абстракциям.
Схоластика не существует для него. Его освободило от нее счастливое неведение. Отделение философии от теологии даже не утверждалось им – оно подразумевалось само собою. Вот единственное, краткое место: «Я оставляю в стороне Священное Писание, потому что оно – высшая истина»[37]37
Lascio star le lettere incoronate, perche son somma verita (W. An., IV, 184 r0; Ж. П. Рихтер, т. II, § 837). Причина кажется странной. Не ирония ли это? Или это составляет столь обычное у свободных мыслителей XVI века различие двух истин – философской и религиозной?
[Закрыть]. Физика не сводится более к логике, к ловкому жонглерству крайне общими понятиями, которые прилагаются ко всем явлениям природы, как то: причина материальная, формальная, действующая, конечная; пространство, время, пустота, движение. Наука о природе – это изучение явлений и их причин.
С тою же легкостью, безо всяких усилий он избегал опасностей гуманизма. Перейти от комментаторов к Платону и Аристотелю, от латыни переводчиков Аверроэса к языку Цицерона – это значило стряхнуть школьную пыль, выбраться из погреба на свет Божий. Но зло могло воскреснуть из самого лекарства. Энтузиазм к древним грозил, что место схоластики займут только филология и книжная ученость, а это значило оставаться только при книгах: наука же заключается в познании вещей. Леонардо да Винчи – человек нового времени, он стоит выше не только схоластики, но и гуманизма. Видимо, отвечая какому-то цицеронисту, он пишет: «Я отлично знаю, что некоторые высокомерные люди считают себя вправе хулить меня, указывая на мою необразованность, и только потому, что я не книжник. Безумные люди! они не понимают, что я мог бы им ответить, как Марий римским патрициям: украшающие себя чужими трудами не желают мне оставить плодов моего собственного труда. Они говорят, что я, не зная литературы, не в состоянии ясно говорить об излагаемых мною вопросах; они не понимают, что предметы, которыми я занимаюсь, зависят не от слов, а от опыта: опыт был учителем всех тех, кто хорошо писал, а я во всем именно его выбрал себе наставником». Хорошо говорить – значит правильно думать – вот ответ Леонардо краснобаям. Правильно же думать – значит мыслить бесстрашно, как древние, которые вызвали к себе удивление главным образом своей благородной смелостью.
Хотя Леонардо выдает себя за новатора и чувствует необходимость оправдываться, но, вероятно, уже несколько человек – как до него, так и из окружавших его – практиковали опытный метод. Но все-таки несомненно, что Леонардо, отмечая попытки своего свободного и смелого ума, открывает и формулирует за сто лет до Бэкона истинный научный метод. Чего хотел Бэкон? Он стремился к истинной науке, открытия которой должны подчинить человеку силы природы; он хотел знать причины, чтобы выводить из них следствия. Прежде всего он разрушил препятствие, заключавшееся в суеверном уважении к авторитетам; опыт есть позитивный метод, который путем сопоставления фактов выводит плодотворные формулы. Леонардо шел тем же путем к той же цели. Он не отделяет теории от практики, отвергает авторитеты, выдвигает на первый план опыт. Но он не теряет времени на описывание своих приемов и на восхваление их превосходства. Он спешит заниматься делом. Изложение метода для него не больше как предисловие, введение; он видит его ясно и только кратко указывает на него; он превосходно владеет им. Он не останавливается на объяснении того, что нужно делать, он это делает.
Об авторитетах Винчи высказывается с такой же ясностью, как Бэкон. Он указывает, насколько бессмысленно, безнравственно и нелогично это суеверное поклонение древности. Древние пользовались своим разумом – за это их хвалят; почему же не поступать, как они? «Кто спорит, ссылаясь на авторитет древних, тот пускает в ход свою память, а не разум (ingegno). Науки порождены хорошими природными дарованиями, а причину следует больше хвалить, чем следствия; поэтому я больше ценю человека без образования, но с хорошими способностями, чем большого ученого, но без природных дарований (sanza naturale)». Это уже напоминает нападки Монтеня на ученых-буквоедов, которые под видом совершенствования только подавляют ум. С нравственной же стороны достойно презрения, когда чванятся тем, что наворовано у других: «Они приходят напыщенные и высокомерные, разодетые и изукрашенные плодами чужих трудов, а мне не дают пользоваться плодами моих собственных трудов. Если они презирают меня, изобретателя, то тем более они сами достойны порицания, так как они не изобретают, а только витийствуют и бахвалятся чужими произведениями (trombette е recittatori dell altrui opere!)». Признавать авторитет – это значит сделать из себя призрак, тень, следующую за действительным телом, это значит поступаться достоинством мысли. «Если сопоставить изобретателей, этих посредников между человеком и природою, с этими бахвалами, тщеславящимися чужими творениями, то между ними будет такое же отношение, как между предметом, стоящим перед зеркалом, и образом, отражающимся в зеркале. Предмет имеет сам по себе некоторое значение, а образ – никакого. Эти люди мало обязаны природе, потому что они изукрасились благодаря случайности, а без такой случайности можно бы их смешать со стадом животных». Мысль существует, только пока она свободна; лишь только она подчиняется, ее не существует; необходимо, чтобы даже то, что она заимствует, она вполне усвоила себе. Когда следуют чужим мнениям и воспринимают их, то уже не мыслят – это только пустое подобие мысли. Можно ли логически ссылаться на чужое мнение, как на доказательство? «Многие думают, что могут разумно порицать меня, ссылаясь на то, что мои доказательства идут против авторитета некоторых людей, к которым они относятся с великим подобострастием, принимая на веру их мнение; они совсем не принимают во внимание, что мои идеи выведены из чистого и простого опыта, этого истинного наставника». Истины, переданные нам древними, были добыты ими только путем опыта; они, как и мы, зависим от этого высшего авторитета. «Если не сумею, как они, ссылаться на авторов, то представлю более высокую, более достойную вещь, указав на опыт, т. е. на наставника их учителей». Истина не открывается в один день; она не создается одним человеком, «она лишь дочь времени», как «мудрость – дочь опыта». Древние времена, по выражению Бэкона, суть молодость мира.

Поверхностная анатомия плеча и шеи, 1510–1511 гг.
Нападая на авторитеты, Леонардо соблюдает то чувство меры, которому он никогда не изменял. Он нападает на схоластиков, этих приверженцев авторитета, но не нападает на древних. Его верный ум влиял на справедливость его суждений. Он даже защищает древних против их комментаторов. «Некоторые комментаторы порицают древних изобретателей, создавших грамматику и науки, и становятся слишком развязными по отношению к мертвым изобретателям; и так как они сами неспособны сделаться изобретателями, то они вследствие своей лени и удобств, доставляемых книгами, – только тем и занимаются, что изыскивают разные ложные аргументы против своих наставников». Он здесь упрекает комментаторов-буквоедов в том, что они, вместо того чтобы самим приняться за дело и работать над открытием новых истин, только прибавляют к сочинениям древних авторов разные логические тонкости, только поднимают вздорные споры и бесконечно плодят разные исключения и определения. Древние – люди, опыт которых не должен пропадать бесследно. Он справляется у них точно так же, как он собирает сведения у ученых, путешественников, промышленников. «Справиться у Джиованнино, бомбардира… спросить у Бенедетто Портинари, как катаются по льду во Фландрии…»; он постоянно записывает заглавия сочинений, имена их владельцев, книжные лавки, библиотеки, где можно достать их: «Витрувий у г-на Оттовиано Палавичини… Алгебра, находящаяся у Марлианов, сочинение их отца… Достал сочинения Виттенио, они находятся в павийской библиотеке и в них трактуется о математике[38]38
Джулиано да Марлиано имеет прекрасный гербарий; он живет против плотников Страми. S. К. М. 55 r0. Ж. И. Рихтер, II, § 1386.
[Закрыть] и т. п.». Он много раз цитирует Аристотеля. В особенности он изучает ученых: Евклида, Витрувия, Цельса, Плиния Старшего; он имеет их сочинения, переведенные по-итальянски, изучает Авиценну, чье руководство к медицине сделалось классическим в Италии; но более всех других он восхищается Архимедом, в чем сходится с современными учеными. Он относится с уважением к древним, справляется у них, но не копирует их. Он указывает на их ошибки, проверяет их утверждения. Ксенофонт делает ошибку – он констатирует это (come Xenophonte propone il falso). Витрувий утверждает, «что небольшие модели ни в каком случае не соответствуют действию больших»; он возражает латинскому архитектору на основании того самого опыта, на который тот ссылается, и более верным объяснением он выводит из него противоположное заключение.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































