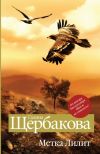Текст книги "Подробности мелких чувств"
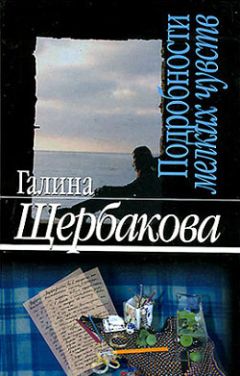
Автор книги: Галина Щербакова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
– Я такое играть не буду! – возмутилась Ольга Сергеевна.
– Я вас что – заставляю? Пьеса ведь так и называется «По естеству пакости». Она без героя. Никто никого не лучше. Раньше говорили – дно. А сейчас все на лифте собираются взлететь на небо. В общем… Она, конечно, плохая пьеса… Я ее писал знаете когда? Когда мы пошли в Афганистан. Это моя последняя человеческая пьеса… Дальше я пошел писать про предметы… Люди кончились. Ну… Я их не вижу… Извините, конечно…
– Глупости! – сказала Ольга Сергеевна. – У вас типичный комплекс непоставленного автора. Вы не понимаете. Для театра нужно два цвета. Два! Вашу жуть надо осветить. Боже! Какой лифтер? Она на самом деле не способна выбросить детские матрасики. У нее двое детей. И два матрасика. Так элементарно. Она сжигает анонимки отца. Она возит его по квартире. Она поет ему песни его детства.
Коршунов так захохотал, что поперхнулся. Пришлось выскочить из угла, забегать, стыдясь кашля и крошек, вылетающих из горла. Ольга Сергеевна подошла и стала стучать по спине. В общем, отплевался, а она продолжала стучать, сначала кулаком, потом ладошкой, потом уже не стучала – поглаживала, обхватила его сзади, прижалась. Коршунов понял, что надо разворачиваться, что события идут, как и надлежит им идти, не зря же его пропустили через ванную и выдали соответствующее обмундирование… Но она сама выпустила его из рук и опять толкнула его в угол, посмеиваясь и наливая в рюмки.
– Вы это все перепишете, – сказала она. – Всеобщую жуть все равно никто не поставит. Где это видано, чтоб обкомные начальники содержали параллельные семьи, а герои гражданской были похотливыми стукачами? Это просто не прохонже по определению. Во-вторых!!! Что еще важнее… Не может быть в пьесе несколько главных ролей. Это нонсенс!
– Их и нет, – ответил Коршунов.
– Но вы так щедры, позволяете себе, чтоб прекрасный романс «Не уходи!» пела, так сказать, жена-дублер. Зачем две похожие героини? Это я пою! Я пою «Страна огромная на смертный бой!», когда вожу старика отца в коляске, и я же пою «Не уходи…».
– Вы читали пьесу? – спросил Коршунов. – Дублерша, как вы называете любовницу, поет романс, чтоб дать возможность соседу перелезть с балкона на балкон.
– Ну, это уж совсем ни к селу ни к городу.
– Еще как к селу и к городу! Они все – питомник заразы. Она от них расползается и через дверь, и через окна, через мусоропровод… и все под песню… Под танец… Под что угодно… Не надо! – взмолился Коршунов. – Я умираю, как хочу поставить пьесу, меня жена из дома выгнала, я ни черта не зарабатываю.
– Миленький! – Ольга Сергеевна вспорхнула и села рядом. – А я что, слепая? Не вижу? Не понимаю? Я просто затряслась, прочтя вашу вещь… Такая сила, такая злость… Такие слова… Но играть-то мне! Мне! А играть отрицательную я не хочу. Играть женщину, которая обнажается, – извините…
– У вас хорошая фигура, – сказал Коршунов. – Чего вам бояться? Обнажайтесь!
– Нет, голубчик! – Ольга Сергеевна отодвинулась и залпом выпила рюмку.
– Я хочу, чтоб меня любили. Я не могу себе позволить быть ничтожеством… Да, у меня недостатки… Черт с вами! Пусть у меня лифтер! Это моя жалость к человеку, моя щедрость… Но дайте мне чувство победы! Дайте мне заключительный аккорд… Триумф…
– Не дам! – сказал Коршунов. – Вы самая, самая отвратительная в пьесе… Играйте домработницу. Та ворует, и все. Хотите, она перестанет воровать? Вернет все на место, принесет и расставит? В этом даже что-то есть… Она возвращает, но никто не заметит. Не считано. Вот что главное! Столько всего захватили, что никто не заметит, вынеси половину… Они обожрались всем… – Коршунов задумался. – Вот! Вот! Я вижу… Домработница вернет напольную вазу. Поставит в угол. А старик в нее помочится…
– Господи? Это же театр. В театре нет запахов.
– В общем, Ольга Сергеевна, я вам так благодарен… Что прочли, что молекулу увидели. Но бабу эту проклятущую я трогать не смею. Она – матка. Это я так… Высоким штилем! И объясните там этим вашим… Нолику. Главному. Автор, мол, осел упрямый…
– Я поняла, – сухо сказала Ольга Сергеевна. – Поняла. Воля ваша. Идите. Вас никто, никто никогда не поставит. Никто. В театр идут для очищения…
– Не баня, – вставил Коршунов. И вдруг закричал: – И не храм! Взяли тоже моду сравнивать жопу с пальцем, извините, конечно…. Как можно трогать Храм? Приближать его к театру. В храме ты и Бог. А в театре ты и ты. Разговор на двоих. В зале на тебе штаны, лопнувшие по шву, а на сцене ты из себя граф. Но ты-то знаешь, что это ты. Можно, конечно, закамуфлироваться – самого себя не узнавать. Но все равно в конце концов узнаешь. Потому что из человеческих соков театр, из человеческого потайного греха и невыявленного таланта… Бог создал человека, а человек создал театр. А когда театр тщится, изображает, что он непосредственно Божье творение, то это он из тщеславия, из гордыни. Из самомнения, что он человека знает лучше самого человека. Чепуха! Эта пьеса – мое мясо. А вы хотите, чтоб я человечину переделал в козлятину.
– Ну ладно, – сказала Ольга Сергеевна. – Ладно. Но наполните мою роль, наполните! Она ведь у вас почти немая, эта женщина. Договорились – я пою?
– С чего бы это? – Коршунову хотелось уйти. Вдруг он почувствовал, что все эти им же придуманные герои пришли и расселись и ждут чего-то… Чего, спрашивается? – Я, знаете, написал пьесу про Гвоздь, который мечтает о человеческой плоти и ни о какой-нибудь там обыкновенной, моей, к примеру, а плоти Мессии. Видите ли, Ольга Сергеевна, мы даже когда гвозди куем, то наполняем их ненавистью и жаждой убивать. Я не теоретик. Не могу объяснить. Но ведь учили – гвозди бы делать из этих людей. Каких людей – помните?
– Революционеров…
– Ага… И я про это… Вот и получились гвозди. Нельзя в пьесе ничего изменить. Нельзя. Вот разве что домработницу. Я все время чувствовал… Когда она ворует, у нее в душе тошнота, ну, знаете, когда нарушение вестибулярного аппарата. А в ней момент отвращения… Помните, когда она ногами топчется в разлитом коньяке и пьянеет?
– Вот это вообще чушь, которую надо выбросить. Совершенно ни к селу ни к городу дурацкое такое опьянение. Через микропорку. Глупо так… Не говоря о том, что разрушает ритм…
– Ну, может, ритм и разрушает… Я этого не знаю… Но через тапочки, через чулки она опьянела… Я же говорю – они излучают яд. Ни к чему нельзя прикоснуться. Я даже хотел, чтобы в конце пришли люди в скафандрах или там в чумовых костюмах и все это сожгли… Но это было бы чересчур. Это моя несбыточная мечта. Но я принципиально против введения в пьесу мечты. Знаете, почему? В мечте есть зародыш божественного. Даже в самой дурной. Хотя бы потому, что мечта бестелесна… А театр очень материален. До грубости. Грим там. Фанерные деревья. Парики. Носы. Господи! Как он груб, театр… Впрочем, к чему это я? Я его обожаю. Я жизнь свою поломал и бросил ему под ноги. Я так мечтаю увидеть свою пьесу. Конечно, я все готов доработать, там столько неточных слов. Но эту роль трогать нельзя. Какие песни? Какое сумасшествие? Вы хорошо сыграли бы то, что есть…
– Я сыграю хоть что! – воскликнула Ольга Сергеевна. – Хоть что! Но я не вижу смысла! Играть маразм? Да еще без слов? Вы посчитайте, посчитайте. Я посчитала… У вас пять женских ролей… И у всех почти одинаковое число слов… Вам нужно пять выдающихся актрис…
– Хорошо бы, – пробормотал Коршунов.
– Но их же нет! Нет! Я одна буду тащить вашу пьесу на немой роли! Отдайте мне песню. Это раз. У домработницы есть дивный монолог… Ну, этот… Когда она разбивает бутылку с коньяком. Помните? «Ну вот… Ну вот… Пролила… Сейчас я возьму чистую простыню… Напитаю… Отожму… И выпью… Человек не умеет лакать… Это жаль… Мог бы в процессе эволюции этому и не разучаться…» А потом она сосет коньячную простыню!
– Да нет же, – устало сказал Коршунов. – Ничего она не сосет. Зачем? Там коньяка залейся. Это она шутит. Неудачно, наверное. Она подтирает пол. Она – хамка, холуйка… Взращенная коммунистической ненавистью, ей это как плюнуть в борщ соседу. Вот ей и приятно добротной вещью поелозить по полу. Мы же довели холопство до вершины, до апофеоза… Наш холоп – лучший холоп в мире… Как наш балет…
– Вы еврей? – спросила Ольга Сергеевна.
Коршунов растерялся.
– При чем тут еврей?
– Только еврей так может ненавидеть русских…
– Каких русских? – Коршунов подумал: «Или я схожу с ума, или с ума сходит она. Но один из нас определенно сумасшедший».
– Значит, вы еврей, – удовлетворенно повторила Ольга Сергеевна. – Коршун, коршун… Как это на идиш?
– Пардон, – сказал Коршунов, выбираясь из-за стола, – пардон. На таком языке я вообще не говорю. Я его не знаю. Позвольте мне одеться и уйти. Мое барахло в ванной…
И он пошел в ванную. И стал стаскивать с себя трусики и майку, обнаружил, что чужие вещи угрелись на теле, прижились, им не хотелось сниматься, и он рвал их как кожу, удивляясь этому чудному факту, что за какой-нибудь час-два-три можно так сродниться с материей, а у него чаще иначе, не он вещи носит – они его. Но тепло трусиков не повод, чтоб оставлять их на себе, надо влезать в свое, законное, и в этот самый момент, когда он стоял голый, Ольга Сергеевна открыла дверь – забыл, что ли, дурак, закрыть? – и смотрела на него с большим интересом, как если бы хотела приобрести его навсегда. Вот почему ей важно было разглядывать человека подетально. А какова у нас спинушка? А не дрябли животик? А каков цвет растительности? Не слишком ли рыж? И не пожухла ли она вообще?
– Смотрите! Смотрите! – бормотал Коршунов. – У вас на предмет обрезания интерес? Так, извините, нету! При мне шкурка. А барахлишко ваше я по дороге могу отдать вертухаю, который с несмыканием. Он сносит. Халат же на балконе повесьте. Воздух прочистит мое пребывание в нем.
– Дурачок! – ласково сказала Ольга Сергеевна. – Мой гениальный дурачок!
И она распахнула свой халатик и ринулась на Коршунова так, что он чуть не упал на раковину, но удержался и имел теперь сзади холодящий спину кафель, а спереди голую горячую женщину, которая тянулась к нему своим фантастическим ртом, тыркалась в него коленями, плющила об него груди, но...
– Боже великий и смеющийся! – Коршунов вошел в себя весь, без остатка, где-то внутри него громыхнули замки и засовы, звякнули цепочки, взвизгнули шпингалеты, шмякнулись вниз темные шторы. И все, нет его. Коршунов был гол, неприступен и независим. Он смотрел на женщину из маленького смотрового или слухового там окошка, которое надлежит иметь всякой уважающей себя крепости, и смеялся тщете ее усилий добраться до него.
– Ты смотри на меня, смотри, – шептала Ольга Сергеевна. – И губы ее спускались ниже и ниже, и уже хорошо были видны: корни ее волос – не огненных вовсе, а обыкновенных русеньких, уже траченных сединой. Была видна оспина от детской прививки, большая, корявая, и странные, несоразмерные пальцы. Тонкий, какой-то безжизненный вялый мизинец и большой палец с раздутой косточкой и широким и низким ногтем.
Он схватил ее под мышки, встряхнул и сказал:
– Потом вы будете страдать, что так поступили.
Ольга Сергеевна тут же запахнулась и – как ничего не было.
– Это вам надо страдать. Импотенту.
– В общем, да, – сказал он. – Я последнее время фурычу плохо.
– Слишком много для одного мужика, – засмеялась Ольга Сергеевна. – Тайный еврей и импотент. Оттого и выхода в ваших пьесах нет, света в конце тоннеля.
– В общем, – ответил Коршунов, натягивая свитер, – когда я это писал, я был вполне.
– Недоказуемо, – сказала Ольга Сергеевна, – недоказуемо…
– Да ладно вам, – засмеялся Коршунов. – Спасибо вам за все. В общем, было даже интересно. Во всяком случае, домработницу я переделаю точно… Вы мне подбросили идею… И вообще… Коньяк… Душ… Все было вполне…
– Жду завтра, будем говорить уже с Ноликом, – сказала Ольга Сергеевна.
– То есть? – не понял Коршунов.
– До завтра, – ответила Ольга Сергеевна. – Придете завтра с идеями. У вас другого выхода нет. Вас все равно никто не ставит. Выпишете роль по мне, и все будет в порядке. И не изображайте из себя униженного и оскорбленного. Пока вы – дурак. Поумнейте ночью. Нолика насмешим, как вы принесли мне веточку…
– Да я не вам ее нес, – сказал Коршунов. – Тут скажешь – не поверят. Я вообще шел мимо…
У самого порога он вдруг остро ощутил, какая она соблазнительная. «Вот это да! – подумал Коршунов. – Хоть оставайся… А то ведь кому сказать…» Но с эмоциями у него был явный разлад. Стоило тормознуть на этой «хоть оставайся», и так потянуло на улицу, на воздух, что вроде он не в чистом и проветренном доме, а в камере, где уже все живое выдышали и пора взламывать дверь. Он и стал взламывать.
– Что вы делаете? – закричала Ольга Сергеевна. – Вы что, не видите, здесь замок.
Выскочил. Внизу в кресле дремал тот, что с несмыканием. Глаза его общупали Коршунова, и была в них откровенная ненависть, а больше зависть. И если ненависть в нем была испоконной, генетической, то зависть была сиюминутной, конкретной, она стыла в щупе глаз, прошмонавших Коршунова и учуявших следы женщины, о которой вертухай всю жизнь мечтал, дремля в кресле, и которую завсегда воображал, затискивая в угол каптерки уборщицу пальмовых листьев. Он думал тогда, что пронзает рыжее лоно всенародной артистки, и от этого рычал радостно и громко, и рык его, ударяясь в помойные ведра, выходил из них не похожим ни на какой естественный звук. И если в этот момент в лифте ехали дети, то их няньки объясняли им просто, что это кричит дедушка Домовой, а если это были родители, то они рисовали научную картину движения воздуха и воды в трубах и утешались, что звуки водопроводных труб не опасны ни с какой стороны.
Откуда это мог знать Коршунов? Он прошел мимо несмыкаемого, и все. Он даже «до свидания» ему не сказал.
Голова была занята странным. Она разыгрывала пьесу, в которой пять абсолютно одинаковых женщин играли абсолютно разные роли. Женщины путались в словах, потому что забывали, которая из них кто. Коршунов думал, что, конечно, это чепуховая идея, но что-то в ней есть. Если взять за основу такое: мужчины – существа многочисленные и разнообразные. Женщин же в количественном плане нет вообще. Есть в природе одна-единственная женщина на сколько-то там миллионов мужиков. Ну и каково ей иметь их всех? А каково мужчинам иметь одну и ту же?
«Идиот, – подумал про себя Коршунов. – Лучше разрабатывать тему Гвоздя-мечтателя. Гвоздя, ждущего Мессию. Как он прячется. Как он зарывается в хлам. Как выскальзывает из рук. Как он сам себя точит, чтоб не потерять способность. Как он в поисках точила обхаживает всякие твердости, а эти дуры принимают его прикосновения за поцелуи…»
Одним словом, в голове была каша из гвоздей и женщин, а на лавочке у подъезда сидел застывший от холода Нолик.
– Да, – сказал Нолик, – да. Моросит… Ерунда, но у меня нежные почки. Странно, да? Нежные почки… Другой образ. Представляется клубочек завязи с тугой, скрученной силой… Нежной, но неукротимой. А я про фиолетовую больную материю, которой вот такая погода ну просто ни с какой стороны…
– Ну и шли бы домой, – ответил Коршунов.
– Как же, – слабо выдохнул Нолик. – Вас… Вы же были у меня дома…
Коршунов не то свистнул, не то хрюкнул, не то рявкнул.
– А почему, собственно, такое удивление? – не понял Нолик. – Она моя жена. Хотя странное определение применительно к ней.
– Мы поговорили и не поняли друг друга, – твердо сказал Коршунов. – Это чтоб вы не брали в голову лишнее.
– Голубчик! – сказал Нолик. – Голубчик вы мой! Это ужасно, если не поняли. Ужасно… Ей нужна роль. Большая. Звонкая… Чтоб она царила в ней. Ей только такие роли годятся. Она не любит Чехова. У него нельзя царить. Шекспир… Уильямс… Это по ней.
– Господи! – взмолился Коршунов. – Даже в крутой пьянке… Даже в момент наивысшего самомнения… Это я в голову не брал. Шекспир там или Чехов… Вы спятили…
– Конечно, – ответил Нолик. – Конечно, вы – не… Поэтому и нечего вам выпендриваться. Ваш бюджет на нуле, я узнавал. Вам уже за сорок. Талантливые мужики к этому времени успевают все сделать и помереть с сознанием состоявшейся жизни.
– Спасибо, – засмеялся Коршунов, – на добром слове.
– На здоровье. Я в этом лицо заинтересованное. Напишите ей роль из всех женщин, оставьте остальным то, чего они стоют. И помирайте себе. У вас в спектакле должна быть Одна Актриса. Одна! Понимаете?
– Вы сговорились? – спросил Коршунов.
– Конечно, – ответил Нолик. – И Главный так считает. Я не учел вашей прыти, что вы уже сегодня будете здесь… А она у меня не дипломатка. Я это вижу по результату. Но вы-то что? Вам такие женщины встречались по десять на дню?
– Нет, – честно ответил Коршунов. – Нет, вы отхватили музейный экземпляр.
– Слава богу, что понимаете… Вот давайте пойдем от этого. Давайте сломаем пьесу… Честно сломаем, до досок… И выстроим снова. Ведь никто ее не читал. Никто не видел. В сущности говоря, ее не существует. Чего вы ломаетесь? Это будет бенефисная вещь, с вашими же словами… Вы сообразите – на то вы талант, – как перенести их в другие уста. И ни в какие-нибудь… В уста Актрисы, которую вам с огнем не найти. А потом пьесу схватят все театры. С ее подачи… Ну что я вас уговариваю? У меня ноют почки… Я жду тут уже три часа.
– Почему вы не поднялись?
– Это самый идиотский вопрос из всех идиотских вопросов, которые я слышал в своей жизни. Самый! Вы дурак, Коршунов?
– Да, – ответил Коршунов. – Да. У меня еще один идиотский вопрос. Как вы узнали, что я там?
– Я с вами развожу руками, – сказал Нолик.
И он действительно развел руки, и в ночи, на фоне сумрачного неба и моросящего дождя, снова стал похож на растянутый вширь двугорбый капор.
– Вы слышали про такое изобретение – телефон?
И он пошел в подъезд, съеживаясь, сморщиваясь на ходу до величины своей больной фиолетовой почки.
Коршунов было крикнул, что у него есть идея одной женщины на всю пьесу, в конце концов столько технических возможностей это осуществить, но вдруг устыдился, потому что понял, что все это тысячу раз было и не им придумано. Господи, спохватился, как я это успел не сказать, а то бы скрутили трусиками и маечками… А пошли вы!
Конечно, изобретение телефона уже было.
Конечно, бездарно было ему, Коршунову, сыграть роль Нолика на лавочке в собственном дворе.
Конечно, с почками у него все было в порядке, пока, во всяком случае, но дождь и холод делали свое дело. Коршунов мысленно звал Марусю, вот выйдет она на балкончик, приложит ко лбу козырек ладошки и закричит в ночь: «Ты что, спятил? А ну подымайся! Ревматизма тебе не хватало…»
Но Маруся не выходила, хотя нижний свет у нее горел. Значит, читала. Или проверяла тетради. Или? От этого «или» Коршунов понял, что готов для убийства. Вот так запросто, на ровном месте, возле детской песочницы со следами свежего собачьего дерьма, возле кривого тополя, созданного для конца кабеля, другим концом зацепленного за конек трансформаторной будки, на котором он, Коршунов, выколачивал свой единственный, выстоянный в очереди машинный ковер три на четыре, – он созрел для убийства. Отвлекал ковер. Работа по его выбиванию всегда стыдила его, именно так, стыдила, потому что и кабель, и битый ковер, и выпрыгивающая из него пыль, и треснутая оранжевая выбивалка – всегда говорили ему одно и то же: «Ну и хозяин же ты, Коршунов, если несчастный пылесос за сорок пять рублей купить не можешь». И каждый раз он говорил себе: завтра же куплю. Завтра же! Но приходило завтра, и наличие выбитого ковра и удовлетворенной этим Маруси отодвигало проблему пылесоса в завтрашний день. А значит – в бесконечность. Вдруг Коршунов понял, что ничто не сделанное сразу не сделается никогда. Всю жизнь он жил завтрашним днем. Это его проклятущая графомания, это она своей постоянной незавершенностью перетягивала его в завтра… Пренебрегая сегодня – всегда таким конкретным, конкретным до противности, как собачье дерьмо. И сегодня у Маруси в час ночи горит свет, а завтра ей рано вставать. Почему она его не гасит? Но именно в этот момент Маруся возьми и погаси проклятый свет. Коршунов вскочил и ломанул тот самый для кабеля созданный сук на тополе. Тополь аж взвизгнул. Вооруженный и наполненный до конца желанием ничего больше не откладывать на завтра, а убить сегодня, Коршунов встал у подъезда.
Так и стоял с тополевым оружием наперевес. Человек в момент идиотии, сказал он себе, убедившись, что из подъезда так никто и не вышел. Представилась Маруся, откинувшаяся на подушку с закаменелым лицом неудачницы. Он боялся такого ее лица, опрокинутого, с закрытыми глазами, сцепленным ртом. Он знал, он чувствовал, сколько в ней в этот момент непокоя и крика, ан нет же, натянула на себя кожу и лежит живая мертвая. О чем она думает сейчас, когда его нет рядом? Он знает о чем. Она думает о Романе Швейцере, который уехал в Америку и стал миллионером. Десять лет назад он пришел к ним и долго ждал, когда Коршунов вернется с дежурства. Маруся, встретив Коршунова в прихожей, прошептала: «Сидит и сидит. Говорит, ты нужен…» Дело в том, что Коршунов Марусю у Ромки отбил буквально накануне их женитьбы. В младые годы это, конечно, дело житейское. Коршунову даже не пришлось очень гордиться, так как Ромку исключили из института по диссидентскому делу, а Маруся так перепугалась, что ей прописали витаминные уколы. Коршунов же Ромку за все это зауважал, хотя до этого считал ни рыбой ни мясом. А потом через четыре года является в дом Ромка, заваливается в угол дивана и говорит Марусе: «Вы мне нужны оба, чтоб не было испорченного телефона».
И, дождавшись Коршунова, говорит: «Значит, так, ребята… Я рву когти. Насовсем и навсегда. Маруська! Ты моя единственная в жизни любовь. Мне никто больше и никогда… Хочу тебя забрать с твоей девчонкой. Пусть вырастет там как человек. Николай! Я тебе говорю честно. Ты Маруське не пара. Она – цветочек, который требует полива каждый день. А тебе, Николай, нужен кактус. Я Маруську и дочку вашу уберегу и взращу, я слово тебе в этом даю. А тут они сгниют. Тут через десять лет от Маруськи останутся мощи. Я не рай обещаю, я обещаю беречь. С тем вот пришел…» – «Ну с тем и отвали!» – сказал ему Коршунов. «Да я не твоих слов жду. Маруськиных», – ответил Швейцер. «Рома, ну как ты можешь прийти в семью, где уже есть ребенок», – начала Маруся. И она стала бестолково бормотать о сохранении семьи, а Коршунов стоял и думал: «Роман Швейцер до утра будет ждать, потому что плевать он хотел на „институт семьи“, он – даже наоборот – он от Марусиных слов как бы крепчает в своей сумасшедшей идее, потому что „ломать институт“ ему будет одно удовольствие. „Да не любит она тебя! – закричал Коршунов. – Скажи ему это!“ Он тогда даже толкнул Марусю. И та покраснела, растерялась и сказала: „Но это же само собой разумеющееся“. Причем последнее слово у нее не произнеслось, завязло на шипящей.
Тем не менее уехал Швейцер. Ни с чем уехал. Коршунов же шипящую не забыл. «Вела себя, как дура из профкома…» Маруся прицепилась к этой «дуре из профкома», разобиделась до слез, а потом вот так легла на подушку – навзничь и с закрытыми глазами. Первый раз.
И Коршунов думал, что Маруся, лежа одна, проигрывает сейчас свою счастливую неслучившуюся жизнь со Швейцером.
«Ну и думай, зараза!» – сказал Коршунов и пошел прочь от дома, в ночь и темноту.
Тут, чтобы уже никогда больше не возвращаться к этой истории, не будет в этом нужды и времени, надо сказать, что думала Маруся в тот мокрый вечер не о Ромке Швейцере. Никогда ни разу – вот бы Коршунов удивился – не примеряла Маруся на себя швейцерову американскую удачу. Могла сказать вслух: «Вот была дура!» Но мало чего ляпнет язык? Сейчас же, лежа навзничь, Маруся думала о Нюрке, замредакторше, которая носила длинные кожаные пальто, коротенькие норковые шубки, бриллиантовые сережки и крокодиловые сумочки. Нюрка позвонила утром и спросила, где это черти носят Коршунова? И послышалось Марусе в голосе Нюрки женское неудовольствие, не претензия начальницы к нерадивому сотруднику. Марусю с этого разговора просто заколотило. Давно, давно Нюрка внушала ей подозрение. И даже то, что Коршунов держался в редакции на птичьих правах, имело для Маруси одно объяснение – Нюркино неслучайное покровительство. Как он ей звонил? «Мать! Слушай…» И таким баритончиком… Ну ни с кем так, ни с кем!
Как же смел он явиться к ней с этими осенними ветками? Это ведь Нюрка! По телевизору! На всю страну! Объявила в какой-то бабьей передаче: «Всем цветам предпочитаю осенний букет листьев». Коршунов тоже смотрел тогда передачу, это точно, она помнит, как отошел он без звука. Маруся за выражением его лица следила – чего это он после этих листьев как бы забеспокоился? Таскаю, мол, ей анемоны и орхидеи, а она, оказывается, другое любит. Листья… Маруся его тогда между делом спросила: «А что, Нюрка живет со своим космонавтом?» Коршунов же как не услышал, уставился в окно и стучит косточкой пальца, стучит. А потом сел за стол и нарисовал лист. Кленовый. Фигурный. И гвоздь, его протыкающий.
Сейчас у Маруси закипали слезы. И хоть она не обнародовала факт, что сама выставила Коршунова, и где его черти носят, понятия не имеет, сейчас она сказала себе: «Все! К черту! Разведусь! Что я – первая?» Она сняла кольцо с левой руки и перенесла на правую, вернее, хотела… Но кольцо на палец не лезло, застревало на косточке, от чего Маруся совсем разревелась, даже подвывать стала. Она вдруг подумала глупость из модной псевдонауки о том, что мысли вполне материальны, даже толкнуть могут. Поэтому от снятия кольца Коршунов должен был тут же оказаться во дворе и смотреть на окна, потом птицей взлететь на этаж, и она – взлети он – простила бы ему бриллиантовую Нюрку, черт с ней и с ее космонавтом… Маруся даже встала и подошла к окну и увидела, как уходил из двора, видимо, пьяный, шатающийся мужик с огромной палкой. Тут Маруся испугалась другого: а вдруг ненароком этому алкашу встретится возвращающийся в лоно семьи Коршунов, не дай Бог, какой может случиться ужас. И Маруся стала молиться, чтоб в этот момент существования мужика с палкой Коршунова близко не было.
Что тут можно сказать? Можно пофантазировать о феномене раздвоения личности, который никакой не психиатрический факт, и тем более не наука а самая что ни на есть бытовщина. Бытовщинка даже. Которая в нас от страха, живущего спокойно и безопасно, как моль в шерсти. Не надо только трогать лишний раз. Не самое страшное в нашей жизни моль. Дитя малое ее не боится.
И оставим Марусю на этой утешающей, расслабляющей молитве о Коршунове. Она уже повернулась на бочок, и кольцо у нее на левой руке, и Нюрке она послала всевозможные проклятия, и за Коршунова помолилась, и себе пожелала. Господи, ну хоть немного отпусти ремни, ну чтоб полегче вдохнуть и выдохнуть, чтоб до получки хватало, чтоб дочка-дура не дала кому попадя под влиянием видачных фильмов, а про мир во всем мире, Господи, я не прошу уже давно, какой там мир, если давно война всех со всеми. И хорошо бы отдохнуть… И чтоб на травянистом склоне, по которому скатишься, – и бедра делаются ?уже, так в польской книге написано, но где такие склоны, чтоб без консервных банок? Надо же переводить такие книжки в стране, где банки и стекло не убираются… Ужас представить, как ты по травянистому склону, а на пути твоем лежат бывшие шпроты. Хотя где они сейчас, шпроты?.. А хорошо бы съесть желтенькую рыбоньку с кусочком черного… Но про еду на сон грядущий думать не надо, так не уснуть. Надо думать про другое. Другое… Другое… Уснула все-таки Маруся, уснула.
Удивительное явление природы человек, достойное уважения и тем более пожелания спокойной ночи.
Коршунов же уходил все дальше и дальше от дома. Он не знал, куда идет, а тут еще палка определяла некий странный ход мышления. Коршунов ощущал себя сильным, злым, ненавидящим, ему хотелось что-то или кого-то звездануть и уже где-то возле сгиба локтя появилась ухмыляющаяся морда химеры и стала тихонько подталкивать локоть, так вроде, в шутку, мол, что идешь невесел, голову повесил, развлекись-ка, дурачок, палкой! Тебе это будет хорошо! Как ты можешь писать о возжелании неким гвоздем крови, если сам ты ни разу в жизни своей вкуса крови не чувствовал? Ну, шандарахни, дурачок, по тому типу, который идет тебе навстречу. Ты его не знаешь, тебе его не может быть жалко, да и вообще, что такое жалко? Ты вообще думал когда-нибудь о бессодержательности этого слова? Хоть раз в жизни остановила ли жалость кровь? Начиная со всем известного пришельца, который пытался говорить доступными словами, и его забили палками, и посадили на крест.
Коршунов почувствовал, как потекла по его жилам тяжелая, похожая на деготь жидкость, как стал он враз сверхматериален, будто поменяли в нем все атомы на совсем другие. Человек же встречный был – наоборот – из прежних атомов. Он был легок, воздушен, он просто парил над землей, и подбить его было одно удовольствие, спасение. Пришлось остановиться, прижаться к серой облупленности дома и замереть. Второй раз за день он пытался раствориться в стене. Сверху на него смотрел чей-то каменный профиль, у профиля была несмыкаемость вечных губ, и Коршунов вдруг подумал, не всеобщее ли это свойство, не замеченное им раньше. Может, и он так же живет с распахнутой щелью рта, изображающего этой щелью улыбку? В общем, летучего мужика мимо себя он пропустил, а палку он вставил именно в рот знаменитости. На, мол, тебе!
Коршунов отошел в сторонку, прочитал фамилию. Нет, не слышал, не знает. Эх, бедолага! Развлекись, каменный незнакомец, вкусом свежего дерева. Сомкни на нем свой вечно несмыкаемый рот.
В конце концов к утру Коршунов добрел до редакции. Заспанный вахтер, другой, не тот, что отмахивался днем от его чиха, пустил его сразу, а Коршунов приготовил длинную просительную речь, с элементами самооговора. Разве с нормальной стати будет мужик таскаться ночью без прикаянности? Тут для сюжета и годилась бы небольшая самоклевета с намеком, но вахтер оказался человеком нелюбопытным, что до странности Коршунова удивило.
Усаживаясь в холле в кресло и укладывая разутые ноги на кресло напротив, укрываясь снятой с приткнутого к стене президиумного стола зеленой суконной скатертью, он стал искать начало неправильности сегодняшнего дня.
Итак…
Останься он на даче, а не беги с бухты-барахты в город. Ведь то, что он таился от Клавдии Петровны на станции, сливался, как какой-нибудь хамелеон, со столбами и деревьями, уже был ему знак ложного пути.
…И в театре нельзя было вести себя недоумком, которого по особому повелению запустили «в храм», предварительно отхлестав по губам и рукам, дабы ничего не говорил и ничего не трогал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.