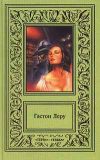Читать книгу "Дама в черном"

Автор книги: Гастон Леру
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава III
Аромат
– Черт возьми, – вскрикнул я, вскакивая с постели, – меня это не удивляет!..
– Вы что, в самом деле не поверили в его смерть? – спросил Рультабий с отчаянием, которого я не мог себе объяснить, даже если брал в расчет телеграмму Дарзака.
– Не особенно, – ответил я. – Ему так важно было сойти за мертвого, что он мог пожертвовать некоторыми бумагами во время катастрофы «Дордони». Но что с вами, друг мой?.. Вы совсем ослабли. Здоровы ли вы?..
Рультабий тяжело опустился на стул. Дрожащим голосом он поведал мне, в свою очередь, что только тогда поверил в его смерть, когда закончилась брачная церемония. Он не мог свыкнуться с мыслью, что Ларсан позволит совершиться обряду, который навеки отдавал Матильду Станжерсон Дарзаку. Чтобы расстроить свадьбу, Ларсану достаточно было появиться. Сколь ни опасно было для него такое появление, он пошел бы на этот риск, зная набожность дочери профессора Станжерсона, зная, что она никогда не согласится связать свою судьбу с другим человеком при здравствующем первом муже, несмотря на то что людские законы освобождали ее от этих уз! Напрасно ей доказывали недействительность первого брака перед французскими законами – для нее священник навеки связал ее с негодяем.
И Рультабий, отирая выступивший на лбу пот, прибавил:
– Увы! Вспомните, мой друг… В глазах Ларсана дом священника не потерял своей прелести, а сад своего блеска![7]7
В романе «Тайна Желтой комнаты» Фредерик Ларсан, узнав, что Матильда собирается замуж за Дарзака, написал ей письмо, где упоминал дом священника, который они снимали совместно в Америке после тайного венчания, и умолял вернуться к нему.
[Закрыть]
Я положил руку на плечо Рультабия. Его трясла лихорадка. Мне хотелось его успокоить, но он меня не слушал.
– И вот он решил переждать эту свадьбу, выждать несколько часов, чтобы появиться снова, – вскрикнул он. – Потому что для меня, как и для вас, Сенклер, не правда ли, телеграмма Дарзака значит лишь одно – Ларсан вернулся!
– Но Дарзак мог ошибиться!..
– О, Дарзак не трусливый ребенок… Однако нужно надеяться, нужно надеяться, не правда ли, Сенклер, что он ошибся!.. Нет, это невозможно, это было бы слишком ужасно!.. Слишком ужасно… О! Сенклер, это было бы чудовищно!..
Я никогда, даже в самые трудные минуты, не видел Рультабия таким взволнованным. Он вскочил с кресла и стал шагать по комнате, переставляя мебель, и, поглядывая на меня, повторял: «Слишком чудовищно!.. Слишком чудовищно!»
Я заметил ему, что неблагоразумно приходить в такой ужас из‑за телеграммы, которая ровным счетом ничего не доказывает и может быть лишь плодом галлюцинации… Затем я прибавил, что сейчас не время предаваться отчаянию, что нам понадобится все наше хладнокровие, что это непростительно для человека с таким характером, как у него…
– Непростительно!.. Вы правы, Сенклер, непростительно!..
– Но, мой дорогой… Вы меня пугаете!.. Что случилось?
– Сейчас вы это узнаете… Положение ужасное… И почему он не умер?
– Да кто же сказал вам, что это не так?
– Дело в том, видите ли, Сенклер… Тсс… Молчите… Молчите, Сенклер!.. Дело, видите ли, в том, что, если он жив, я предпочел бы умереть!
– Да вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Вот именно, если он жив, нужно жить и вам, чтобы защитить ее, ее!
– Да, да, вы правы, Сенклер! Вы совершенно правы. Спасибо, мой друг!.. Вы произнесли одно слово, которое только и способно заставить меня жить: «она»! Поверите ли!.. Я думал только о себе!.. Только о себе!..
И Рультабий засмеялся так, что мне стало страшно. Я взял его за руку, умоляя объяснить мне, чего он так испугался, почему он заговорил о своей смерти, почему он так смеялся…
– Как своему другу, Рультабий, как лучшему своему другу! Скажите же… Доверьте мне свою тайну – ведь она душит вас!..
Рультабий положил мне руку на плечо и, заглянув мне в глаза, сказал:
– Вы все узнаете, Сенклер, вы будете знать столько же, сколько и я, и вы испытаете тот же страх, мой друг, потому что вы добры и, я знаю, любите меня!
Но вместо того, чтобы, как я ожидал, сделать мне признание, он попросил железнодорожный указатель.
– Мы поедем часовым поездом, – сказал он, – в это время года нет прямого сообщения между д’О и Парижем, так что мы приедем домой лишь в семь часов. Но нам вполне хватит времени уложить чемоданы и попасть с Лионского вокзала на девятичасовой поезд на Марсель и Ментону.
Он даже не спрашивал моего мнения и вез в Ментону так же, как и в Трепор, прекрасно зная, что при данном стечении обстоятельств я ни в чем не сумею ему отказать. Да если бы он и хотел обойтись без меня, я все равно не оставил бы его в таком взволнованном состоянии. Кроме того, наступало праздничное время, и я был совершенно свободен.
– Итак, мы отправляемся в город д’О?
– Да, там мы сядем в поезд. От Трепора ехать в экипаже в д’О не более получаса…
– Недолго же мы пробудем в этих местах, – заметил я, взглянув в окно.
– Достаточно, я надеюсь, для того, зачем я приехал сюда, увы!..
Я вспомнил об аромате дамы в черном и замолчал. Ведь Рультабий обещал посвятить меня в свою тайну. Он повел меня на взморье. Ветер был еще очень силен, и нам пришлось укрыться за маяком. Некоторое время он простоял перед морем, задумавшись и закрыв глаза.
– Вот здесь, – произнес он, наконец, – я в последний раз видел ее.
Он взглянул на каменную скамью.
– Мы сели здесь, она прижала меня к своему сердцу. Я был еще совсем маленьким мальчиком: мне было девять лет… Она велела мне сидеть на этой скамье, а сама ушла, и я никогда ее больше не видел… Это было вечером… теплым летним вечером, когда нам вручали награды. О, она не присутствовала при этом, но я знал, что она придет вечером… вечером, когда сияли звезды и было так светло, что я надеялся рассмотреть ее лицо. Но она со вздохом опустила свою вуаль. А затем уехала, и я никогда больше ее не видел…
– А вы, мой друг?
– Я?
– Да, что вы сделали? Вы еще долго сидели на скамейке?..
– Мне очень хотелось… но за мной приехал кучер, и мне пришлось вернуться…
– Куда?
– Как куда… в колледж…
– Значить, в Трепоре есть колледж?
– Нет, но колледж есть в д’О.
Рультабий cделал мне знак следовать за собой.
– Поедем туда… Или вам хочется остаться здесь?.. Но здесь слишком дует!..
Через полчаса мы были в д’О. Проехав каштановую аллею, наша карета с шумом покатилась по булыжной мостовой холодной и пустынной площади; кучер возвестил о нашем прибытии, щелкая бичом и наполняя мертвый городок этой душераздирающей музыкой. Над крышами раздался бой часов – со здания колледжа, как объяснил мне Рультабий, затем все смолкло.
Лошадь с экипажем застыла посреди площади. Кучер скрылся в кабачке. Мы вошли в холодную тень высокой готической церкви, замыкавшей с одной стороны обширную площадь. Рультабий окинул взором замок из розового кирпича, увенчанный высокими крышами в стиле Людовика XIII, с мрачным фасадом, будто оплакивавшим своих изгнанных принцев, квадратное строение мэрии с ее грязным флагом, офицерское кафе, парикмахерскую, лавку букиниста. Не здесь ли покупала ему первые книги дама в черном?
– Ничего не изменилось!..
Старая полинявшая собака лежала на пороге лавки букиниста, лениво положив морду на отмороженные лапы.
– Это Шам! – вскрикнул Рультабий. – О! Я сразу узнал его!.. Это Шам! Мой славный Шам!
И он позвал собаку:
– Шам, Шам!..
Собака приподнялась, повернувшись к нам и прислушавшись к звавшему ее голосу. Она с трудом сделала несколько шагов, обнюхала нас и вернулась на место, потеряв к нам всякий интерес.
– О! – вздохнул Рультабий. – Это он!.. Но он не узнает меня больше…
Он увлек меня на улицу, круто спускавшуюся вниз и замощенную гладкими камнями. Рультабий все время держал меня за руку, и я чувствовал, как он дрожит. Вскоре мы остановились перед небольшой церковью в иезуитском стиле. Толкнув низкую дверь, Рультабий ввел меня под ее величественные своды; в глубине на каменных плитах пустых гробниц стояли две прекрасные мраморные коленопреклоненные фигуры.
– Часовня колледжа, – прошептал мне спутник.
В часовне никого не было. Мы поспешно пересекли ее. Затем Рультабий открыл дверь, что вела под небольшой навес.
– Идем, – прошептал он. – Так мы сумеем пробраться в колледж, и привратник меня не увидит. Он наверняка узнал бы меня…
– Что же в этом дурного? – недоумевал я.
Перед навесом прошел человек с непокрытой головой, со связкой ключей в руках. Рультабий бросился в тень.
– Это папаша Симон! Ах, как он постарел! Совсем лысый! В это время он ходит убирать дортуары младших учеников… Сейчас все в классе… О! Нам никто не помешает! Одна лишь жена Симона сидит в своей будке, если только она еще жива… В любом случае отсюда она нас не увидит… Но подождем!.. Вон отец Симон идет обратно!..
Почему Рультабий так тщательно прятался? Несомненно, я ничего не знал об этом юноше, хоть и воображал, что знаю его прекрасно. Каждый час, проведенный с ним, ставил передо мной все новые загадки. Выждав, пока удалится отец Симон, мы с Рультабием незаметно вышли из‑под навеса и, укрывшись в углу небольшого садика за кустами, могли, свесившись над кирпичным откосом, свободно осматривать обширные дворы и строения колледжа под нами. Рультабий с такой силой сжимал мне руку, точно боялся упасть…
– Боже мой, – заговорил он глухим голосом, – как все здесь изменилось! Старые классы, где я отыскал как‑то ножик, снесены, а внутренний дворик, в котором мы прятали деньги, перенесен дальше… Но стены часовни на том же месте! Посмотрите, Сенклер, нагнитесь: вон та дверь, ведущая в подвалы часовни, – это дверь младшего класса. Сколько раз ребенком я проходил через нее, боже мой!.. Но никогда, никогда я не выходил из нее с такой радостью, даже в часы самых веселых перемен, как в те дни, когда отец Симон приходил за мной, чтобы отвести в приемную, где меня ожидала дама в черном!.. Бог мой! Только бы они оставили нетронутой приемную!..
И он, осторожно высунув голову, оглянулся назад.
– Смотрите, вон она, приемная!.. рядом со сводами… первая дверь направо… Вот туда она приходила… туда… Мы сейчас пройдем туда, как только выйдет отец Симон…
У него стучали зубы.
– Это безумие, – продолжал он. – Мне кажется, я схожу с ума… Что же делать! Это сильнее меня… Мысль, что я сейчас увижу вновь приемную, где она ждала меня… Я жил надеждой увидеть ее, и, когда она уходила, я, несмотря на обещание быть благоразумным, впадал всякий раз в такое глубокое отчаяние, что все боялись за мое здоровье. Вывести меня из этого состояния удавалось лишь угрозой лишить свидания с ней, если я заболею. До следующего посещения я не расставался с воспоминанием о ней и ее аромате. У меня ни разу не было возможности хорошенько рассмотреть дорогие мне черты лица, и, упиваясь до потери сознания ее ароматом, когда она сжимала меня в своих объятиях, я хранил в памяти этот запах. В дни, которые следовали за ее посещением, я время от времени убегал во время перемен в приемную и, когда в ней, как сегодня, не было никого, я вдыхал, я благоговейно дышал тем воздухом, которым дышала она, я набирал его в легкие и уходил с переполненным сердцем… Это был самый нежный, самый тонкий, самый естественный, самый сладкий аромат в мире, и я был уверен, что никогда больше не услышу его, до того дня, о котором я вам говорил, Сенклер… Вы помните… до дня приема в Елисейском дворце…
– В тот день, мой друг, вы встретили Матильду Станжерсон…
– Да, Матильду Станжерсон… – ответил Рультабий дрогнувшим голосом…
О, если бы я знал в ту минуту, что дочь профессора Станжерсона от первого своего брака в Америке имела ребенка, сына, примерно одного возраста с Рультабием, – быть может, после путешествия, которое мой друг совершил туда и где, очевидно, навел нужные справки, быть может, я понял бы, наконец, его волнение, его страдания, его странное смущение, с которым он произнес это имя Матильды Станжерсон в стенах колледжа, куда когда‑то приходила дама в черном!
Наступило молчание, которое я решился прервать:
– И вы никогда не узнали, почему дама в черном не вернулась?
– О! – возразил Рультабий. – Я уверен, что она приходила… Но меня уже здесь не было!..
– Кто же забрал вас отсюда?
– Никто!.. Я убежал!..
– Зачем?.. Чтобы отыскать ее?
– Нет! Нет!.. Чтобы скрыться от нее, Сенклер… Но она‑то вернулась!.. Я уверен, что она вернулась!..
– Она, должно быть, пришла в отчаяние, не увидев вас!..
Рультабий поднял руки к небу и покачал головой.
– Разве я знаю?.. Откуда мне знать?.. Ах, как я несчастен!.. Тсс, мой друг!.. Отец Симон… Он уходит… наконец!.. Скорей!.. В приемную!..
Мы оказались там в три прыжка. Это была обыкновенная комната, довольно большая, с убогими шторами на голых окнах. Меблировка ее состояла из шести соломенных стульев, расставленных вдоль стен, зеркала над камином и стенных часов. В ней было довольно темно.
Входя в эту комнату, Рультабий обнажил голову с тем уважением и почтением, которое обычно проявляют в священном месте. Он покраснел и, продвигаясь маленькими шажками, застенчиво мял в руках свое кепи. Затем повернулся ко мне и едва слышно, еще тише, чем в часовне, проговорил:
– Сенклер! Вот она, приемная!.. Возьмите меня за руку! Я весь горю… я покраснел, не правда ли?.. Я всегда краснел, когда входил сюда, зная, что увижу ее здесь! Это понятно, я бежал… я прибегал, запыхавшись… не мог ждать! О, мое сердце, мое сердце – оно бьется, как тогда, когда я был ребенком… Смотрите, я подбегал сюда… вот сюда, к этой двери, и стыдливо останавливался… Но я видел ее темную тень в уголке, она молча раскрывала мне свои объятия, и я бросался в них сразу же, и мы целовались и плакали!.. Это было так приятно! Это была моя мать, Сенклер!.. Она не говорила мне этого, наоборот, часто повторяла, что моя мать умерла, а она ее подруга… Но только она просила меня называть ее «мама» и плакала, когда я ее целовал, и я знаю, что она была моей матерью… Постойте, она всегда садилась вот здесь, в этом темном углу, и приходила, когда уже смеркалось, но еще не зажигали свет в приемной… Приходя, она клала на этот подоконник большой белый пакет, перевязанный розовой ленточкой. Это были бисквиты. Я обожаю бисквиты, Сенклер!..
Рультабий не мог больше сдерживаться. Он облокотился на камин и заплакал. Когда ему стало немного легче, он поднял голову, посмотрел на меня и грустно улыбнулся. А затем утомленно сел. Я молчал, так как прекрасно осознавал, что он говорил не со мной, а со своими воспоминаниями…
Я видел, как он дрожащими руками вынул из‑за пазухи переданное мною письмо, распечатал его и медленно прочел. Вдруг рука его опустилась, и он тихо простонал. Только что такой красный, он внезапно побледнел, как будто вся кровь ушла из его сердца. Я сделал движение, но он жестом остановил меня и закрыл глаза.
Можно было подумать, что он уснул. Тогда я тихо, на цыпочках, как в комнате тяжелобольного, отошел к окну, выходившему на небольшой двор, в центре которого возвышалось громадное каштановое дерево. Сколько времени простоял я так, рассматривая каштан? Откуда мне знать!.. Откуда мне знать, что мы ответили бы, если бы кто‑то из обитателей колледжа вошел в эту минуту в приемную? Я размышлял о странной и таинственной судьбе моего друга, об этой женщине, которая была его матерью, а может быть, и нет!.. Рультабий был в то время так юн, ему так нужна была мать, что он просто мог создать ее в своем воображении… Рультабий!.. Под каким другим именем он числился здесь, в этой школе?.. Жозеф Жозефен? «Это не имя», как говорил редактор «Эпок». И зачем он приехал сюда? Отыскать след аромата?.. Пережить воспоминание?.. Иллюзию?..
Я обернулся, услышав шум. Рультабий встал, он казался очень спокойным, просветлевшее выражение его лица свидетельствовало об одержанной им внутренней победе.
– Сенклер, нам уже пора уходить… Пойдемте, мой друг!.. – И Рультабий вышел из приемной, даже не обернувшись. Я последовал за ним.
На улице, куда мы выбрались, не замеченные никем, я остановил его и с беспокойством спросил:
– Что же, мой друг, отыскали ли вы аромат дамы в черном?..
Несомненно, он видел, что я вложил в свой вопрос всю свою душу, полную горячего желания, чтобы это посещение вернуло ему душевный покой.
– Да, – ответил он серьезно. – Да, Сенклер… Я нашел его… – И он показал мне письмо дочери профессора Станжерсона.
Я с изумлением посмотрел на него, ничего не понимая, так как я ничего тогда еще не знал… Он взял меня за руки и, глядя в глаза, произнес:
– Я хочу доверить вам большую тайну, Сенклер… тайну моей жизни, а быть может, и моей смерти… Что бы ни случилось, она должна остаться между вами и мной!.. У Матильды Станжерсон был ребенок… сын… этот сын умер, умер для всех, кроме вас и меня!..
Я отступил, пораженный, оглушенный таким признанием… Рультабий – сын Матильды Станжерсон!.. И вдруг меня, как удар грома, поразила мысль… Но тогда Рультабий был сыном Ларсана! О! Теперь я понял все колебания Рультабия… Я понял, почему мой друг в это утро, предчувствуя истину, говорил: «Почему он не умер? Если он жив, я предпочел бы умереть!»
Рультабий, очевидно, прочел в моих глазах эту мысль и ответил мне простым жестом, который должен был значить: «Это так, Сенклер, теперь вы поняли!» Затем он громко сказал:
– Ни слова!
Приехав в Париж, мы расстались, условившись встретиться на вокзале. Здесь Рультабий передал мне новую телеграмму, подписанную профессором Станжерсоном. Вот ее содержание: «Дарзак передал мне, что вы свободны на несколько дней. Мы все будем очень рады, если вы проведете их с нами. Ждем вас у Артура Ранса, который будет счастлив представить вас своей жене. Моя дочь также будет очень рада вас видеть».
Наконец, когда мы уже сидели в вагоне, привратник дома, где жил Рультабий, добежав до нас через всю платформу, передал третью телеграмму. Она была уже из Ментоны, подписана Матильдой и содержала всего лишь два слова: «На помощь!»
Глава IV
В дороге
Теперь мне все ясно. Рультабий только что рассказал мне о своем необыкновенном и богатом приключениями детстве, и теперь я также знаю, почему он больше всего боится, что Матильда Дарзак разгадает разделяющую их тайну. Я не смею больше ничего говорить, ничего советовать моему другу. Ах, бедолага!.. Прочитав эту телеграмму: «На помощь!» – он поднес ее к губам и, до боли сжав мою руку, сказал: «Если я приеду слишком поздно, я отомщу за нас!» С какой холодной и дикой решимостью он произнес эти слова! Время от времени слишком резкое движение выдавало состояние его души, но в целом он был спокоен. Какое решение он принял, сидя с закрытыми глазами в углу приемной, где прежде сидела дама в черном?..
…Пока мы катимся к Лиону и Рультабий дремлет, вытянувшись на своем диванчике, я расскажу вам, как и почему мальчик убежал из колледжа и что произошло после.
Рультабий оставил колледж, как вор! Нет необходимости подыскивать другое выражение, потому что его обвинили в воровстве. Вот как было дело. В девять лет он был уже очень развитым ребенком, умевшим решать самые невероятные, самые трудные задачи. Учитель математики удивлялся его необыкновенной логике, цельности его умозаключений – иными словами, философским подходом. Мальчишка так и не вызубрил таблицу умножения и считал на пальцах. Делать вычисления он просил товарищей, как поручают грубую домашнюю работу прислуге… Но предварительно он указывал им путь решения. Не знакомый еще с принципами алгебры, он придумал собственную алгебру и с помощью своеобразных знаков, напоминавших клинопись, отмечал все этапы своего математического рассуждения, составляя общие формулы, понятные ему одному. Учитель с гордостью сравнивал его с Паскалем, который сам вывел основные теоремы Евклида. И в повседневной жизни ученик применял тот же удивительный метод рассуждения: так, например, после какого‑нибудь случая – шалости школьника, скандала, доноса – он находил виновника из десяти одноклассников, находил его безошибочно, опираясь на сведения, сообщенные ему другими, или свои личные наблюдения.
Для него не было ничего проще, чем отыскать спрятанную, потерянную или украденную вещь… В этой области он проявлял невероятную сообразительность, как будто природа, стремясь к вечному равновесию и создав отца, который был гением среди воров, пожелала произвести от него сына, который стал добрым гением обокраденных. Эта способность, снискавшая ему уважение среди воспитателей колледжа, оказалась для него роковой. Он непостижимым образом отыскал небольшую сумму денег, украденную у начальника школы, и никто не хотел верить, что он сделал это исключительно благодаря своему уму и проницательности. Такое предположение казалось всем невозможным, и вскоре, из‑за неудачного совпадения времени и места, Рультабия самого обвинили в воровстве. Хотели заставить его сознаться, он защищался с ожесточением, за что был строго наказан. Начальник произвел расследование, в котором Жозефа Жозефена предали его же товарищи, с присущим детям легкомыслием: многие жаловались, что у них воровали книги и школьные предметы, и формально обвинили того, кто уже был в их глазах запятнан. То, что у него не было родителей и никто не знал, откуда он родом, послужило против него. Говоря о нем, дети называли его не иначе как «вор». Он вступал в драку, но оказывался побит, так как не был достаточно сильным. Тогда он пришел в отчаяние и стал думать о самоубийстве. Начальник, неплохой, в сущности, человек, к несчастью, был убежден, что имеет дело с маленьким порочным существом, на которое нужно воздействовать, лишь дав ему понять весь ужас совершенного проступка, и не придумал ничего лучше, чем сказать ему, что выгонит его из школы и в тот же день напишет даме, которая заботится о нем, – госпоже Дарбель, как она себя называла, – чтобы его забрали из колледжа, если он не признается в воровстве. Ребенок ничего не ответил; его увели в небольшую комнатку и заперли там. На другой день мальчика тщетно искали – он убежал. Он рассудил, что начальник, которому его доверили с самого нежного возраста, так что он не мог представить себе свою жизнь иначе, как в стенах колледжа, – всегда был к нему добр и теперь обращался с ним так сурово лишь потому, что поверил в его виновность. А следовательно, и дама в черном, в свою очередь, поверит в нее. Оказаться вором в глазах дамы в черном – уж лучше смерть! И он убежал, перепрыгнув ночью через садовую ограду. Оттуда он направился прямо к каналу, в который и бросился, рыдая, с последней мыслью о даме в черном. К счастью, в своем отчаянии бедный мальчуган забыл, что умеет плавать.
Я так подробно рассказал об этом случае из детства Рультабия лишь потому, что, я уверен, в нынешнем положении дел его важность будет всем понятна. В то время Рультабий еще не предполагал, что он сын Ларсана, но и тогда он не мог без ужаса думать о том, что дама в черном действительно поверит в его виновность, – как же велики, как бесконечны были его страдания теперь, когда он уверился в естественности и законности его связи с Ларсаном! Узнав о происшествии, его мать должна была подумать, что преступные инстинкты отца оживали в сыне и, может быть, – мысль более ужасная, чем сама смерть, – она порадовалась его гибели!
Итак, его сочли мертвым. Следы беглеца вели к каналу, откуда после долгих поисков выловили его школьный берет. Как же он выжил? Покинув свою купель и твердо решив уйти подальше от колледжа, этот мальчуган, которого тщетно искали в канале и в окрестностях, придумал очень оригинальный способ пройти через всю страну, не привлекая к себе внимания. Его гений помог ему. Как и всегда, он рассуждал: он знал из рассказов о сорванцах и отчаянных мальчишках, убегавших от родителей в поисках приключений, что они скрывались днем в полях и лесах, шли ночью и вскоре попадались жандармам или вынуждены были вернуться домой сами, потому что их запасы быстро заканчивались, а попрошайничать у них не хватало духу. Наш маленький герой спал, как и все люди, ночью и шел среди бела дня, ни от кого не скрываясь. Высушив свое платье, – наступило, к счастью, лето, и ему не пришлось страдать от холода, – он превратил его в лохмотья, в которые и облекся, выпрашивая по дороге милостыню; грязный и босоногий, он протягивал руку, уверяя прохожих, что отец его изобьет, если он не принесет ему денег. И его принимали за цыганенка.
Вскоре подошло время лесной земляники. Он собирал ее и продавал в маленьких корзинках из листьев. Рультабий уверял меня, что сохранил бы самые светлые воспоминания об этом периоде своей жизни, если бы его не мучила мысль, что дама в черном считает его вором. Настойчивость и природная смелость помогали ему продолжать это путешествие, которое тянулось целые месяцы. Куда он шел? В Марсель! Попасть туда было его мечтой!
В учебнике географии ему нередко попадались пейзажи юга, и он всегда тяжело вздыхал при мысли, что ему, наверно, никогда не придется увидеть этот роскошный край. Вынужденный бродяжничать, он познакомился с небольшим табором цыган, направлявшимся той же дорогой в Сен-Мари‑де-ла-Мер, чтобы выбрать там своего нового короля. Мальчик оказал этим людям несколько услуг, сумел им понравиться, и они, не имея привычки спрашивать у прохожих документы, удовлетворились этим, решив, что ребенок убежал от каких‑нибудь акробатов, которые с ним дурно обращались. Таким образом, он добрался до юга.
В окрестностях Арля он расстался со своими спутниками и попал, наконец, в Марсель. Здесь был рай, вечное лето и… порт! Порт был настоящей сокровищницей для маленьких бездельников. Рультабий черпал из нее, сколько ему хотелось, по мере своих потребностей, которые были, впрочем, невелики. Так, например, он сделался «ловцом апельсинов». В одно прекрасное утро, как раз в то время, когда он занимался этой достойной профессией, он познакомился на набережной с парижским журналистом Гастоном Леру. Знакомство оказало такое влияние на судьбу Рультабия, что я считаю не лишним привести здесь статью, в которой сотрудник газеты «Матен» увековечил эту незабвенную встречу:
Маленький ловец апельсинов
Когда солнце пронзило наконец тучи и заиграло лучами на стенах марсельского собора Нотр-Дам – де-ла-Гард, я спустился на набережную. Ее большие плиты были еще влажными, в них отражались дрожащие силуэты прохожих. Матросы и грузчики возились около бревен, привезенных с севера, устанавливали домкраты и натягивали канаты. Пряный ветер с открытого моря проскальзывал между башней Сен-Жан и фортом Сен-Николя и бороздил зыбью воды Старого порта. Борт о борт покачивались в такт небольшие баркасы, протягивая друг к другу реи с подобранными парусами. Рядом с ними, вознося к разорванным облакам неподвижные мачты, степенно отдыхали тяжелые шхуны, утомленные долгими скитаниями по неведомым морям. Через лес рей и снастей я различил башню – живого свидетеля того, как двадцать пять веков назад дети древней Фокеи бросили якорь в этой счастливой бухте, приплыв из далеких вод Ионии. Затем я перенес внимание на набережную и увидел маленького ловца апельсинов. Он стоял, утопая в оборванной куртке, которая покрывала его до пят, без шапки, босой, с белокурыми волосами и черными глазами; на вид ему можно было дать лет девять. На веревке, перекинутой через плечо, висел холщовый мешок. Левую руку он заложил за спину, а правой опирался на палку, раза в три длиннее его, с пробковым кольцом на конце. Мальчуган стоял неподвижно и задумчиво. Тогда я спросил его, что он делает, и услышал в ответ: «Вылавливаю апельсины!»
Он, по‑видимому, очень гордился своей профессией ловца апельсинов и не стал выпрашивать у меня несколько су, как это делают другие портовые оборванцы. Я заговорил с ним опять, но он не соблаговолил мне ответить, внимательно глядя на поверхность воды. Мы стояли как раз между кормой судна «Фидес», пришедшего из Кастелламаре, и легким трехмачтовиком из Генуи. Дальше виднелись две баржи, пришедшие утром и под завязку набитые апельсинами, которые вываливались отовсюду. Апельсины плавали на воде, покачиваясь на волнах и приближаясь к нам. Мой мальчуган прыгнул в лодку, подбежал к корме и остановился в ожидании, вооруженный своей палкой, увенчанной петлей. Затем он принялся за ловлю. Кольцом на своей палке он подцепил один апельсин, два, три, четыре. Они быстро исчезали в мешке. Он поймал еще пятый, вылез на набережную и снял кожу с золотистого фрукта. Затем его зубы жадно вонзились в сочную мякоть…
– Приятного аппетита, – сказал ему я.
– Ничего так не люблю, как фрукты, – ответил он, весь перепачканный сладким соком.
– А чем ты питаешься, когда нет апельсинов?
– Тогда подбираю уголь.
И, запустив руку в мешок, он вытащил огромный кусок угля. Сок апельсина попал на борт его куртки. Мальчуган вытащил из кармана не поддающийся описанию платок и старательно вытер куртку. Затем с гордостью спрятал платок в карман.
– Чем занимается твой отец? – спросил я.
– Он беден.
– Но чем он занимается?
Ловец апельсинов пожал плечами:
– Он ничем не занимается, потому что беден.
По-видимому, мои вопросы о его генеалогии не особенно ему понравились. Он двинулся вдоль набережной, и я последовал за ним. Так мы подошли к месту, где стояли небольшие прогулочные яхты, сверкавшие безупречной белизной. Мальчуган рассматривал их с видом знатока и, по‑видимому, находил в этом созерцании невероятное наслаждение. Подошла хорошенькая яхта, распустив свой белоснежный парус, ослепительный под лучами солнца.
– Ничего себе судно, – заметил мой новый знакомый.
С этими словами он нечаянно наступил в лужу, забрызгав грязью куртку, которая, похоже, занимала его больше всего на свете. О, ужас! Он готов был заплакать. Быстро вытащив из кармана платок, он принялся оттирать куртку. Затем, умоляюще взглянув на меня, спросил:
– Я не грязный сзади?
Я заверил его, что нет. Тогда он доверчиво кивнул и снова спрятал платок в карман. В нескольких шагах от нас, на тротуаре, тянувшемся вдоль ряда старых желтых, красных и синих домишек, в окнах которых развевалось сохнувшее тряпье самых разнообразных цветов, сидели за прилавками торговки мидиями. На каждом маленьком столике были разложены ракушки, заржавевший нож и бутылка с уксусом. Мы подошли к столикам, моллюски были свежи и соблазнительны, и я остановил ловца апельсинов:
– Если бы ты не сказал, что любишь фрукты больше всего, я предложил бы тебе дюжину ракушек.
Черные глазенки паренька заблестели, и мы вдвоем принялись за моллюсков. Торговка открывала их; ее предложение воспользоваться уксусом мой спутник отверг повелительным жестом. Порывшись в мешке, он с триумфом вытащил оттуда лимон. Лимон, побывав в соседстве с углем, стал совершенно черным. Но его владелец, не смущаясь, достал все тот же платок. Затем он разрезал лимон пополам и любезно предложил мне половину, но я предпочитаю ракушки без ничего, поэтому, поблагодарив, отказался.
Позавтракав, мы вернулись на набережную. Ловец апельсинов попросил у меня сигарету и прикурил ее с помощью спички, находившейся в другом кармане его куртки.
С сигаретой в зубах, пуская в небо клубы дыма, как взрослый мужчина, оборванец уселся на парапете, свесив над водой ноги и устремив взгляд вверх, на собор Нотр-Дам‑де-ла-Гард. Он сидел, выпрямившись, с необычайно гордым видом и, казалось, хотел наполнить своей фигуркой весь порт.
Гастон Леру
На другой день Жозеф Жозефен вновь встретил в порту Гастона Леру, который искал его с газетой в руках. Мальчуган прочел статью, и журналист дал ему монету в сто су. Рультабий не затруднился взять ее. «Я принимаю деньги, – сказал он Гастону Леру, – за свое сотрудничество». На эти сто су он купил себе великолепный ящик со всеми принадлежностями для чистки сапог. В течение двух лет в его владение попадали ноги всех, кто приходил в ресторан «Брегальон», чтобы съесть там традиционный паштет. В перерывах между чистками он усаживался на свой ящик и читал. Он получил слишком хорошее воспитание и первоначальное образование и понимал, что если он не закончит самостоятельно того, что так хорошо было начато другими, то лишит себя единственной возможности добиться положения в обществе.