Читать книгу "Перечитывая Уэллса"
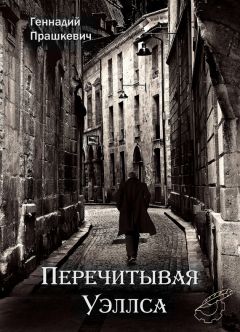
Автор книги: Геннадий Прашкевич
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Сара Нил настаивала на том, чтобы Берти прошел конфирмацию и стал членом Англиканской церкви, но научные книжки, прочитанные им, сделали его явным безбожником. Викарию местного прихода он заявил, что верит только в эволюцию и что ему непонятен сам факт грехопадения первых людей. И хотя в будущем Уэллс написал несколько романов, обычно относимых к разряду «богоискательских», интерес к религии никогда не был у него глубоким. В Мидхерсте, как и в школе дяди Уильямса, Уэллс нисколько не стеснялся раздавать затрещины ученикам. Это явно шло им на пользу, больше, чем любые увещевания, да и сам Уэллс довольно быстро освоил основы физики и биологии и сдал в мае обязательные учительские экзамены с таким блеском, что получил возможность отправиться студентом-естественником в Лондон.
Подводя итог пребыванию в Мидхерстской школе, Уэллс особо отметил несколько важных для него открытий. Например, «Республику» Платона и брошюру Генри Джорджа «Прогресс и бедность». Никто не знает, как в нашем мозгу преображаются чужие идеи, как они выводят нас на свой собственный путь, но именно эти работы Уэллс считал для себя основополагающими. Он был уверен, что Платон и Генри Джордж вывели его на серьезную социологию и на то, что позже он назвал футурологией. Со своим приятелем Харрисом, тоже молодым учителем, Берти регулярно прогуливался вечерами по зеленым тропинкам Мидхерста. Особой удачей считал он и то, что ему вовремя попала в руки «Утопия» Томаса Мора, а вот имени Карла Маркса до появления в Лондоне он даже не слышал. «Я рос как на дрожжах, одежда вечно была мне коротковата, но хотя вид у нас с Харрисом был не слишком презентабельный, положение спасали университетские шапочки с кисточкой, наподобие тех, что носили студенты Оксфорда или Кембриджа. Они придавали нам, учителям грамматической школы, вид настоящих ученых».
Тогда же сформировалось его окончательное отношение к сексу.
Все женщины и все мужчины нуждаются в нормальных сексуальных отношениях, – вот факт, так зачем же скрывать его? И какой смысл гнать всех жаждущих сразу к семейному очагу? Любовь в клетке брака выцветает стремительно. Значит, и в этом вопросе нужна свобода!
7Биологическую лабораторию Нормальной научной школы Уэллс запомнил навсегда. Время, проведенное у профессора Хаксли (с 1884 по 1885 годы), дало ему больше, чем любой другой период его жизни. «За окнами лаборатории, – вспоминал он в рассказе «Препарат под микроскопом», – висела влажная белесая пелена тумана, а внутри было жарко натоплено, и расставленные по концам длинных узких столов газовые лампы с зелеными абажурами заливали комнату желтым светом. На столах красовались стеклянные банки с останками искромсанных раков, моллюсков, лягушек и морских свинок, на которых практиковались студенты; вдоль стены против окон тянулись полки с обесцвеченными заспиртованными препаратами; над ними висел ряд превосходно исполненных анатомических рисунков в светлых деревянных рамах, а под ними кубиками выстроились в ряд шкафчики. Все двери лаборатории были выкрашены в черный цвет и служили классными досками; на них виднелись оставшиеся со вчерашнего дня полустертые чертежи и диаграммы. В лаборатории было пусто – если не считать демонстратора, который сидел за микротомом у дверей препараторской, – и тихо, если не считать ритмичного постукивания и щелканья микротома. Однако разбросанные вещи говорили о том, что здесь только что побывали студенты: повсюду валялись портфели, блестящие футляры с инструментами, на одном столе – большая таблица, прикрытая газетой, на другом – изящно переплетенный экземпляр «Вестей ниоткуда», книги, которая совершенно не вязалась с окружающей обстановкой. Все это в спешке оставили студенты, бросившиеся в соседний лекционный зал занимать места. Оттуда, из-за плотно притворенных дверей, едва доносился монотонный голос профессора…»
8Профессора звали Томас Хаксли.
Сын школьного учителя, в двадцать один год он начал службу морским врачом на судне «Рэттльснэк». Четыре года плаваний по южным морям у берегов Австралии и Новой Гвинеи позволили ему глубоко изучить жизнь тропиков. С борта «Рэттльснэка» он отправил в Лондон несколько научных работ, а с 1854 года, оставив морскую службу, начал преподавать в Лондонском университете палеонтологию, сравнительную анатомию, геологию и естественную историю. В 1853 году Томаса Хаксли избрали членом Королевского научного общества, а в 1883 году он стал его президентом. Благодаря своему влиянию в 1881 году Томасу Хаксли удалось объединить Горную школу и несколько других небольших учебных заведений в отдельный педагогический факультет при Лондонском университете. Сначала этот факультет назвали Нормальной школой наук, затем Королевским колледжем наук, но удержалось название Южный Кенсингтон – по местоположению. Студенты, прошедшие три отделения этого факультета (биологический, минералогический и физико-астрономический), получали университетский диплом, дающий право преподавать в школах.
Профессор Хаксли читал лекции в небольшой аудитории, примыкавшей к биологической лаборатории. Квадратное лицо, высокий лоб, зачесанная назад шевелюра. Еще в шестидесятых Томаса Хаксли прозвали «бульдогом Дарвина» из-за его страстной защиты дарвинизма. Он не сразу принял принципы эволюционной теории, но, согласившись с ними, сокрушенно покаялся: «Как глупо было с моей стороны не подумать об этом!» По-настоящему знаменитым Хаксли стал после публичного диспута с епископом Сэмюэлем Вильберфорсом. Епископ не удержался от вопроса, не произошел ли сам профессор Хаксли от обезьяны со стороны бабушки или дедушки, на что свирепый «бульдог Дарвина» ответил, что предпочел бы произойти от обезьяны, чем высмеивать серьезные научные споры.
Для Уэллса общение с Хаксли имело огромное значение.
Если эволюцией не управляют никакие высшие силы, то отпадает нужда в божественном вмешательстве, разве не так? И отсюда второе. Если человечество развивается по законам эволюции, значит, это развитие можно предугадывать или даже корректировать?
Задник лаборатории был затянут темной драпировкой.
«Мне рассказывали, – вспоминал Уэллс, – что, когда Хаксли читал лекцию, занавеска иногда слегка раздвигалась и из-за нее появлялся сам Дарвин, чтобы послушать своего друга и союзника». К сожалению, к моменту появления Уэллса в Южном Кенсингтоне Чарльза Дарвина уже не было в живых.
Все равно Уэллс был счастлив. Южный Кенсингтон был той средой, о которой он всегда мечтал. Обтрепанный до неприличия студент старался не пропустить ни слова. По истечении года он охотно продолжил бы свое биологическое образование, но на кафедре не оказалось вакансий.
9Зато вакансия оказалась на кафедре физики.
С 1885 по 1886 годы Уэллс слушал лекции профессора Гатри.
Это был скучный медлительный бородач, по свидетельству самого Уэллса. Он казался всем очень старым, хотя ему было чуть более пятидесяти лет. Таким его делала неизлечимая болезнь, в конце концов его сгубившая. Запомнили профессора Гатри больше как основателя Физического общества. Конечно, в сравнении с кипящим энергией Томасом Хаксли профессор Гатри сильно проигрывал. «Он оставил у меня впечатление, – иронизировал Уэллс, – что я и без него знаю физику, и пусть даже что-то меня местами занимает, предмет этот не стоит изучения». К тому же профессор Гатри с самого начала был настроен на то, что его студентам в будущем предстоит работа в школе, поэтому он упирал в основном на техническую часть, на постановку различных опытов.
По всем этим причинам Уэллс гораздо охотнее проводил время в студенческом дискуссионном обществе. Именно там он впервые услышал о четвертом измерении и даже написал и отослал в журнал «Фортнайтли ревью» статью «Жесткая Вселенная», однако статья эта была отвергнута. Неприязнь к лекциям профессора Гатри к этому времени перешла всякую меру. Берти Уэллс как с цепи сорвался. Он откровенно высмеивал своего учителя. Когда, например, профессор Гатри потребовал от студентов соорудить деревянные кресты с иголками на концах перекладины и со стеклянной планкой, тщательно зачерненной сажей, – прибор, предназначенный для измерения вибраций камертона, Уэллс наотрез отказался от такого задания. «Я студент-физик или заключенный под стражей? Мне нужно учиться или подчиняться нелепым приказам?» Новый Завет он вслух называл компиляцией. Научился во время лекции завывать, не открывая рта. Короче, на лекциях профессора Гатри ему было скучно.
10Лекции геолога Джона Уэсли Джада, которые Уэллс слушал в 1886–1887 годах, оказались ничуть не интереснее лекций Гатри. Профессор Джад мямлил, по выражению Уэллса. И лицо у него было бледное, невыразительное, как произносимые им слова. Очень скоро студент пришел к выводу, что геология сама по себе – предмет дурно склеенный, скорее, это даже не наука, а собрание преданий и легенд. Странно, ведь именно к началу двадцатого века мировая геология могла похвастать многими достижениями.
Но именно в Южном Кенсингтоне Уэллс получил ясное представление о таких мировых гигантах, как Гёте, Карлейль, Шелли, Теннисон, Шекспир, Драйден, Милтон, Поуп и, само собой, Будда, Мухаммед, Конфуций, Христос, философы всех времен и народов, и осознал, почему именно эти люди определяли ход человеческой истории. Огромное значение для юного студента имело знакомство с философом и утопистом Уильямом Моррисом, донесшим до человечества знаменитые «Вести ниоткуда». Дом Уильяма Морриса располагался в фешенебельном районе Лондона, хозяин дома был не беден, это лишний раз заставило Уэллса задуматься: почему подобные «Вести ниоткуда», вести, несущие надежду всем и, прежде всего, угнетенным, никогда не приходят из пролетарских районов? Уэллса поразили беседы, которые велись в уютном доме Морриса, поразили люди, посещавшие этого невысокого, почти квадратного здоровяка. Социалисты, коммунисты, анархисты, эмигранты из самых разных европейских стран – действительно, встречи у Морриса не могли не действовать на воображение.
Одна из оранжерей большого сада у Морриса была полностью предоставлена для дискуссий. Темы поднимались любые, но особо приветствовались те, что выходили за пределы общеизвестного. Уэллс быстро понял, что большая цель должна быть не просто у определенного дискуссионного общества, – большая цель должна быть у каждого отдельного человека. Ты обязан найти своё, ты обязан одарить мир именно своим открытием. Помню, как меня изумило в юности письмо одного известного советского фантаста. «В литературе, в отличие от шахмат, – писал он мне, – переход из мастеров в гроссмейстеры зависит не только от мастерства. Тут надо явиться в мир с каким-то своим личным откровением, что-то своё сообщить о человеке человечеству. Например, Тургенев открыл, что люди (из людской) – тоже люди. Толстой объявил, что мужики – соль земли, что они делают историю, решают мир и войну, а правители – пена, они только играют в управление. Что делать? Бунтовать, – объявил Чернышевский. А Достоевский открыл, что бунтовать бесполезно. Человек слишком сложен, нет для всех общего счастья. Каждому нужен свой ключик, сочувствие. Любовь отцветающей женщины открыл Бальзак, а Ремарк – мужскую дружбу и т. д. А что скажете миру Вы?»
Хороший вопрос.
Это пережил и Уэллс.
В доме Уильяма Морриса он увидел, что многие сильные умы, о которых он только слышал или читал, являются его современниками. То есть мудрость – это не просто итог прошлого, нет, мудрость формируется и сейчас, в наши дни, вот тут рядом с тобой! Возбуждающие социалистические идеи, помноженные на атеизм, на веру в прогресс техники и науки, заставляли Уэллса искать адекватные возможности для выражения и своих мыслей. Платоновский идеализм накладывался на прагматические представления фабианцев, с которыми он уже был знаком. Информация – наш главный инструмент, она же – наш главный тормоз, потому что человек, появляясь на свет, вынужден каждый раз заново проходить путь, уже пройденный человечеством. Кукушки Мидвича, о которых в будущем напишет один из самых талантливых учеников Уэллса (Джон Уиндем), всего лишь плод воображения…
Не меньше, чем дом Уильяма Морриса, Уэллса привлекало студенческое Дискуссионное общество. Заседания велись в подвальной аудитории Горной школы. Обсуждалось на заседаниях все, кроме религиозных вопросов. Когда однажды Берти нарушил это правило, его попросту стащили с трибуны. В памяти Элизабет Хили, дружившей в то время с Уэллсом, остались его удивительные голубые глаза и замечательная шевелюра. «Я в то время не знала лучшего оратора. И ум у него был острый и быстрый. Правда, сарказм Уэллса никогда не ранил тех, против кого был направлен, потому что все смягчалось его ярким юмором…»
11Изучая «Опыт автобиографии», книгу во многом уникальную, видишь, как многое из личной жизни Уэллса перешло в его книги. Шифровка личного вообще свойственна всем писателям, но иногда возникает впечатление, что ряд реалистических романов Уэллса – это всего только его собственная биография, правда, рассмотренная тщательно и с самых разных точек зрения.
«Однажды в доме кузины Дженни Галл, – вспоминал Уэллс, – в то время как мы сидели и чинно беседовали, в комнату вошла темноглазая девушка примерно моего возраста и остановилась, застенчиво глядя на нас; на ней было хорошенькое платье простого покроя в модном тогда «художественном стиле». У нее было серьезное и милое лицо, хорошо очерченный овал, брови широкие, губы, подбородок и шея на редкость красивые. Она оказалась еще одной моей кузиной – Изабеллой, на которой мне суждено было жениться».
Но это случилось не сразу.
Комната, которую снимал Уэллс, была холодная.
Было не до женитьбы. Он бедствовал и на всем экономил.
Работал при свече, в пальто, завернув ноги в чистое белье и засунув их, чтобы укрыться от сквозняка, в нижний ящик комода. Из его собственных воспоминаний мы знаем всех, кто окружал его в лондонском доме по Юстон-роуд. Мы знаем, как не очень искусно играла на пианино тетя Мэри и как ее журила время от времени тетя Белла. До Уэллса постоянно доносились негромкие тетушкины голоса. «Ну я сглупила», – говорила тетя Мэри. «А ты не глупи», – отвечала тетя Белла.
А кузина Изабелла, так поразившая Уэллса, работала в то время ретушером у фотографа, и Уэллс часто провожал ее в ателье.
«Порой бывало сыро, моросил дождь, сменявшийся густым туманом, который дивной серо-белой пеленой повисал вокруг, словно стеной огораживая их на каждом шагу. Поистине нельзя было не радоваться чудесным этим туманам, ибо за ними исчезали презрительные взгляды, бросаемые прохожими на шедшую под руку молодую пару, и можно было позволить себе тысячу многозначительных дерзостей, пожимая или ласково поглаживая маленькую руку в штопанной-перештопанной перчатке из дешевой лайки. И тогда совсем близко ощущалось неуловимое нечто, связывавшее воедино все, что с ними происходило. И опасности, подстерегающие на перекрестках: внезапно возникающие из мрака прямо над ними лошадиные головы, и высокие фургоны, и уличные фонари – расплывшиеся дымчато-оранжевые пятна, все это настоятельно говорило о том, как нуждается в защите хрупкая молоденькая девушка, уже третью зиму вынужденная в одиночку шагать сквозь туманы и опасности. Мало того, в туман можно было пройти по тихому переулку, в котором она жила, и, затаив дыхание, приблизиться чуть ли не к самому ее крыльцу…»
Это из романа «Любовь и мистер Льюишем». Это из жизни Уэллса.
«Туманы вскоре сменились суровыми морозами, когда ночи высвечены звездами, когда уличные фонари сверкают, словно цепочки желтых самоцветов, а от их льдистых отражений и блеска магазинных витрин режет глаза и когда звезды, суровые и яркие, уже не мерцают, а словно бы потрескивают на морозе. Летнее пальто Этель сменил жакет, опушенный искусственным каракулем, а ее шляпу – круглая каракулевая шапочка, из-под которой сурово и ярко сияли ее глаза и белел лоб, широкий и гладкий. Чудесными были эти прогулки по морозу, но они слишком быстро кончались. Поэтому путь от Челси до Клэпхема пришлось удлинить петлей по боковым улочкам, а потом, когда первые мелкие снежинки возвестили о приближении рождества, они стали ходить еще дальше по Кингс-роуд, а раз даже по Бромтон-роуд и Слоан-стрит, где магазины полны елочных украшений и разных занимательных вещей. Из остатков своего капитала в сто фунтов мистер Льюишем тайком истратил двадцать три шиллинга. Он купил Этель золотое с жемчужинками колечко и при обстоятельствах, крайне торжественных, вручил его ей. А она сказала: «Мы ведем себя глупо, что с нами будет?»
Сохранилось немало фотографий кузины Изабеллы.
Девушка в строгом платье, с прической «под художественность», – в ней просматривается какая-то тревога. Та же тревога и в глазах Берти. Настоящие мучения ему доставлял костюм, который следовало поддерживать в каком-то порядке. А прекрасные девушки и женщины не оборачиваются на тощих субъектов в обтрепанных одеждах; понимание этого было нестерпимо. Неудивительно, что всю свою страсть Уэллс обрушил на Изабеллу.
Конечно, это был верный выбор.
Изабелла сама стремилась вырваться из бедности.
Они с Берти прекрасно понимали друг друга, они во всем были союзниками в достижении поставленной цели, все остальное (пока) не имело значения. Стоило тете Белле упустить молодых из виду, как они начинали целоваться. А по воскресеньям надевали самое лучшее и шли на прогулку не куда-нибудь, а в Риджент-парк; иногда заходили в церковь или в картинную галерею. Эти прогулки приносили им удовольствие, но нередко приводили к ссорам, потому что так или иначе выявлялось их интеллектуальное неравенство: молодой человек, уже коснувшийся многих тайн истинного знания, и юная девушка, о многом понятия не имевшая.
Уравнивал всё инстинкт – вечная ловушка молодых.
Конечно, кузина Изабелла старалась понять своего друга, но многие его слова и рассказы принимала просто за «умничанье». Многое было ей непонятно. Ей не нравились нападки Берти на королеву, ей не нравились нападки Берти на Церковь. Чувствуя внутреннюю природную тягу Изабеллы к красоте, Уэллс пытался заставить Изабеллу читать Джона Рёскина, но как читать тексты, половина слов в которых ей непонятна? «Я и сам, – вспоминал Уэллс, – к тому времени находился еще в процессе становления, и мне непросто было объяснить Изабелле мои мысли и убедить ее. «Не все так думают», – говорила моя кузина. «Но это еще не значит, что следует вообще отказаться мыслить», – огрызался я. Ну почему, почему я постоянно заводил речь о чем-то ей недоступном и отвлеченном? Ведь во всех других отношениях я в своем потертом нелепом цилиндре был существом вполне понятливым и покладистым. И почему, почему я так настаивал, чтобы мы поскорее занялись любовью, отлично понимая всю нашу неготовность к женитьбе?»
12В 1887 году Уэллс несколько месяцев преподавал в Академии Холта (Рексхем, Северный Уэльс). Серые дома… Рутина… Здесь Уэллс чувствовал себя неудачником. Ничуть не более способные приятели добились каких-то успехов, а за ним пока ничего не было. И ухаживания за кузиной зашли в тупик.
На пыльном чердаке Ап-парка (он ездил туда к матери) Уэллс нашел пыльный ящик с загадочными медными деталями. Оказалось, это телескоп. Собрав его, он впервые увидел звездное небо вблизи и яркую Луну со многими таинственными кратерами. Сара Уэллс пугала сына чердачными сквозняками, но он увез телескоп с собой. Наниматель молодого учителя в Академии Холта был человеком толстым, непривлекательным; свободное время Уэллс проводил со своим коллегой французом Ро, но и у того характер оказался с изъяном. Через десяток лет, когда Уэллс получит известность, этот Ро попытался выдать сохранившуюся у него рукопись Уэллса за свою…
Зато в Рексхеме Уэллс начал писать.
Один рассказик он даже напечатал в журнале «Фамили геральд».
Небрежный рассказик, сентиментальный. И как раз в те дни на футбольном поле Берти Уэллсу при неудачном столкновении отбили почку. А заодно у него открылся тяжелый кашель. Рексхемский доктор, увидев на платке Уэллса алые пятна крови, поставил однозначный диагноз – туберкулез. «Тогда мы не слишком много знали о туберкулезе, – вспоминал Уэллс. – Называли его чахоткой. Не догадывались, что болезнь заразна, а поскольку на нижнюю половину тела симптомы болезни никак не распространялись, ее считали вполне подходящим сюжетом для сентиментальных романов. Вызывавший всеобщую симпатию чахоточный или чахоточная, с его (или ее) блестящими глазами, щеками, горевшими лихорадочным румянцем, и возбудимостью, предвещающими скорый конец, давали возможность безграничного самоотвержения в ответ на их, порою деспотические, требования…»
Уэллс отнесся к болезни со всей серьезностью.
В 1900 году получив возможность построить свой первый дом, он так его распланировал, чтобы спальни, гостиные, лоджии и кабинет выходили на солнечную сторону. При методах лечения, существовавших в то время, тяжелая болезнь могла мучить человека годами…






























