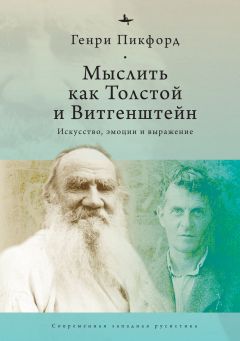
Автор книги: Генри Пикфорд
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Но в тот период после первого приступа, когда он прибегал к молитвам, не веря по-настоящему в их слова и боясь, что приступ повторится, он «должен был не останавливаясь и, главное, в привычных условиях жить, как ученик по привычке не думая сказывает выученный наизусть урок, так я должен был жить, чтобы не попасть опять во власть этой ужасной, появившейся в первый раз в Арзамасе тоски» (26:471). Он пространно описывает свою «стратегию выживания»:
…я… начал жить по-прежнему, с одной только разницей, что я стал молиться и ходить в церковь. По-прежнему мне казалось, но уже не по-прежнему, как я теперь вспоминаю. Я жил прежде начатым, продолжал катиться по проложенным прежде рельсам прежней силой, но нового ничего уже не предпринимал. И в прежде начатом было уже у меня меньше участия. Мне все было скучно. И я стал набожен. И жена замечала это и бранила и пилила меня за это. Тоски не повторялось дома (26: 471).
Здесь, как и в приведенном выше отрывке о Вронском, внешнее, закрепленное поведение отделено от внутренних интенциональных состояний. Толстой искусно изображает постепенное обращение рассказчика, показывая, как он выводит свою веру из одного набора внешних форм поведения (землевладелец-приобретатель, традиционный муж) и в конце концов вкладывает ее в другой набор внешних форм поведения. В рассказе это движение конкретизируется тем, что сначала он произносит свои молитвы, не вкладывая в них смысл (не веря в них), но в конечном итоге начинает осмыслять свои молитвы и некоторые религиозные тексты, причем это осмысление равносильно обязательству изменить свою жизнь. Идейная структура, позволяющая внутреннему «я» рассказчика отделить себя от одного набора внешних форм поведения и постепенно найти себя в кардинально отличном наборе внешних форм поведения, и есть то самое картезианство, которое приводит за собой семантический скептицизм. Это также та самая идейная структура, которую мы встречаем в самом начале рассказа, когда уже обратившийся рассказчик повествует нам, как он успешно избежал диагноза «сумасшествие» при медицинском освидетельствовании:
Они спорили и решили, что я не сумашедший. Но они решили так только потому, что я всеми силами держался во время свидетельствования, чтобы не высказаться. Я не высказался, потому что боюсь сумашедшего дома; боюсь, что там мне помешают делать мое сумашедшее дело. Они признали меня подверженным аффектам, и еще что-то такое, но – в здравом уме; они признали, но я-то знаю, что я сумашедший (26: 466).
Скептицизм в отношении значения проистекает именно из такого типа идейных структур – структур, которые позволяют рассказчику истории считать себя сумасшедшим (с точки зрения тех, кто не пережил такого же духовного обращения, как он) и при этом полагать, что он успешно обманул осматривавших его врачей.
4. В «Анне Карениной», помимо исследования способов, которыми, как мы видели, внешнее поведение и внутренние душевные состояния могут расходиться и влиять друг на друга, Толстой углубляет свой анализ картезианства, исследуя возможности преодолеть декартово разделение, и именно это исследование переводит роман Толстого из области светской повести в нечто более близкое к философии сознания и приводит к проблемам, более свойственным Витгенштейну. Я покажу, как Толстой иллюстрирует по меньшей мере четыре различных способа соединения внутреннего и внешнего, сознания и мира, отрицая тем самым абсолютность картезианского разделения, которая, в свою очередь, предполагается интерпретизмом. Таким образом, этот аспект «Анны Карениной» подготавливает почву для более обобщенных утверждений в поздних текстах Толстого: что эстетический опыт и понимание не требуют интерпретации. Мы можем для удобства подразделить четыре варианта соединения сознания и мира следующим образом. Ниже я рассмотрю два варианта единства внутреннего состояния и внешнего поведения, при которых акцент падает на проявление или выражение душевных состояний. В следующем разделе я рассмотрю два других варианта, при которых акцент падает на передачу своих душевных состояний другим или их понятность для других. Общим для всех этих видов выражения душевных состояний или установок является их непроизвольность.
Толстой последовательно изображает эти формы антикартезианства как непроизвольное выражение.
Приступая к рассмотрению этой проблематики, вернемся к самому началу романа и к характеру Облонского. Жена Облонского Долли только что нашла записку, свидетельствующую о его неверности, и уличила его.
С ним [Степаном Аркадьичем] случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным – все было бы лучше того, что он сделал! – его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга»[67]67
«Рефлексы головного мозга» (1866, первая публикация: «Медицинский вестник», 1863, № 47, с. 461–484; № 48, с. 493–512) – название книги И. М. Сеченова (1829–1905), которая произвела сильное впечатление на современников. «На “Рефлексы” ссылались, о них говорили и спорили всюду и все, кто знал о них хотя бы понаслышке» [Бабаев 1981:478]. (На этот факт обращают внимание и переводчики романа на английский язык. – Примеч. пер.).
[Закрыть], – подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.
Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа (18: 5).
Пафос этой трагикомической сцены во многом обусловлен драмой, написанной на холсте лиц супружеской пары. Привычная мимическая реакция Облонского, можно сказать, упреждает формирование намеренной, целенаправленной реакции на поведение жены. Ее можно рассматривать как оборотную сторону притворности и притворства, когда внешнее поведение человека скрывает его интенциональное состояние; обе возможности задают декартово разделение. Но «глупая улыбка» Облонского непреднамеренна: это физиологический «рефлекс головного мозга», возникающий каузально, а не интенционально, следовательно не нормативно[68]68
В частности, у Облонского как у комического персонажа душевные состояния, как представляется, служат простыми следствиями физических причин. Еще один пример: «Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было что-нибудь особенно приятное, – радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение» (18: 10). Здесь возникает параллель, «сцепление» между двумя персонажами второго плана: Облонским и Карениным. Душевная жизнь и поведение Облонского слишком часто обусловлены физическими причинами; у Каренина же они слишком часто определяются кодами и привычками поведения, вначале – светского общества и чиновничества, позже – церкви. Например, нам рассказывают, почему он сделал предложение Анне: что ему внушили, «что долг чести обязывает его сделать предложение», и что его «отношения к этим лицам [знакомым Каренина] были заключены в одну твердо определенную обычаем и привычкой область, из которой невозможно было выйти» (19: 78).
[Закрыть]. Поэтому Облонский в то же время упрекает себя за то, что не выразил того, что должен был бы выразить. Рассказчик же, в свою очередь, объясняет непроизвольное действие Облонского, исходя не только из физической причинности, но и из обычаев или привычек, типичных для тех, кто оказывается в таких обстоятельствах. Точно так же рассказчик объясняет поступок Долли как привычный, как проявление «свойственной ей горячности», но затем метафорически уподобляет его физикопричинной реакции: она «вздрогнула, как от физической боли» (18: 5). Таким образом, в этом коротком эпизоде описаны два уровня непроизвольного выражения: физически обусловленные выражения (т. е. вздрагивание от боли, «рефлексы головного мозга»), которые не поддаются сдерживанию нормативностью, и привычные и общепринятые выражения, которые такому сдерживанию поддаются. Непроизвольные действия, реакции, выражения – короче говоря, поведение в целом – это род, подразделяющийся по меньшей мере на два вида: физиологические рефлексы (которые объясняются каузально-диспозиционными законами природы) и привычное поведение (которое объясняется «второй натурой», то есть привитием культурных диспозиций). В первых главах романа Толстой дает понять, что эта проблематика будет основополагающей также для Левина, который во время приезда в Москву наблюдает, как его сводный брат ведет спор с известным профессором философии:
Профессор вел жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил за этою полемикой и, прочтя последнюю статью профессора, написал ему в письме свои возражения; он упрекал профессора за слишком большие уступки материалистам. И профессор тотчас же приехал, чтобы столковаться. Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она?
<…>
Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими, как развитием знакомых ему, как естественнику, по университету основ естествознания, но никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного, о рефлексах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум.
Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они связывали научные вопросы с задушевными, несколько раз почти подходили к этим вопросам, но каждый раз, как только они подходили близко к самому главному, как ему казалось, они тотчас же поспешно отдалялись и опять углублялись в область тонких подразделений, оговорок, цитат, намеков, ссылок на авторитеты, и он с трудом понимал, о чем речь (18: 27–28).
Далее мы увидим, что Левин находит собственное решение этой проблематики, но пока нам достаточно того, что Толстой задает проблематику – проведение границы между физическим и интенциональным в душевной жизни человека – и исследует ее, исходя из физической причинности и сформированности привычек.
Толстой проводит и дальнейшее разграничение, возможно под влиянием чтения Шопенгауэра. Похоже, что Толстой поддерживает концепцию психофизической причинности в том смысле, что бессознательное или, проще говоря, «волнение» или «чувство» может выражаться также и непроизвольно – как правило, в противовес «разуму». Так, в шестой части «Анны Карениной» Сергей Иванович и Варенька используют поход за грибами как предлог, чтобы выполнить ожидание общества, что он сделает ей предложение, поскольку он рассудил, что она будет хорошей партией, а она молчаливо поощряла его вывод[69]69
Волнение Вареньки перед ожидаемым предложением также вызывает физиологические проявления: «чувствовала, что краснеет, бледнеет и опять краснеет» (19: 137).
[Закрыть]. Каждый из них знает, что от них ожидается, и все же каждый непроизвольно поступает вопреки ожиданиям. Вместо того чтобы выказывать спокойную благопристойность, которой требует светский этикет, чтобы дать возможность претенденту приступить к интимной теме, Варенька «против своей воли, как будто нечаянно», продолжает говорить о грибах. Точно так же Сергей «хотел воротить ее к первым словам, которые она сказала о своем детстве; но, как бы против воли своей, помолчав несколько времени, сделал замечание на ее последние слова». Эпизод продолжается:
Он повторял себе и слова, которыми он хотел выразить свое предложение; но вместо этих слов, по какому-то неожиданно пришедшему ему соображению, он вдруг спросил:
– Какая же разница между белым и березовым?
Губы Вареньки дрожали от волнения, когда она ответила:
– В шляпке нет разницы, но в корне.
И как только эти слова были сказаны, и он и она поняли, что дело кончено, что то, что должно было быть сказано, не будет сказано, и волнение их, дошедшее пред этим до высшей степени, стало утихать.
<…>
Вареньке было и больно и стыдно, но вместе с тем она испытывала и чувство облегчения.
Возвратившись домой и перебирая все доводы, Сергей Иванович нашел, что он рассуждал неправильно. Он не мог изменить памяти Marie (19: 138).
В этом тонком психологическом исследовании обе стороны, по сути, испытывают облегчение от того, что не повели себя так, как велели им разум и сознание, в конце концов признав, что их неосознанные, непроизвольные[70]70
Конечно, согласно метафизике Шопенгауэра, их действия послужили выражением их глубинной, бессознательной и непостижимой воли.
[Закрыть] действия были на самом деле истинным выражением их бессознательного. В этом случае их самоинтерпретация подверглась короткому замыканию реального выражения[71]71
Исследователи кардинальным образом расходятся в интерпретации этого эпизода. Дж. Вир полагает, что изначальное единство влюбленных было нарушено тем, что они поддались условностям: «неудавшееся предложение – это не коммуникативная неудача, а пример убожества условностей, которые теперь взяли верх над злополучной парой… Они предают свою любовь, потому что полагают, что она будет развиваться сама собой», тогда как на самом деле она требует «умения и труда» [Weir 2011:134]. Напротив, Э. Манделкер прочитывает сцену как явную назидательную критику, где Толстой «парирует викторианские мучительные условности исконно русской версией сюжета ухаживания, сценой “антипредложения”» [Mandelker 1993: 169].
[Закрыть].
5. Мы выбрали несколько примеров, где Толстой показывает непроизвольное выражение душевных состояний, которое подрывает картезианское разделение, предполагаемое интерпретизмом: формы физически обусловленных выражений (таких, как «покраснеть», «вздрогнуть») и те, которые являются привычными и общепринятыми реакциями. Такие формы непроизвольного выражения сокращают предполагаемый разрыв между ментальной сферой интенциональности и внешней сферой наблюдаемого поведения. Толстой также рассматривает формы непроизвольного выражения по другую сторону предполагаемого разделения – примеры или акты непосредственного, непроизвольного понимания одного персонажа другим; и я утверждаю, что эти формы непосредственного, нерассуждающего и непроизвольного понимания в «Анне Карениной» представляют собой ростки мыслей, которые будут (как мы увидим в главе 3) более полно развиты в «Что такое искусство?».
На самом деле я готов утверждать, что такие случаи представляют собой одно из главных «сцеплений» романа, соединяющих сюжетные линии Анны и Вронского, с одной стороны, и Кити и Левина – с другой в зеркальном порядке: в начале романа Анна и Вронский испытывают непосредственное, непроизвольное взаимопонимание, которое впоследствии вырождается в непонимание, скептическое сомнение и (несостоятельную) интерпретацию; напротив, Кити и Левин вначале неверно понимают друг друга, прежде чем в конце концов достичь такого же непосредственного взаимопонимания. Вот как Толстой описывает первую встречу Анны с Вронским:
В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке (18: 66) (курсив мой. – Г. П.).
И при второй встрече Анны и Вронского:
Каждый раз, как он говорил с Анной, в глазах ее вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы. Она как будто делала усилие над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой выступали на ее лице. Кити посмотрела на него и ужаснулась. То, что Кити так ясно представлялось в зеркале ее лица, она увидела на нем.
<…>
И на лице Вронского, всегда столь твердом и независимом, она видела то поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата.
Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен (18: 87, 88) (курсив мой. – Г. П.).
А когда Вронский встретил Анну на Московском вокзале, «невольно первое слово его сказало ей то самое, что он думал» (18: 111). Любимое слово Толстого для обозначения непосредственного понимания душевного состояния (чувств или мыслей) другого – «общение», а глагол, описывающий акт такого непосредственного (то есть неинтерпретируемого, неинференциального) невольного понимания – «сообщаться». Вот несколько примеров, где речь идет об Анне и Вронском.
Его восприятие ее стыда:
Стыд пред духовною наготою своей давил ее и сообщался ему (18: 158).
Его восприятие ее ужаса от того, что она отвергнута светским обществом:
– Какое счастье! – с отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему (Там же).
Но именно тогда, когда их отношения сходят на нет под давлением светского общества, отвергающего Анну, эти невольные «сообщения» начинают неправильно пониматься, неправильно интерпретироваться.
Вронский узнает о ее беременности:
Но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятеренною силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувства омерзения к кому-то; но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступил теперь, что нельзя более скрывать от мужа, и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное положение. Но, кроме того, ее волнение физически сообщалось ему (18: 198).
И непосредственное восприятие Вронским ее тревоги (после того как муж ответил отказом на ее просьбу о разводе), притом что он не понимает причины или оснований этой тревоги:
В присутствии ее он не имел своей воли: не зная причины ее тревоги, он чувствовал уже, что та же тревога невольно сообщалась и ему (18: 332).
Отношение Вронского к своей скаковой лошади Фру-Фру предвосхищает фатальное непонимание, которое позже возникнет с Анной – это выражено даже на лексическом уровне:
Вронскому по крайней мере показалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал.
<…>
Волнение лошади сообщилось и Вронскому; он чувствовал, что кровь приливала ему к сердцу и что ему так же, как и лошади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно и весело (18: 192)[72]72
Ср. несколькими страницами ниже, где речь идет о встрече Вронского с Анной: «Но, кроме того, ее волнение физически сообщалось ему» (19:198).
[Закрыть].
Хотя Вронский непроизвольно и непосредственно понимает Фру-Фру так же легко, как и Анну, он совершит роковую ошибку, не предугадав движение лошади во время прыжка, и сломает ей спину с непоправимыми последствиями. Одним из ранних симптомов трещин, возникающих в отношениях Анны и Вронского, является возникающая у них потребность интерпретировать или «читать» выражения друг друга.
Но она не слушала его слов, она читала его мысли по выражению лица. Она не могла знать, что выражение его лица относилось к первой пришедшей Вронскому мысли – о неизбежности теперь дуэли. Ей никогда и в голову не приходила мысль о дуэли, и поэтому это мимолетное выражение строгости она объяснила иначе (18: 332).
Это ухудшение взаимопонимания в конце концов приводит к тому, что Анне приходится не только интерпретировать, но и угадывать смысл внешнего поведения Вронского:
Но не только холодный, злой взгляд человека преследуемого и ожесточенного блеснул в его глазах, когда он говорил эти нежные слова.
Она видела этот взгляд и верно угадала его значение.
«Если так, то это несчастие!» – говорил этот его взгляд. Это было минутное впечатление, но она никогда уже не забыла его (19: 246).
Эти эпизоды, возможно, предполагают, что неудача непроизвольного, непосредственного понимания является не результатом, а условием картезианского разделения. То есть что-то в нашем повседневном общении друг с другом должно было разладиться, чтобы внутренние интенциональные состояния и внешняя видимость расходились таким образом, что появиляется первая тень картезианства и вытекающего из него интерпретизма.
Толстой уделяет больше внимания описанию сцен непосредственного, непроизвольного взаимопонимания между Кити и Левиным, диаметрально противоположных растущему недоверию и непониманию – зарождающемуся скептицизму – между Анной и Вронским[73]73
Причин, по которым между Анной и Вронским закрадывается скептическое сомнение, множество, и их рассмотрение завело бы нас слишком далеко, в область самообмана (например, умышленный отказ Анны осознавать свое положение или Вронский, мнящий себя художником). Одна из причин, однако, безусловно связана с волей и выражается в форме противодействующих желаний. Увлеченность Вронского Анной приводит к утрате его полковых и светских связей, правил и кодов, внутри которых он осознает себя и среди которых чувствует себя своим. Когда он все это теряет, его желание перемещается с предмета на предмет и он начинает терять интерес к Анне. «Вронский <…> был доволен, но недолго. Он скоро почувствовал, что в душе его поднялись желания желаний, тоска. Независимо от своей воли, он стал хвататься за каждый мимолетный каприз, принимая его за желание и цель. <…> вне того круга условий общественной жизни, который занимал время в Петербурге. <…> И как голодное животное хватает всякий попадающийся предмет, надеясь найти в нем пищу, так и Вронский совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины» (19: 32).
Наконец Вронский обнаруживает, что не может высказывать Анне свои сокровенные мысли, и они перестают понимать друг друга по взглядам. Такой крах взаимопонимания влечет за собой не что иное, как картезианское разделение: «[Вронский] не упрекал ее словами, но в душе своей он упрекал ее» (19:122).
[Закрыть]. Для этого также избран глагол «сообщаться».
Она [Кити] сморщила лоб, стараясь понять. Но только что он начал объяснять, она уже поняла.
– Я понимаю: надо узнать, за что он спорит, что он любит, тогда можно…
Она вполне угадала и выразила его дурно выраженную мысль. Левин радостно улыбнулся: так ему поразителен был этот переход от запутанного многословного спора с Песцовым и братом к этому лаконическому и ясному, без слов почти, сообщению самых сложных мыслей[74]74
Непосредственно после этого они играют в салонную игру, где требуется угадывать слова и фразы по первым буквам, заданным партнером. Позже они в разговоре завершают высказывания друг за друга.
[Закрыть] (18: 417).
Венец их непосредственного и непроизвольного взаимопонимания – эпизод, случившийся в день их свадьбы. Церковный обряд кажется Левину бессмысленным, и его сознание замыкается в себе, оторвавшись от окружающих его людей и событий. И вскоре после этого в его мыслях возникает самое настоящее картезианское сомнение:
«Но знаю ли я ее мысли, ее желания, ее чувства?» – вдруг шепнул ему какой-то голос. Улыбка исчезла с его лица, и он задумался. И вдруг на него нашло странное чувство. На него нашел страх и сомнение, сомнение во всем (19: 11).
Терапевтический ответ – не обдуманный аргумент, который доказал бы беспочвенность его сомнений, а скорее непосредственное понимание ею состояния его души: «Она сказала ему, что она любит его за то, что она понимает его всего, за то, что она знает, что он должен любить, и что все, что он любит, все хорошо» (19: 12). Во время обряда венчания и Кити, и Левин путаются и ошибаются в ритуальных действиях, которые должны производить. Хотя Кити не понимает слов благословения,
улыбка радости, сообщавшаяся невольно всем смотревшим на нее, сияла на ее просветлевшем лице; и тогда Левин оглянулся на нее и был поражен тем радостным сиянием, которое было на ее лице; и чувство это невольно сообщилось ему. Ему стало, так же как и ей, светло и весело. <…> Искра радости, зажегшаяся в Кити, казалось, сообщилась всем бывшим в церкви. Левину казалось, что и священнику и дьякону, так же как и ему, хотелось улыбаться (19: 24).
Искусственность и непонятность церковной литургии и вызывает у Кити и Левина желание истолковать их, и отбивает это желание, тогда как счастье Кити тотчас же непроизвольно понимается и разделяется всеми, кто ее видит, без всякой надобности истолковывать ее наружность или поведение. Это третий способ, которым, так сказать, вытесняются внутренний и внешний аспекты картезианского разделения, – и это, in писе[75]75
В самом существенном (лат.). – Примеч. пер.
[Закрыть], и есть та роль, которую Толстой будет, как мы увидим, приписывать «подлинному искусству» в «Что такое искусство?».
В «Анне Карениной» форма непосредственного понимания и передачи смысла, лексически отмеченная глаголом «сообщаться», имплицтно противопоставляется другому глаголу – «заражать», который составляет четвертую и последнюю форму отрицания картезианства в романе, ту, что будет развита в фундаментальную эстетическую концепцию в «Что такое искусство?». Если «сообщаться», как представляется, ограничивается случаями, когда воспринимающий непосредственно понимает и разделяет душевное состояние другого, «заражать» относится к непосредственному социально-физиологическому подражанию, подходящим примером или сравнением для которого может служить заразительность зевоты или смеха:
…Бетси, видимо, хотела, но не могла удержаться и разразилась тем заразительным смехом, каким смеются редко смеющиеся люди. – Надо у них спросить, – проговорила она сквозь слезы смеха.
– Нет, вы смеетесь, – сказала Анна, тоже невольно заразившаяся смехом, – но я никогда не могла понять. Я не понимаю тут роли мужа[76]76
Для полноты картины отметим: Толстой не всегда строго соблюдает разницу в употреблении этих слов. В одном месте мы читаем: «Варенька, чего еще Кити никогда не видала, раскисала от слабого, но сообщающегося смеха, который возбуждали в ней шутки князя» (18: 246) – не «заразительного». В конце концов, Толстой писал и выстраивал роман несколько лет, и он все же не философ, которого положение обязывает придерживаться последовательной терминологии.
[Закрыть] (18: 314).И Левин видел, что [лакей] Егор находится тоже в восторженном состоянии и намеревается высказать все свои задушевные чувства.
– Моя жизнь тоже удивительная. Я сызмальства… – начал он, блестя глазами, очевидно заразившись восторженностью Левина, так же как люди заражаются зевотой (18: 422).
А далее, в части 6, «заразительный смех» станет практически лейтмотивом второстепенного комического персонажа Весловского, молодого, толстого, компанейского аристократа из окружения Облонского – он мажет из охотничьего ружья и гоняется за крестьянскими девушками:
Весловский был так наивно огорчен сначала и потом так смеялся добродушно и увлекательно их общему переполоху, что нельзя было самому не смеяться (19: 153).
Весловский <…> сидел в средине избы и, держась обеими руками за лавку, с которой его стаскивал солдат, брат хозяйки, за облитые тиной сапоги, смеялся своим заразительно веселым смехом (19: 160).
Что-то Степан Аркадьич говорил про свежесть девушки, сравнивая ее с только что вылупленным свежим орешком, и что-то Весловский, смеясь своим заразительным смехом, повторял, вероятно, сказанные ему мужиком слова: «Ты своей как можно домогайся!» (19: 165).
Эти употребления глагола «заражать», по-видимому, означают просто каузальную связь: непроизвольное подражание, которое может вообще не передавать никакого значимого содержания. То же самое, если взглянуть на хрестоматийные случаи «заразительного» воздействия зевоты или смеха: реципиент может не чувствовать усталости и не считать что-то смешным, но эффект тем не менее возникает. Как каузальное отношение, заражение происходит непроизвольно не потому, что желание интерпретировать было подавлено, а в первую очередь просто потому, что воля здесь не может быть задействована, реакция непреднамеренна и нормативное отношение невозможно.
Таким образом, «заражение», по-видимому, является восприятием, противоположным непроизвольному физиологически обусловленному акту, которое мы рассмотрели в предыдущем разделе: оно происходит независимо от воли человека и в этом смысле непроизвольно. Но «сообщение», по-видимому, должно обозначать более сложное отношение, поскольку в рассмотренных нами случаях оно имеет место там, где скептические сомнения и воля к интерпретации не были, хотя и могли быть вызваны. И в то время как «заражение» может происходить и при отсутствии какого-либо определенного душевного состояния, то «сообщаемое» есть отчетливое душевное состояние – часто чувство или волнение, но иногда также мысль или убеждение. И представляется, что эти различные душевные состояния поддаются нормативному ограничению, рассмотренному выше. В принципе можно ошибиться в том, что именно сообщается, или – как мы видели в случае Вронского и Анны – понять передаваемое чувство, но не понять его причины или мотива. Эти различия сыграют важную роль в нашем прочтении последующих произведений Толстого.
6. В «Анне Карениной» Левин, как и Толстой, ищет исцеления от метафизического семантического скептицизма, сопутствующего картезианской структуре. Если друзья Толстого называли его «глубочайшим скептиком»[77]77
Это определение, данное А. В. Амфитеатровым, цитирует Б. М. Эйхенбаум [Эйхенбаум 2009: 584].
[Закрыть], то вспомним Левина на исповеди накануне свадьбы: «Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь и большею частью нахожусь в сомнении» (19: 6). Левин, который, как и Толстой, «находи [т], что [железные] дороги бесполезны» (19: 161), приходит, подобно Витгенштейну, к «терапевтическому решению»: он преодолевает кризис, подавив свою волю к постановке скептического вопроса после того, как он переживает несколько случаев понимания, для которого не требуется интерпретация как ступень между внешним поведением и внутренним интенциональным состоянием, случаев непосредственного, непроизвольного понимания: примечателен момент, когда он и Кити пытаются следовать коду, который официально освящает их союз во время обряда венчания.
В отличие от других персонажей романа Левин вступает в совершенно индивидуалистическое и даже номиналистическое отношение к правилам и ролям. То есть, в то время как другие персонажи и их сюжетные линии определяются возможностями, предоставляемыми внутренней / внешней структурой душевного состояния / поведения, Левин и его сюжетная линия ставят под вопрос саму структуру. Растущий скептицизм Левина в отношении ответов на основополагающие вопросы жизни, предлагаемых помологической наукой и церковной доктриной, приводит его в конечном итоге как к отказу от кодифицированных ролей, так и к приверженности авторефлексивному номинализму:
– Ты, я вижу, решительно ретроград.
– Право, я никогда не думал, кто я. Я – Константин Левин, больше ничего (18: 179).
Номинализм Левина коренится (как сказали бы Толстой и его рассказчик) в его знании «жизни», не стесненной не к месту применяемыми универсальными законами или принципами[78]78
Ср. реакцию Левина на западные трактаты по политической экономии и сельскому хозяйству: «…он нашел выведенные из положения европейского хозяйства законы; но он никак не видел, почему эти законы, не приложимые к России, должны быть общие. То же самое он видел и в социалистических книгах: или это были прекрасные фантазии, но неприложимые, которыми он увлекался, еще бывши студентом, – или поправки, починки того положения дела, в которое поставлена была Европа и с которым земледельческое дело в России не имело ничего общего» (18: 361).
[Закрыть]. Так, обсуждая со своим братом Сергеем Ивановичем Кознышевым «народ», Левин быстро начинает противоречить сам себе, и рассказчик представляет этот факт как подтверждение реального, личного знакомства Левина с народом как отдельными людьми:
Константин Левин, если б у него спросили, любит ли он народ, решительно не знал бы, как на это ответить. Он любил и не любил народ так же, как и вообще людей <…> он не имел никакого определенного суждения о народе, и на вопрос, знает ли он народ, был бы в таком же затруднении ответить, как на вопрос, любит ли он народ. Сказать, что он знает народ, было бы для него то же самое, что сказать, что он знает людей. Он постоянно наблюдал и узнавал всякого рода людей и в том числе людей-мужиков, которых он считал хорошими и интересными людьми, и беспрестанно замечал в них новые черты, изменял о них прежние суждения и составлял новые. Сергей Иванович напротив. Точно так же, как он любил и хвалил деревенскую жизнь в противоположность той, которой он не любил, точно так же и народ любил он в противоположность тому классу людей, которого он не любил, и точно так же он знал народ как что-то противоположное вообще людям. В его методическом уме ясно сложились определенные формы народной жизни, выведенные отчасти из самой народной жизни, но преимущественно из противоположения. Он никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения.
В случавшихся между братьями разногласиях при суждении о народе Сергей Иванович всегда побеждал брата именно тем, что у Сергея Ивановича были определенные понятия о народе, его характере, свойствах и вкусах; у Константина же Левина никакого определенного и неизменного понятия не было, так что в этих спорах Константин всегда был уличаем в противоречии самому себе (18: 252–253).
Отсутствие у Левина «определенных и неизменных» принципов сопровождается его способностью испытывать эмпатию к собеседнику-оппоненту:
Он часто испытывал, что иногда во время спора поймешь то, что любит противник, и вдруг сам полюбишь это самое и тотчас согласишься, и тогда все доводы отпадают, как ненужные; а иногда испытывал наоборот: выскажешь, наконец, то, что любишь сам и из-за чего придумываешь доводы, и если случится, что выскажешь это хорошо и искренно, то вдруг противник соглашается и перестает спорить. Это-то самое он хотел сказать (18: 417).
В сходной ситуации, когда двое земских деятелей пытаются разобраться с двумя противоречащими друг другу слухами о позиции государя по некоему вопросу, эта способность получает имя – «придумывание», или воображение: «Левин постарался придумать такое положение, в котором и те и другие слова могли быть сказаны, и разговор на эту тему прекратился» (19: 254–255).
Воображение Левина находится в обратной зависимости от его скептицизма и в конечном счете становится для него спасительным ответом. Обдумывая модные тогда материалистические доктрины поведения, Левин задается вопросом не только об их обоснованности, но именно об отношении к этим доктринам их сторонников:
Более всего его при этом изумляло и расстраивало то, что большинство людей его круга и возраста, заменив, как и он, прежние верования такими же, как и он, новыми убеждениями, не видели в этом никакой беды и были совершенно довольны и спокойны. Так что, кроме главного вопроса [ «Если я не признаю тех ответов, которые дает христианство на вопросы моей жизни, то какие я признаю ответы?»], Левина мучали еще другие вопросы: искренни ли эти люди? не притворяются ли они? (19: 368)[79]79
Заметим, что второстепенный персонаж, по фамилии Свияжский, чьи мысли полностью расходятся с поступками, служит контрастом для рефлексии Левина: «Свияжский был один из тех, всегда удивительных для Левина людей, рассуждение которых, очень последовательное, хотя и никогда не самостоятельное, идет само по себе, а жизнь, чрезвычайно определенная и твердая в своем направлении, идет сама по себе, совершенно независимо и почти всегда вразрез рассуждениям» (см. также: «так и не найдет он связи жизни этого человека с его мыслями»). Кроме того, это «сцепление» имеет еще один набор узлов, сосредоточенных вокруг использования в романе слов «притворство» и «притворяться», которое я не буду здесь прослеживать – упомяну только, что дети Долли не испытывают к Левину чувства застенчивости, как к «взрослым притворяющимся людям», потому что «притворства не было в нем и признака» (19: 282).
[Закрыть].
Здесь мы можем расценить мысли и поступки Левина как предвосхищение двух витгенштейновских ответов на метафизический семантический скептицизм. Первый витгенштейновский ответ, заложенный в терапевтическом решении Левина, состоит в неспособности персонажа представить себе даже смысл скептического вопроса, не говоря уже о его решении. Терапевтическое решение состоит в открытии бессмысленности сомнения: ведь сама логическая форма вопроса такова, что непонятно, что логически могло бы ей удовлетворить. Такого рода разложение скептицизма проходит через все сочинения Витгенштейна, от начала до конца. В «Трактате» он пишет:
6.51. Скептицизм не неопровержим, но явно бессмыслен, поскольку он пытается сомневаться там, где невозможно спрашивать.
Ибо сомнение может существовать только там, где существует вопрос; вопрос – только там, где существует ответ, а ответ – лишь там, где нечто может быть высказано [Витгенштейн 1994, 1: 72].
Витгенштейн имплицитно проводит различие между чувством или душевным состоянием сомнения и тем, что можно было бы назвать законным сомнением, сомнением, при котором допускается возможность выражения и, следовательно, возможное решение: «Для ответа, который невозможно высказать, нельзя также высказать и вопрос» [Там же: 72]. То есть законный вопрос допускает возможный ответ; сам вопрос послужит частью четко сформулированной понятийной структуры, которая также содержит в себе предполагаемую формулировку ответа, коль скоро он существует. Ответ может не содержать окончательного решения (как ответ на вопрос: «Сколько песчинок существует во Вселенной?»), но мы понимаем, как должен выглядеть ответ, удовлетворяющий этому вопросу, потому что вопрос «живет» в рамках языковой игры, имеющей для нас смысл (подсчет дискретных физических единиц).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































