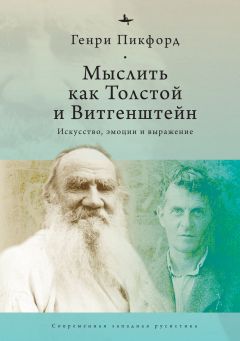
Автор книги: Генри Пикфорд
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В процитированном выше отрывке Витгенштейн также утверждает, что ответом может считаться лишь то, что может быть высказано. Если это не может быть высказано, то это бессмыслица, как она понимается в «Трактате»: использование языка, не имеющего понятийной опоры. Следовательно, если на вопрос скептика не существует возможного ответа, – если мы не можем представить себе, как будет выглядеть возможный ответ, – значит вопрос бессмыслен: для него не существует ответа, который мог бы быть истинным или ложным, поскольку сам вопрос не имеет смысла (как вопрос: «Сколько песчинок верит в Бога?»). В последний год жизни, уже отказавшись от логической метафизики «Трактата» в пользу языковых игр, Витгенштейн размышлял над скептическим вопросом идеалиста: «Откуда я знаю, что этот мир существует?» и практическим ответом Дж. Э. Мура, помахавшего руками перед его лицом: «Вот одна рука, а вот – другая».
Еще одно замечание Витгенштейна:
Вопрос идеалиста звучал бы примерно так: «На каком основании я не сомневаюсь в существовании своих рук?» <…> Но тот, кто задает подобный вопрос, упускает из виду, что сомнение в существовании имеет смысл лишь в той или иной языковой игре. Поэтому, прежде чем принимать сомнение за чистую монету, следовало бы спросить, во что оно вылилось бы на деле [Витгенштейн 1994, 1: 327].
Р. Фогелин дает этому понятное разъяснение:
Трудность ответа на вызов скептика <…> состоит в том, что аргументы, которые я приведу, ничем не превосходят утверждение, которое я пытаюсь отстоять. Постановка именно таких вопросов входит в тактику скептика. Но там, где сомнение ничем не ограничено, ничто не может быть использовано для его разрешения. Здесь претензии на знание или сомнение будут неуместны, бесполезны и, следовательно, по Витгенштейну, бессмысленны. Таким образом, мы приходим к позиции, что осмысленные сомнения могут возникать, вопросы – задаваться, ответы – даваться и т. д. только в контексте языковой игры, которая придает этим действиям содержание. Хитрость скептика состоит в том, чтобы задавать вопросы и заставлять других давать на них ответы вне контекста конкретной языковой игры. В этом, как я полагаю, и состоит основной ответ Витгенштейна на скептицизм [Fogelin 1987: 232-33].
«Текучесть» (по определению Л. Я. Гинзбург[80]80
[Гинзбург 1977: 426]; см. также [Скафтымов 1972: 144–145] и дневниковую запись Толстого от 21 марта 1898 года: «Как бы хорошо написать художественное] произведение, в к[отором] бы ясно высказать текучесть человека, то, что он, один [и] тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо (53: 187).
[Закрыть]) характера Левина состоит, помимо прочего, в его постоянных попытках придумать, каким образом пропозиции могут обретать смысл. Но именно это умение избавляет Левина от его скептического кризиса, так как он начинает понимать, что требования скептика объяснить ему, в чем смысл жизни или что есть добро, сформулированные таким образом, бессмысленны: он не в состоянии «придумать» даже, как может выглядеть разумный ответ, и поэтому возвращает вопрос о значении на подобающее ему место – в сообщество, внутри которого этот вопрос задается:
Я искал ответа на мой вопрос. А ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль, – она несоизмерима с вопросом. Ответ мне дала сама жизнь, в моем знании того, что хорошо и что дурно. А знание это я не приобрел ничем, но оно дано мне вместе со всеми, дано потому, что я ниоткуда не мог взять его (19: 379) (курсив Л. Т.).
Скептическое сомнение Левина не разрешается, г разрушается осознанием, что не существует ничего способного разрешить его сомнение, что радикальное скептическое сомнение, по сути, не имеет смысла, оно бессмысленно, потому что невозможно придумать такие аргументы или обоснования, которые могли бы его разрешить.
Второй витгенштейновский ответ скептику также может послужить комментарием к раздумьям Левина: требовать последнего обоснования, окончательного объяснения для наших языковых игр (например, левинское «В чем смысл жизни? что есть добро?») – значит выйти за пределы мира, который мы все осмысленно населяем, и попытаться посмотреть на него с невозможной, несуществующей «сторонней» позиции uberhaupt^. Но, говорит Витгенштейн, «вопросы, которые мы ставим, и наши сомнения зиждутся на том, что для определенных предложений сомнение исключено, что они словно петли, на которых держится движение остальных [предложений]» [Витгенштейн 1994,1:302][81]81
Это удачное выражение Дж. Макдауэлла (Uberhaupt здесь может быть переведено как «над схваткой». – Примеч. пер.).
[Закрыть][82]82
Некоторые примеры, которые можно найти у Витгенштейна: описать что-либо, назвать что-либо, измерить что-либо, следовать дорожному указателю, отдавать команду или выполнять ее, понимать выражение лица человека.
[Закрыть]. Эти петли – наши повседневные, очевидные общие места и привычки – и служат той «скальной породой», ниже которой мы не можем спуститься не потому, что они метафизически священны, а просто потому, что они представляют собой основные сцепки, из которых состоит наше социальное поведение. Не существует адекватного ответа на вопрос: «Почему дорожный указатель указывает сюда, а не туда?» – кроме «Так у нас принято»[83]83
См. «Философские исследования», §§ 85,454 [Витгенштейн 1994,1:119,217].
[Закрыть]. Мы можем подвергать сомнению наши общие базовые убеждения и практики, но ниже уровня нашего общего ощущения их необходимости мы не найдем никаких фиксированных точек[84]84
Я считаю это утверждение одним из уроков, извлеченных из работы Дж. МакДауэлла «Витгенштейн о следовании правилу» [McDowell 1998: 221–262].
[Закрыть]. Вот что, на мой взгляд, имеет в виду Левин, когда говорит, что эти вещи не могут быть познаны разумом, но что они даны. Можно подготовить себя к принятию того, что дано, стараясь подавить свою волю к скептицизму, что равносильно подавлению своей воли к интерпретации. Непроизвольное, непосредственное понимание радости Кити, пережитое Левиным, сопоставимо с тем, как он учится работать сообща с мужиками-косцами, «отключая» собственные мысли и волю:
Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал, поздно или рано теперь. В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал, ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что он делает, и начинал стараться сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда, и ряд выходил дурен.
<…>
…чаще и чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты.
<…>
Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты (18: 265, 267)[85]85
Ср: «Проживя большую часть жизни в деревне и в близких сношениях с народом, Левин всегда в рабочую пору чувствовал, что это общее народное возбуждение сообщается и ему» (19: 374).
[Закрыть].
Здесь Левин, можно сказать, обретает благое умение позволять своему осознанию мира, своим сознательным мыслям и намерениям, своей воле утихнуть; без самоосознания, самоинтерпретации, без воли в обращении с косой движения его тела сливаются с движениями крестьян. И в том и в другом случае – при восприятии настроения Кити и при вхождении в ряд косцов – Левин должен отбросить волю к интерпретации, к инференции, и просто принять то, что дано. Толстой, возможно, сигнализирует о том, что Левин начинает отказываться от скептической позиции, вытекающей из картезианской картины, тем, что воскрешает и заново оценивает «сцепление» образов – колеи, пути, рельсы («железные дороги»), – которые до сих пор использовались для метафоризации декартова разделения между разумом и миром:
Рассуждения приводили его в сомнения и мешали ему видеть, что должно и что не должно. Когда же он не думал, а жил, он не переставая чувствовал в душе своей присутствие непогрешимого судьи, решавшего, который из двух возможных поступков лучше и который хуже; и как только он поступал не так, как надо, он тотчас же чувствовал это. Так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живет на свете, и мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства, и вместе с тем твердо прокладывая свою особенную, определенную дорогу в жизни (19: 373).
7. Эти витгенштейнианские озарения дают повод к краткому переосмыслению «духовного кризиса» Толстого и того, как он изображен в автобиографическом тексте «Исповедь» (1881) – это значит, что его следует рассмотреть как частный случай более общего процесса, а именно описанных выше скептических сомнений по поводу правил и ролей и их осмысленности. Во вступительной главе «Исповеди» Толстой рассказывает о том, как человек утратил веру из-за того, что, задавая скептический вопрос, почему он все еще исполняет церковные обряды, он увидел, что «там, где он думал, что есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их» (23: 3)[86]86
Как указывалось выше, здесь видно воздействие шопенгауэровского пессимизма: «Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни?» [ПСС 23: 30].
[Закрыть].
И притом что Толстой предлагает богословское объяснение веры (вера придает бесконечный смысл конечному существованию человека), он также высказывает наблюдение касательно «бедных, простых, неученых людей» (народа), которое перекликается с мыслью Витгенштейна: «…суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий, – они были необходимым условием этой жизни» (23: 39). Толстой не может дать рационального обоснования ни этим верованиям, ни их взаимосвязи с жизнью этих людей, и именно это помогло ему «освободиться от соблазна праздного умствования» (23:43).
Это, по сути, все то же терапевтическое решение скептического вопроса, признающее, что сам вопрос бессмыслен. «Исповедь» завершается весьма «витгенштейнианской» задачей «смотреть и запомнить», рассмотреть каждую из церковных доктрин в отдельности и понять, действительно ли она лишена смысла[87]87
Справедливости ради следует отметить, что Толстой, похоже, не различает понятий unsinnig (бессмысленный) и sinnlos (лишенный смысла), как различает их Витгенштейн в «Трактате». Так, Толстой обнаруживает, что не в состоянии думать о бесконечных материях (материях, пребывающих вне времени и пространства, как, например, добро или ценность) изнутри пространственно-временного контекста конечного, научного мышления (основанного на причинности). Он заключает: «Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда, думая решать уравнение, решаешь тожество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ: а = а, или х = х, или 0 = 0. То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей наукой на этот вопрос, – только тожества» (23: 34).
Такие рассуждения в терминах «Трактата» считались бы sinnlos, так как представляют собой логические тавтологии: верно в своей пустоте, но бессодержательно (см. «Логико-философский трактат» 4.46П [Витгенштейн 1994, 1: 34]). Об этом см. [Thompson 1997: 112–113; Conant 1989: 242–283].
[Закрыть] или играет важную роль в личной и общественной жизни:
В слушании служб церковных я вникал в каждое слово и придавал им смысл, когда мог. В обедне самые важные слова для меня были: «возлюбим друг друга да единомыслием…» Дальнейшие слова: «исповедуем отца и сына и святого духа» – я пропускал, потому что не мог понять их.
Что в учении есть истина, это мне несомненно; но несомненно и то, что в нем есть ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я приступил к этому (23: 50, 57).
Итак, в этой главе я рассмотрел, как Левин справился со скептическим кризисом, который переживал во время написания романа его создатель; я также подчеркнул определенные «сцепления» между персонажами, сюжетными линиями и лексическими формами, выстроенные вокруг направлений мысли, предвосхищающих труды Витгенштейна. В частности, я выделил в романе феномен непроизвольного, непосредственного, нерассуждающего понимания – феномен, который, возможно, существенно помогает Левину примириться со своим скептицизмом. Этот феномен Толстой развил в свой единственный критерий определения «подлинного» искусства и способ привить потребителям «хорошего» искусства религиозно-этические ценности. Именно к этой замечательной эстетической теории мы сейчас и обратимся.
Глава 3
Экспрессивистская эстетическая теория. «Что такое искусство?»
Каждый большой художник захватывает, заражает нас; все, что в нас есть от тех чувств, которые в нем зазвучали, приходит в движение, а так как все мы имеем некоторое представление о великом и известную склонность к нему, то нам нетрудно вообразить, что тот же росток заложен и в нас самих.
Философия не может делать ничего другого, как уяснять и истолковывать существующее и возводить сущность мира, которая in concreto, т. е. в виде чувства, понятна всякому, – до отчетливого, абстрактного познания разума.
В предыдущей главе мы проследили, как Толстой в ходе своего «духовного кризиса» несколько непоследовательно развивал мысль о непосредственном, непроизвольном понимании, которая служила его реакцией на семантический скептицизм – реакцией, по сути, аналогичной ответу Левина на скептические сомнения в смысле жизни как таковом. В этой главе я обращаюсь к целостной эстетической теории, в которую Толстой развивает это направление мысли в трактате «Что такое искусство?»; на эту теорию он опирается в своих поздних произведениях. Эстетическую теорию Толстого можно назвать экспрессивистской, поскольку она предполагает, что произведение искусства передает свой смысл непосредственно, без необходимости интерпретации, то есть обоснования или логического оправдания. Таким образом «Что такое искусство?» в сфере эстетики представляет те же антикартезианские, антиинтерпретистские взгляды на непосредственное понимание, которые мы рассматривали в «Анне Карениной».
1. Переживая свой кризис, Толстой начал воспринимать прославившие его романы, например «Войну и мир», как «прекрасную ложь»[90]90
Ср. в письме А. А. Фету от 17/29 октября 1860 года: «Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь» (60: 358).
[Закрыть], и его последующие произведения демонстрируют радикальное изменение поэтики. В поздних произведениях – сказках для детей, притчах, пересказах библейских историй и житий святых, короче говоря, в литературе, которую принято называть дидактической, – Толстой избегает сюжетной, риторической и стилистической сложности в пользу минимальных выразительных средств, открыто демонстрируемого чувства и нравственного дидактизма. В повести-притче «Ходите в свете, пока есть свет» (1893) Толстой изобразил именно тот тип читательского опыта, который стремился сформировать своими произведениями позднего периода. Ведущий разгульную мирскую жизнь римлянин Юлий (действие происходит в I веке н. э.) читает раннехристианский катехизический текст «Учение двенадцати апостолов»[91]91
«Учение двенадцати апостолов» (полное название: «Учение Господа, преподанное народам через Двенадцать апостолов»), или «Дидахе», – памятник раннехристианской письменности, впервые изданный в 1883 году. – Примеч. пер.
[Закрыть], обширный отрывок из которого цитируется в повести. Непосредственно после цитаты рассказчик продолжает:
Еще далеко не дочтя рукопись до конца, с ним случилось то, что бывает с людьми, с искренним желанием истины читающими книгу, т. е. чужие мысли, случилось то, что он вступил душой в общение с тем, кто внушил их. Он читал, вперед угадывая то, что будет, и не только соглашаясь с мыслями книги, но как будто сам высказывая эти мысли. С ним случилось то обыкновенное, не замечаемое нами, но таинственнейшее и значительнейшее явление в жизни, состоящее в том, что так называемый живой человек становится истинно живым, когда вступает в общение, соединяется в одно с так называемыми умершими и живет с ними одною жизнью. Душа Юлия соединилась с тем, кто писал и внушил эти мысли, и после этого общения он оглянулся на себя, на свою жизнь. И сам он и вся его жизнь показалась ему одной ужасающей ошибкой (26: 281).
В этой «аллегории чтения» бросается в глаза то, чего в ней нет: мы видим, что в ней нет никакого интерпретирующего шага; нет необходимости вдумчиво размышлять над тем, что могут означать слова, предложения, сюжет; нет надобности обосновывать правильность одного прочтения в противовес другому. Здесь нет риска ошибки, неправильного толкования, потому что, по-видимому, нет умозрительной возможности расхождения как между психологическими состояниями автора и их внешним выражением в письменном тексте, так, в свою очередь, и между самим письменным текстом и пониманием его читателем. Таким образом, здесь полностью отсутствует тот самый разрыв между интенциональным значением и пониманием, который грозил бы перерасти в более радикальный скептицизм по отношению к значению как таковому. Подобное понимание эстетического опыта, которое Толстой будет развивать и отстаивать в трактате «Что такое искусство?», можно назвать экспрессивистским: согласно такому пониманию, произведение искусства выражает или проявляет свой смысл непосредственно и, если все идет как положено, сразу же понимается адресатом. То есть в неосложненных, стандартных случаях смысл не является чем-то отделимым и независимым, с чем текст не имеет неразрывной связи, служа, к примеру, посредником или иллюстрацией, – именно это позволило бы вбить скептический клин между авторской интенцией, текстом и интерпретацией.
Теория Толстого долгое время понималась как вариант теории искусства как выражения — традиции, возникшей в эпоху романтизма, в которой принцип выражения вытесняет принцип отображения[92]92
Классические труды на эту тему: [Abrams 1971] и [Taylor 1977, гл. 1]. Общее введение в теорию эстетического выражения содержится в [Townsend 1997: 79–91; Carroll 1999: 58-106; Ridley 2003: 211–227; Graham 2005: 31–51].
[Закрыть]. Эту теорию обычно связывают с философией искусства, разработанной Р. К. Коллингвудом, К. Дж. Дюкассом, Дж. Дьюи и другими. Главное положение этой теории состоит в том, что произведение искусства следует понимать как выражение психологического состояния – обычно (но не обязательно) это состояние автора произведения. Психологическое состояние может быть когнитивным (например, убеждение или концепция, в традиционной терминологии – «идея») или некогнитивным (чувство, настроение, эмоция и т. д.), а средства выражения могут быть непрямыми и, следовательно, требовать интерпретации (например, метафора, символ, образ или другой троп или риторический прием). Таким образом, с этой точки зрения экспрессивизм Толстого можно рассматривать как самостоятельный вид родовой теории искусства как выражения, поскольку его концепция, безусловно, подразумевает, что психологическое состояние, выражаемое произведением искусства, – это эмоция и что выражение должно быть непосредственным, следовательно не требующим интерпретации в качестве обоснования[93]93
Здесь важно отметить, что моя характеристика экспрессивизма отличается от семиотического разъяснения значения понятия «естественный» у Толстого, которое дает К. Поморска: «Это неопосредованное, интуитивное познание и поведение, способность, которой каждый человек, который не испорчен правилами и обучением, наделен от рождения. Или… это особый способ обучения, сравнимый с изучением родного языка: процесс, основанный не на правилах, а на памяти, при котором человек запоминает ряд «текстов» в их многочисленных применениях» [Pomorska 1982: 383]. Хотя экспрессивизм и предполагает непосредственное (неинференциальное) понимание, это понимание не обязательно инстинктивно или интуитивно, в противовес выученному или приобретенному. Как будет показано в главе 8, подлинные эмоции могут выражаться как «естественными», так и «конвенциональными» знаками – если это не так, то большинство произведений искусства в силу своей условности не могут выражать эмоции. Представляется, что Толстой в «Что такое искусство?» время от времени становится на эту точку зрения, но я полагаю, что она неверна. Кроме того, Поморска [Pomorska 1982: 385] связывает естественную коммуникацию (как не основанную на приобретенном знании) с иконическим, а не индексальным означиванием (согласно классификации знаков Пирса), но иконическое означивание, основанное на сходстве, отличается от экспрессивизма как прямой демонстрации смыслового содержания.
[Закрыть]. В главе 8 мы вернемся к этой теме и рассмотрим, как можно было бы оправдать эстетический экспрессивизм Толстого, должным образом модифицированный в свете аргументации этой книги, так, чтобы он мог представлять собой жизнеспособную теорию искусства как выражения. Но на данный момент все, к чему сводится мой личный экспрессивизм, – это утверждение, что существует способ понимания знаков, при котором знак непосредственно проявляет свое смысловое содержание, без необходимости прибегать к акту интерпретации – акту, в ходе которого ищется причина, основание или оправдание для того, чтобы считать, что знак имеет именно то смысловое содержание, которое он имеет. В основе поэтики поздних повестей Толстого лежит событие общения – понятие, к которому я вернусь позже, – позволяющее передавать мысли и чувства, не отягощенные искусственностью и не сбивающие с толку красотой; трактат «Что такое искусство?» служит их теоретическим обоснованием. В этом труде все европейские эстетические теории, сосредоточенные вокруг идеи искусства как изображения или проявления прекрасного, отвергаются в пользу экспрессивистского объяснения искусства как эмоционального воздействия.
Некоторые апологеты Толстого заявляют, что его трактат «отвергает всю традицию западной мысли о литературе и искусстве»; однако можно предположить, что подобное суждение подспудно сводит западную эстетику – или даже всю эстетику как таковую – к теориям прекрасного, игнорируя альтернативные (и тоже западные) традиции, существующие внутри эстетики прекрасного либо противостоящие ей[94]94
См. [Morson 1987: 37]. Р. Шилбайорис, посвятивший целую книгу исследованию поэтики Толстого, идет еще дальше, утверждая, что «Что такое искусство?» следует прочитывать как «отход от всех общепринятых стандартов и концепций искусства, пронесенных через всю историю человечества приливной волной цивилизации», и «от всего гигантского здания эстетики, которое возводилось на протяжении долгих веков» [Silbajoris 1990: 263].
[Закрыть]. Одна из таких альтернативных традиций зиждется на понятии, введенном Лонгином[95]95
Речь идет об анонимном греческом писателе I–III веков, авторе эстетического трактата «О возвышенном», который долгое время приписывался ритору III века Кассию Лонгину; в русской традиции этого автора принято именовать Псевдо-Лонгином. – Примеч. пер.
[Закрыть], – «возвышенное»[96]96
Густафсон, говоря о понимании Толстым подлинного эстетического опыта как «экстатического» с точки зрения православного богословия, возможно, сам того не ведая, опирается на Лонгина, который в начале трактата «О возвышенном» предупреждает, что «цель возвышенного – не убеждать слушателей, а привести их в состояние восторга (в оригинале – екотаок;)» (1.4) [О возвышенном 1964:6]. Густафсон восхищается у Толстого использованием гипербата (перестановка слов, род инверсии – Примеч. пер.) в косвенной речи для вовлечения читателя в мысли и восприятие персонажа; точно так же Лонгин превозносит гипербат как подражание «естественному состоянию», имитацию спонтанной речи и мысли (22.1–4) [Там же: 44–46]. С другой стороны, Э. Манделкер [Mandelker 46–80] пытается прочитать «Что такое искусство?» как вариант кантовской концепции возвышенного; но это, на мой взгляд, мало что объясняет: хотя понятия мощи, экспрессии и эффекта / аффекта, ключевые для Лонгина и Э. Берка с его концепцией естественности переживания возвышенного, играют свою роль и у Канта, для последнего переживание возвышенного рефлективно раскрывает познавательные аспекты субъективного и отношение субъекта к норме (сверхчувственное), тогда как для Лонгина и для Толстого воздействие возвышенного – это прежде всего страсть и общение.
[Закрыть]. Согласно Лонгину, возвышенное создается «поверганием в трепет» (δεινός), а не усложненным стилем или образностью; он порицает Эсхила за «неожиданные обороты», которые «затуманили все», за «смелые образы», которые «нарушили только привычный порядок вместо того, чтобы вселять ужас и повергать в трепет» (3.1) [О возвышенном 1966: 8]. Далее Лонгин называет неотъемлемым признаком возвышенного «сильный и вдохновенный пафос» (8.1; ср. 12.5) [Там же: 16,28], воодушевляющий как оратора, так и слушателей. Наконец, в то время как риторика нацелена на убеждение и яркое описание (1.4, 15.2) [Там же: 6, 31], возвышенное стремится «потрясти» (ἐκπλάσσω) (12.5, 15.2) [Там же: 31] слушателей: потенциально тревожащее воздействие, присутствие которого у Толстого мы рассмотрим в главе 5. Лонгиновские элементы, включая «беспокойство», «страсть», «порыв души и всеобщее движение (20.2) [Там же: 43] и общее экстатическое воздействие искусства, согласуются и с толстовской, несомненно, стилистически более скромной теорией эстетического переживания. И что не менее важно, эти элементы вернулись в эстетические теории, созданные после Толстого и в равной степени отвергающие понятия красоты, изобразительности и интерпретации, – теории, происхождение которых возводится – особенно их противниками – к «ницшеанству» или «дионисизму»; см., например, [Хабермас 2003: 93-116]. Примером может служить и провозглашение Ж.-Ф. Лиотаром «сообщаемого либидо» искусства, его способности высвобождать эротическое желание вопреки любым неверно понимаемым ожиданиям, что искусство должно «передавать смысл того, по отношению к чему занимает позицию отсутствия» [Lyotard 1973: 266]; см. также [Лиотар 1997]; еще один пример – программная мысль С. Сонтаг: «Вместо герменевтики нам нужна эротика искусства» [Сонтаг 2014: 24]. Толстой пытается сдерживать подобную склонность к тому, что я называю «ницшеанской угрозой» в его эстетике. К этой опасности я обращусь в следующей главе, когда мы составим себе более четкое представление о толстовской экспрессивистской эстетической теории, так как взгляды Толстого, хотя и включают вышеперечисленные элементы лонгиновского «возвышенного», расходятся с этой традицией в том, что определяют общественное воздействие искусства не великими мыслями, а универсальным чувством общности, внедренным в повседневную жизнь: ведь для Толстого «хорошее искусство» есть «одно из условий человеческой жизни» (30:62)[97]97
Далее при цитировании в этой главе трактата «Что такое искусство?» указываются номера страниц в скобках.
[Закрыть], дарующее «духовную пищу» (30:167) по точной аналогии с физической пищей, питающей организм[98]98
Понимание искусства как духовной пищи проходит через весь трактат (см., напр.,61, 108, 191).
[Закрыть]. Это духовное питание воплощается в искусстве двух видов:
1) искусство, передающее чувства, вытекающие из религиозного сознания положения человека в мире, по отношению к богу и ближнему, – искусство религиозное, и 2) искусство, передающее самые простые житейские чувства, такие, которые доступны всем людям всего мира, – искусство всемирное (30: 159).
Таким образом, Толстой придерживается принятого в XVIII веке разграничения между мыслью и чувством, в чем находит поддержку у двух наиболее сильно повлиявших на него философов – Ж.-Ж. Руссо и А. Шопенгауэра: в представлении Толстого наука передает мысли, а искусство – чувства; наука объединяет людей посредством рационального дискурса, а искусство – посредством переживаемого (аффективного) чувства.
2. Толстой излагает положительную, нормативную часть своей теории подлинного искусства в два последовательных этапа[99]99
Первые главы трактата содержат полемику с предшествующими эстетическими теориями, основанными на идеях прекрасного или эстетического наслаждения, и здесь непосредственно не рассматриваются.
[Закрыть]. Первый этап – определение воздействия искусства как передачи чувства от автора к адресату, посредством которой они объединяются. Организующим понятием для обозначения воздействия искусства как одного из «средств общения людей между собой» (30: 63) является «заражение», которое Толстой паронимически обыгрывает с помощью слова «изображение». Он утверждает:
Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, – в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их (30: 65) (курсив Л. Т.).
Думаю, нас может несколько удивить, что метафора «заражения» присутствует в тексте, написанном в эпоху свирепствования чахотки, и к тому же автором, у которого эта болезнь отняла двоих из троих его братьев[100]100
Младший брат Толстого Дмитрий умер от чахотки 21 января 1866 года – это переживание послужило основой для эпизода «Анны Карениной», где Левин навещает умирающего брата. Старший брат Толстого Николай умер от чахотки 20 сентября 1860 года в Йере на юге Франции. См. [Wilson 1988:132–135, 156–157].
[Закрыть] [Wilson 1988: 132–135, 156–157]. Более того, это слово могло предполагать и венерическое заболевание: А. Н. Уилсон отмечает, что отец Толстого, возможно, умер от сифилиса, в то время как сам Толстой в свои студенческие годы в Казани «три года спал с проститутками и заразился гонореей» [Wilson 1988: 44] (я вернусь к этому моменту в главе 5). Метафорическое использование Толстым слова «заражение» до кризиса включало лишь привычные отрицательные коннотации. Например, в 1863 году Толстой внес свой вклад в ожесточенную полемику между либеральными «людьми сороковых годов» (И. А. Тургенев, А. И. Герцен и др.) и радикальными шестидесятниками (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и др.), разгоревшуюся после публикации романа Тургенева «Отцы и дети» (1862): написал пьесу «Зараженное семейство», в которой, как и в романе Тургенева, изображался конфликт между поколениями, вспыхнувший в результате «заразы», проникшей в семью через чужого человека, высказывающего идеи, сходные с идеями героев радикального романа Чернышевского «Что делать?».
Но вернемся к трактату: мы видим, что определение Толстого явно прагматично; см. [Shusterman 2000]: критерий подлинного искусства – заражение чувством, поэтому все то, что фактически доказывает свою способность заражать чувством – о чем мы подробно поговорим ниже, – тем самым уже квалифицируется как подлинное произведение искусства. Толстой не уклоняется от вывода, что предметы, которые традиционно не считаются произведениями искусства, но которые создала «деятельность человеческая, посредством которой одни люди передают другим свои чувства» (30: 141), теперь будут считаться произведениями искусства:
Вся жизнь человеческая наполнена произведениями искусства всякого рода, от колыбельной песни, шутки, передразнивания, украшений жилищ, одежд, утвари до церковных служб, торжественных шествий. Всё это деятельность искусства (30: 67)[101]101
См. также с. 163 (где в этот перечень включены «куклы фарфоровые») и с. 183: «та огромная область народного детского искусства: шутки, пословицы, загадки, песни, пляски, детские забавы, подражания…»
[Закрыть].
Толстой перечисляет следующие свойства искусства, которые должны послужить объяснением его заразительности: цельность, органичность, «чтобы форма и содержание составляли одно неразрывное целое» (30: 16); искренность художника (иногда Толстой говорит об «истинном произведении» или «истинном искусстве»)[102]102
См. гл. XV (148–151). К. Эмерсон отмечает, что «искренность» происходит от слова «искра», «то, что вспыхивает на мгновение и либо разгорается, либо гаснет. Художественный эффект либо захватывает, либо не способен захватить» [Emerson 2002: 244]. И Толстой уподобляет действие подлинного искусства действию искры: «Бывает, что люди, находясь вместе, если не враждебны, то чужды друг другу по своим настроениям и чувствам, и вдруг или рассказ, или представление, или картина, даже здание и чаще всего музыка, как электрической искрой, соединяет всех этих людей, и все эти люди, вместо прежней разрозненности, часто даже враждебности, чувствуют единение и любовь друг к другу» (30: 158).
[Закрыть], особенность чувства и ясность его передачи и т. д. Произведения, в высшей степени обладающие этими свойствами, будут лучше всего соответствовать критерию всеобщей заразительности, которая уподобляется, как в «Анне Карениной», заразительному смеху, слезам и зевоте: «Слезы, смех китайца заразят меня точно так же, как смех, слезы русского, точно так же и живопись, и музыка, и поэтическое произведение, если оно переведено на понятный мне язык» (30:109). Собственно, здесь Толстой как бы утверждает, что универсальность заразительности есть не только необходимое, но и достаточное условие подлинного искусства: «Великие предметы искусства только потому и велики, что они доступны и понятны всем» (Там же).
Примеры действенного, заразительного искусства, которые называет Толстой, часто несколько злорадно сопоставляя их с известными, но, по его критериям, неудачными произведениями Бетховена, Бальзака, Гюисманса, Ибсена и других, могут вызвать определенные вопросы. Примеры Толстого таковы: 1) свадебная песня, которую поют крестьянки и которая выводит его из подавленного состояния духа[103]103
Эта сцена перекликается с более ранним похожим эпизодом в «Анне Карениной», где пребывающего в подавленном настроении Левина не заражает пение баб: «Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотелось принять участие в выражении этой радости жизни. Но он ничего не мог сделать и должен был лежать и смотреть и слушать. Когда народ с песнью скрылся из вида и слуха, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою телесную праздность, за свою враждебность к этому миру охватило Левина» (18: 290).
[Закрыть]; 2) напечатанный в детском журнале рассказ неизвестного писателя о любви матери к своим детям, завершающийся назидательной поговоркой; 3) жанровая картина английского художника Уолтера Лэнгли, «изображающая прохожего нищего мальчика, которого, очевидно, зазвала пожалевшая его хозяйка»; и 4) шаманское театрализованное представление у вогулов, сибирского народа охотников-собирателей, где охотник ранит стрелой олененка, тот, ища защиты, жмется к матери, охотник же готовится выстрелить снова – при этом «в публике слышатся тяжелые вздохи и даже плач» (30:144–147)[104]104
В первом приближении эти примеры иллюстрируют или вызывают следующие эмоции: (1) радость, веселье; (2) материнская поддержка; (3) жалость или сострадание; (4) любовь ребенка к матери, а затем печаль.
[Закрыть]. Определенные «технические» вопросы напрашиваются сами собой. Толстой неоднократно утверждает, что передается именно чувство художника[105]105
Например: «Как только зрители, слушатели заражаются тем же чувством, которое испытывал сочинитель, это и есть искусство» (65).
[Закрыть]; но, возможно, в первом и четвертом примерах произведение было создано более чем одним автором, то есть в процессе сочинения участвовало несколько людей или даже поколений. Это говорит о том, что причиной возникновения произведения искусства не обязательно служит одно-единственное чувство, одно психическое состояние, – скорее, передаваемое чувство само может быть продуктом, а не производителем произведения искусства. В недавних работах по теории искусства как выражения в качестве решения этой проблемы выдвигалось понятие «авторской маски» (persona), которую и демонстрируют экспрессивные качества произведения искусства, так что именно эта «маска», а не обязательно фактический художник (если он существует) является носителем психического состояния, выраженного произведением искусства[106]106
Эту концепцию «маски» в теории выражения поддерживали такие теоретики искусства, как Б. Вермейзен, Дж. Левинсон и Дж. Робинсон; подробно она разбирается в главе 8.
[Закрыть].
Теория Толстого поддается также анализу с иной точки зрения, учитывая, что все примеры иллюстрируют определенный гендерный характер отношений: это отношения между матерью и ребенком. Так, песня баб прославляет предстоящую свадьбу и рождение новой семьи, в то время как три остальных примера открыто изображают материнскую фигуру, заботящуюся о ребенке. Образы материнского покровительства и заботы примыкают к цепи аналогий между искусством и пищей, отмеченных ранее. В этих примерах mise-en-abime[107]107
Mise-en-abime (фр.) – прием бесконечной рекурсии, отражение фигуры внутри самой себя. – Примеч. пер.
[Закрыть] отдельные произведения искусства уже сами по себе изображают ту общую роль, которую Толстой отводит подлинному искусству, исходя из того, что представители высших классов, потерявшие способность заражаться произведениями искусства, «живут без смягчающего, удобряющего действия искусства» (30: 168). Эта цепь образов достигает кульминации в развернутом, «гомеровском» сравнении в главе XVIII, где истинное искусство сравнивается с плодовитой женой и матерью, в то время как поддельное искусство влечет за собой «развращение человека, ненасытность удовольствий, ослабление духовных сил человека» (30: 179). К подробному рассмотрению этого сравнения я вернусь в главе 5.
Эти примеры тем более проблематичны, что на этой стадии изложения своей теории, которую я назвал первым этапом, Толстой прямо отрицает, что содержание передаваемого чувства имеет какое-либо отношение к заразительности как критерию подлинного искусства. В своем первоначальном определении искусства он пишет: «Чувства, самые разнообразные, очень сильные и очень слабые, очень значительные и очень ничтожные, очень дурные и очень хорошие, если только они заражают читателя, зрителя, слушателя, составляют предмет искусства» (30:65). И по мере приближения к концу первого этапа своего изложения он неоднократно провозглашает свойством истинного искусства то, что можно назвать индифферентизмом в отношении содержания:
Чем сильнее заражение, тем лучше искусство, как искусство, не говоря о его содержании, т. е. независимо от достоинства тех чувств, которые оно передает (30: 149)[108]108
Курсив Толстого. К. Эмерсон оспаривает утверждение, которое, как представляется, делает Толстой: что от художника аудитории передается определенная эмоция. Она цитирует отрывок из книги «Что такое искусство?»: «А так как каждый человек не похож на другого, то и чувство это будет особенно для всякого другого и тем особеннее, чем глубже зачерпнет художник, чем оно будет задушевнее, искреннее» (150). Он, по ее мнению, подтверждает ее тезис, что «искусство уничтожает разобщенность, но подчеркивает индивидуальность, и “первичная ценность”, которую “улавливает” реципиент, – это искренность» [Emerson 2002]. Но это вводит в заблуждение. Искренность – это склонность или черта, которой обладает человек, и, вероятно, она представляет собой отношение (человек Р искренен в выражении Е чего-то F), в то время как эмоция не имеет подобной логической структуры. Согласно моему прочтению, речь в цитированном выше отрывке идет о конкретизации чувства: Толстой допускает, что передаваемое чувство может быть конкретизировано каждым человеком более тонко или грубо. Например, один может различать между сожалением и раскаянием, в то время как другой – нет: для первого человека передаваемое чувство было бы более конкретным, чем для второго, но из этого не следует, что то, что передается, является просто «искренностью».
[Закрыть].
Таковы три условия [ясность, особенность чувства, искренность], присутствие которых отделяет искусство от подделок под него и вместе с тем определяет достоинство всякого произведения искусства независимо от его содержания (30:150)[109]109
Ср.: «Так отделяется искусство от неискусства и определяется достоинство искусства, как искусства, независимо от его содержания, т. е. независимо от того, передает ли оно хорошие или дурные чувства» (151).
[Закрыть].
Ясно, что произведения искусства, передающие чувства страдания, ужаса, отвращения, убийственной ярости (скажем, матрицид или инфантицид) и т. д., могут быть классифицированы как подлинные произведения искусства так же легко, как образчики жалости, радости и материнской помощи. Критерий подлинного искусства для Толстого лежит категорически вне морали.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































