Текст книги "Пан Володыёвский"
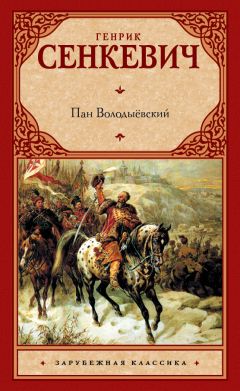
Автор книги: Генрик Сенкевич
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 37 страниц)
Глава XXIV
Меллехович понемногу поправлялся, но в набегах еще не участвовал и сидел запершись в горнице, поэтому о нем и думать забыли, пока не случилось неожиданное происшествие, привлекшее к нему всеобщее внимание.
Однажды мотовиловские казаки схватили показавшегося им подозрительным татарина, который вертелся вблизи заставы, что-то разнюхивая, и привели его в Хрептёв.
Пленник был безотлагательно допрошен; оказалось, что это один из тех литовских татар, которые недавно, бросив службу в Речи Посполитой и свои жилища, переметнулись к султану. Пришел он с другого берега Днестра и имел при себе письмо от Крычинского к Меллеховичу.
Володыёвский сильно обеспокоился и немедля созвал старших офицеров на совет.
– Милостивые государи, – сказал он, – вам хорошо известно, как много татар, даже из числа тех, что с незапамятных времен жили на Литве и здесь, на Руси, ушли в орду, изменой отплатив Речи Посполитой за ее благодеяния. Посему призываю вас впредь никому из них особо не доверять и зорко за действиями каждого следить. Здесь у нас тоже есть небольшая татарская хоругвь в сто пятьдесят добрых коней под командою Меллеховича. Меллехович этот мне самому с недавних пор знаком, могу лишь сказать, что гетман за исключительные заслуги произвел его в сотники и с отрядом прислал сюда. Правда, мне показалось странным, что никто из вас этого татарина прежде, до его поступления на службу, не знал и ничего даже о нем не слышал… А что наши татары безмерно молодца этого любят и слепо слушаются, я себе объяснял его отвагою и славными подвигами; впрочем, и те, похоже, не знают, кто он и откуда. До сих пор я его ни в чем дурном не подозревал и ни о чем не расспрашивал, удовлетворясь гетманской рекомендацией, хотя какой-то тайной он себя окружает. Впрочем, всяк на свой лад живет, я никому в душу не лезу, по мне, лишь бы солдат службу исправно нес. Но вот люди пана Мотовило схватили татарина, который привез Меллеховичу письмо от Крычинского. Не знаю, известно ли вашим милостям, кто такой Крычинский?
– А как же! – сказал Ненашинец. – Крычинского я самого знавал, а теперь и другие знают: дурная слава далеко бежит.
– Мы вместе грамоте… – начал было Заглоба, но сразу осекся, сообразив, что в таком случае Крычинскому должно бы быть лет девяносто, а в столь преклонном возрасте вряд ли кто станет воевать.
– Короче говоря, – продолжал маленький рыцарь, – Крычинский, польский татарин, был у нас полковником, командовал хоругвью липеков, но потом изменил отечеству и перешел в добруджскую орду, где, как я слыхал, с ним весьма считаются, надеясь, видно, через него и остальных липеков на свою сторону перетянуть. И с таким человеком Меллехович вступает в тайные сношения! А наилучшее тому доказательство – вот это письмо.
Тут маленький полковник развернул исписанные листки, расправил их ударом ладони и начал читать:
– «Любезный моему сердцу брат! Посланец твой добрался до нас и письмо передал…»
– По-польски пишет! – перебил его Заглоба.
– Крычинский, как и все наши татары, только по-русински и по-польски писать умел, – ответил маленький рыцарь, – да и Меллехович тоже, верно, в татарской грамоте не силен. Слушайте, любезные судари, и не перебивайте, «…и письмо передал, Божьей милостью все будет хорошо, и ты желанной цели достигнешь. Мы здесь с Моравским, Александровичем, Тарасовским и Грохольским часто совещаемся и у других братьев в письмах совета спрашиваем, как поскорей исполнить то, что ты, дорогой, замыслил. А поскольку до нас дошел слух, будто ты занемог, посылаю человека, чтобы он тебя, дорогой, своими глазами увидел и принес нам утешительную весть. Тайну храни строжайше – упаси Бог, раньше времени откроется. Да умножит Господь твой род, да сравнит его численность с числом звезд на небе.
Крычинский».
Володыёвский кончил читать и обвел взглядом собравшихся, а так как все молчали, видимо, напряженно обдумывая содержание письма, сказал:
– Тарасовский, Моравский, Грохольский и Александрович – все бывшие татарские ротмистры и изменники.
– Равно как Потужинский, Творовский и Адурович, – добавил Снитко.
_ Что скажете о письме, судари?
– Измена налицо, тут и думать нечего, – сказал Мушальский. – Ротмистры эти хотят наших татар на свою сторону переманить, вот и снюхались с Меллеховичем, а он согласился им помочь.
– Господи! Да это же periculum[82]82
опасность (лат.).
[Закрыть] для гарнизона, – воскликнуло несколько голосов сразу. – Липеки душу за Меллеховича готовы продать; прикажи он – сегодня же ночью нас перережут.
– Подлейшая измена! – вскричал Дейма.
– И сам гетман этого Меллеховича сотником назначил! – вздохнул Мушальский.
– Пан Снитко, – отозвался Заглоба, – что я тебе сказал, когда Меллеховича увидел? Говорил, это вероотступник и предатель? По глазам видно… Ха! Я его с первого взгляда раскусил. Меня не проведешь! Повтори, сударь, пан Снитко, мои слова, ничего не переиначивая. Сказал я, что он изменник?
Пан Снитко спрятал ноги под скамью и опустил голову.
– Проницательность вашей милости поистине достойна восхищения, хотя, по правде говоря, я не припомню, чтобы ваша милость его изменником назвал. Вы только, сударь, сказали, что он глядит волком.
– Ха! Стало быть, досточтимый сударь, ты утверждаешь, что пес – изменник, а волк – нет, что волк не укусит руки, которая его гладит и кормит? Пес, значит, изменник? Может, твоя милость еще и Меллеховича под защиту возьмет, а нас всех объявит предателями?..
Посрамленный пан Снитко широко разинул рот, выпучил глаза и от изумления долго не мог произнести ни слова.
Между тем Мушальский, имевший привычку быстро принимать решения, сказал не задумываясь:
– Прежде всего надлежит возблагодарить Господа за то, что позорный сговор раскрыт, а затем отрядить шестерых драгун – и пулю в лоб предателю!
– А потом другого сотника назначить, – добавил Ненашинец.
– Измена столь очевидна, что ошибки бояться нечего.
На что Володыёвский сказал:
– Сперва надобно Меллеховича допросить, а потом сообщить об этом сговоре гетману: как мне говорил пан Богуш из Зембиц, коронный маршал к литовским татарам питает большую слабость.
– Но ведь ваша милость, – сказал, обращаясь к пану Михалу, Мотовило, – имеет полное право сам над Меллеховичем суд вершить, он ведь к рыцарству никогда не принадлежал.
– Я свои права знаю, – ответил Володыёвский, – и в твоих, сударь, подсказках не нуждаюсь.
Тут другие закричали:
– Подать сюда сукиного сына, пусть нам ответит, изменник, вероломец!
Громкие возгласы разбудили Заглобу, который было задремал, что с ним последнее время часто случалось; быстро припомнив, о чем шла речь, он сказал:
– Да, пан Снитко, блеску от ущербного месяца в твоем гербе немного, но и умом ты не блещешь. Сказать, что пес, canis fidelis[83]83
верный пес (лат.).
[Закрыть], изменник, а волк – нет! Ну, дражайший! Совсем, сударь-батюшка, сдурел!
Пан Снитко возвел очи к небу в знак того, что страдает безвинно, но промолчал, не желая раздражать старика пререканиями, а тут Володыёвский велел ему сходить за Меллеховичем, и он поспешил исполнить приказание, обрадовавшись возможности улизнуть.
Минуту спустя Снитко вернулся, ведя молодого татарина, который, видно, еще ничего не знал о поимке лазутчика и потому вошел смело. Красивое смуглое его лицо было очень бледно, но он совсем оправился и даже голову больше не обматывал платками, а носил, не снимая, красную бархатную тюбетейку.
Все так и впились в него глазами, он же, довольно низко поклонясь маленькому рыцарю, прочим кивнул весьма небрежно.
– Меллехович! – сказал Володыёвский, уставив на него свой пронзительный взор. – Ты знаешь полковника Крычинского?
По лицу Меллеховича промелькнула быстро грозная тень.
– Знаю! – ответил он.
– Читай! – сказал маленький рыцарь, подавая ему найденное при пленнике письмо.
– Приказывайте, я жду, – промолвил татарин, возвращая письмо.
– Как давно ты замыслил измену и каких имеешь в Хрептёве сообщников?
– Я обвинен в измене?
– Отвечай, а не задавай вопросы! – сурово сказал маленький рыцарь.
– Что ж, тогда мой respons[84]84
Искаж. responsio – ответ (лат.).
[Закрыть] будет таков: измены я не замышлял, сообщников не имею, а если и имел, то таких, которых не вам судить.
Услышав это, воины заскрежетали зубами, и тотчас несколько голосов произнесло с угрозой:
– Почтительней, сукин сын, почтительней! Не забывай: ты нам не ровня!
В ответ Меллехович смерил говоривших взглядом, в которой сверкнула холодная ненависть.
– Я знаю свой долг перед паном комендантом, моим начальником, – сказал он, снова поклонившись Володыёвскому, – знаю и то, что всех здесь худородней, и потому вашего общества не ищу; твоя милость (тут он опять обратился к маленькому рыцарю) про сообщников спрашивал – у меня их двое: один – пан подстолий новогрудский, Богуш, а второй – великий коронный гетман.
Эти слова всех повергли в изумление, и на минуту воцарилось молчание; наконец Володыёвский, шевельнув усиками, спросил:
– Это как?
– А вот так, – ответил Меллехович. – Крычинский, Моравский, Творовский, Александрович и другие в самом деле на сторону орды перешли и много уже зла причинили отечеству, но счастья на новой службе не обрели. А может, совесть в них пробудилась; короче, и служба эта, и слава изменников им не по нутру. Пан гетман хорошо об этом знает, он и поручил пану Богушу с паном Мыслишевским перетянуть их обратно под знамена Речи Посполитой, а пан Богуш ко мне обратился и приказал договориться с Крычинским. У меня на квартире письма от пана Богуша лежат: могу хоть сейчас представить – им ваша милость скорее, чем моим словам, поверит.
– Ступай с паном Снитко и немедля принеси сюда эти письма.
Меллехович вышел.
– Любезные судари, – торопливо проговорил маленький рыцарь, – боюсь, поспешным обвинением мы тяжко оскорбили честного воина. Ежели у него имеются эти письма и все, сказанное им, правда – а я склонен думать, что это так, – тогда он не только рыцарь, прославившийся ратными подвигами, но и верный слуга отечества, и не хула ему причитается, а награда. Черт побери! Надо поскорей ошибку исправить!
Остальные сидели молча, не зная, что сказать, Заглоба же закрыл глаза, на этот раз притворившись, будто дремлет.
Между тем вернулся Меллехович и подал Володыёвскому письма Богуша.
Маленький рыцарь начал читать. И вот что он прочел:
– «Со всех сторон слышу я, что никто более тебя в этом деле полезен быть не может по причине необычайной любви, каковую они к тебе питают. Пан гетман готов их простить и добиться прощения Речи Посполитой обещает. С Крычинским сносись как можно чаще через верных людей и praemium ему посули. Тайну храни строжайше, иначе, не дай Бог, всех их погубишь. Одному пану Володыёвскому можешь открыть arcana, поскольку он твой начальник и много в чем поспособствовать сумеет. Трудов и стараний не жалей, памятуя, что finis coronat opus[85]85
конец – делу венец (лат.).
[Закрыть], и будь уверен, что за добрые дела твои матерь наша тебя заслуженной наградит любовью».
– Вот, получил награду! – угрюмо пробормотал татарин.
– Боже правый! Почему же ты никому слова не сказал? – вскричал Володыёвский.
– Я хотел вашей милости все рассказать, да не успел – занедужил после ушиба; а прочим, – тут Меллехович повернулся к офицерам, – мне не велено было открываться. Ваша милость, надо полагать, теперь остальным тоже молчать прикажет, чтоб на тех не навлечь беды.
– Доказательства твоей невиновности неоспоримы – это и младенцу ясно, – сказал маленький рыцарь. – Продолжай свои переговоры с Крычинским. Никто тебе помех чинить не станет, напротив, получишь помощь – вот моя рука, ты благородный рыцарь. Приходи сегодня ко мне ужинать.
Меллехович пожал протянутую руку и в третий раз поклонился. Прочие офицеры, выйдя из своих углов, обступили его и заговорили наперебой:
– Мы в тебе ошибались, но теперь всякий рад твою руку пожать – ты этого достоин.
Однако молодой татарин вдруг выпрямился и откинул назад голову, словно хищная птица, приготовившаяся нанести удар клювом.
– Я не забыл, что вам не ровня, – молвил он.
И вышел из горницы.
После его ухода сразу поднялся гомон. «Нечему удивляться, – говорили меж собой офицеры, – шутка ли – такое обвинение! Ну ничего, покипятится да перестанет. А нам нужно отношение к нему изменить. Душа-то у него поистине рыцарская! Гетман знал, что делал! Чудеса, однако же, чудеса!..»
Снитко втайне торжествовал; в конце концов, не удержавшись, он подошел к Заглобе и сказал с поклоном:
– Прости, сударь, но волк-то наш не изменник…
– Не изменник? – переспросил Заглоба. – Изменник, только благородный, поскольку не нас предает, а ордынцев… Не теряй надежды, любезный пан Снитко, я буду каждодневно за тебя молиться: авось Святой Дух сжалится и дозволит твоей милости блеснуть остротой ума!
Бася, когда Заглоба в подробностях ей обо всем рассказал, страшно обрадовалась; Меллехович с самого начала пришелся ей по душе, и она желала ему всяческого добра.
– Нужно, – сказала она, – нам с Михалом в первую же опасную экспедицию его с собой взять, – это и будет лучший способ выказать ему доверие.
Но маленький рыцарь, погладив розовую Басину щечку, ответил:
– А муха докучливая все про свое жужжит! Знаем мы тебя! Не о Меллеховиче ты печешься и не способа оказать ему доверие ищешь – тебе бы в степь полететь, да прямо в сечу! Не выйдет…
И, сказавши так, поцеловал жену в уста.
– Mulier insidiosa est![86]86
Женщина – существо коварное! (лат.)
[Закрыть] – многозначительно изрек Заглоба.
В это самое время Меллехович сидел с посланцем Крычинского у себя на квартире и вполголоса с ним беседовал. Сидели они так близко друг к другу, что чуть не стукались лбами. На столе горел каганец с бараньим жиром, отбрасывая желтые блики на лицо Меллеховича, которое, несмотря на всю свою красоту, было поистине страшно: такая на нем рисовалась злоба, жестокость и дикая радость.
– Слушай, Халим! – прошептал Меллехович.
– Эфенди, – ответил посланец.
– Скажи Крычинскому, что он умная голова: не написал в письме ничего такого, что бы могло меня погубить. Умная голова, скажи. И впредь пусть ничего прямо не пишет… Теперь они мне еще больше доверять станут… Сам гетман, Богуш, Мыслишевский, здешние офицеры – все! Слышишь? Чтоб они от моровой передохли!
– Слышу, эфенди.
– Но сперва мне в Рашкове надо побывать, а потом снова сюда вернусь.
– Эфенди, молодой Нововейский тебя узнает.
– Не узнает. Он меня уже под Кальником видел, под Брацлавом – и не узнал. Глядит в упор, брови супит, а вспомнить не может. Ему пятнадцать лет было, когда он из дому сбежал. С той поры зима восемь раз покрывала степи снегом. Изменился я. Старик бы меня узнал, а молодой не узнает… Из Рашкова я тебе дам знать. Пусть Крычинский будет готов и держится поблизости. С пыркалабами непременно войдите в согласие. В Ямполе тоже наша хоругвь есть. Богуша я уговорю, чтоб добился у гетмана для меня перевода в Рашков, – оттуда, скажу, проще с Крычинским сноситься. Но сюда я должен вернуться… должен!.. Не знаю, что будет, как дальше пойдет… Огонь меня сжигает, ночью глаз не могу сомкнуть… Если б не она, я бы умер…
– Благословенны руки ее.
Губы Меллеховича задрожали, и, вплотную приблизившись к гостю, он принялся шептать, словно в лихорадке:
– Халим! Благословенны ее руки, благословенна голова, благословенна земля, по которой она ступает, слышишь, Халим! Скажи им там, что я уже здоров – благодаря ей…
Глава XXV
Ксендз Каминский, в прошлом воин, и весьма лихой, на старости лет обосновался в Ушице, где получил приход. Но поскольку ушицкий костел сгорел дотла, а прихожан было мало, сей пастырь без паствы частенько наведывался в Хрептёв и, просиживая там неделями, в наставление рыцарям читал благочестивые проповеди.
Выслушав со вниманием рассказ Мушальского, он спустя несколько вечеров обратился к собравшимся с такими словами:
– Мне всегда по душе были повествования, в которых печальные события имеют счастливый исход, из чего явствует, что кого Господь возьмет под свою опеку, того из любой западни непременно вызволит и отовсюду, хоть из Крыма, приведет под надежный кров. Посему, любезные судари, раз и навсегда всяк для себя запомните, что для Господа Бога нет ничего невозможного, и даже в тяжелейших обстоятельствах не теряйте веры в его милосердие. Вот оно как!
Честь и хвала пану Мушальскому, что простого человека братской любовью возлюбил. Пример тому нам показал Спаситель, который, будучи сам царского рода, любил простолюдинов, многих из них произвел в апостолы и дальнейшему способствовал продвижению, почему они теперь и заседают в небесном сенате.
Но одно дело любовь приватная и совсем иное – всеобщая, одной нации к другой; так вот, эту всеобщую любовь Спаситель столь же строго наказал растить в сердцах. А где она? Оглядись по сторонам, человече: все сердца злобой полны, словно люди не по Господним заповедям живут, а по сатанинским.
– Ох, сударь мой, – вмешался Заглоба, – нелегко тебе будет уговорить нас полюбить турка, татарина или какого иного варвара – ими сам Господь Бог, можно сказать, брезгует.
– Я вас к этому и не призываю, а лишь утверждаю, что дети eiusdem matris[87]87
той же самой матери (лат.).
[Закрыть] обязаны друг друга любить. А мы что творим: вот уже тридцать лет, со времен Хмельницкого, здешняя земля не просыхает от крови.
– А по чьей вине?
– Кто первый свою вину признает, того первого Господь и простит.
– Но ты-то сам, сударь, хотя ныне сутану носишь, в молодые годы мятежников бивал, и, как мы слыхали, весьма успешно…
– Бивал, ибо солдатскому долгу был послушен, и не в этом мой грех, а в том, что я их, как чуму, ненавидел. Имелись у меня свои, личные причины, о которых не стану вспоминать за давностью лет, да и раны те уже зарубцевались. А каюсь я в том, что сверх положенного старался. Было у меня под началом сто человек из хоругви пана Неводовского, и частенько мы с ними, отделившись от остальных, жгли, рубили головы, вешали… Сами помните, какое было время. Жгли и рубили головы татары, которых Хмель призвал на подмогу, жгли и рубили головы польские войска. И казаки за собой только воду и землю оставляли, еще больше свирепствуя, нежели мы и татары. Ничего нет страшнее братоубийственной войны… Что были за времена – словами не передать; одно скажу: и мы, и они скорее на бешеных псов, чем на людей походили…
Однажды наш отряд получил известие, что мятежный сброд осадил в крепостце пана Русецкого. Меня с моими людьми послали ему на выручку. Но мы пришли слишком поздно. От крепостцы уже следа не осталось. Однако я настиг пьяное мужичье и почти всех положил на месте, лишь малая часть попряталась в хлебах; этих я приказал взять живьем, чтоб для острастки повесить. Но где, на чем? Задумать было легче, чем исполнить; во всей деревне ни деревца не осталось, даже дикие груши, росшие кое-где на межах, валялись срубленные. Виселицы ставить – времени нет, да и лесов нигде поблизости не видно, край-то степной. Что делать? Беру я своих пленников и иду. Попадется, думаю, где-нибудь по дороге раскидистый дубок. Милю проходим, другую – кругом ровная степь, пусто, хоть шаром покати. Наконец натыкаемся на развалины какой-то деревушки, а дело уже шло к вечеру; я смотрю туда-сюда: везде головешки да седой пепел; опять ничего! Ан нет: на маленьком взгорочке распятие уцелело, крест большой, дубовый, видать, недавно поставленный – дерево нисколько еще не почернело и при свете вечерней зари сверкало, словно объятое пламенем. Христос на нем был из жести вырезан и искусно раскрашен: лишь зайдя сбоку, можно было увидеть, что жесть эта тоньше пальца, и на кресте не настоящее тело висит; ну, а если спереди глядеть – лицо как живое, чуть только побледневшее от страданий, и терновый венец, и очи, с превеликой тоской и печалью обращенные к небу.
Увидел я тот крест, и в голове у меня мелькнуло: «Вот дерево, другого не будет», – но тотчас самому страшно стало. Во имя Отца и Сына! Не стану же я их на кресте вешать! Но, думаю, отчего бы не потешить Христа, приказав у него на глазах срубить головы тем, которые столько невинной крови пролили, и говорю: «Господи, да помстится Тебе, что это те самые иудеи, которые Тебя на кресте распяли: они их ничуть не лучше». И велел я брать по одному пленнику, приводить на курган к распятию и у его подножия сносить им головы. Были среди них седовласые старики и мальчишки безусые. Привели первого, он ко мне: «Ради Христа, ради его крестных мук, помилуй, пан!» А я на это: «По шее его!» Драгун размахнулся, и покатилась голова… Другого привели, он то же самое: «Ради Христа милосердного, помилуй!» А я опять: «По шее его!» Так же и с третьим, с четвертым, с пятым; всего их было четырнадцать, и каждый меня заклинал именем Христовым… Уже и заря погасла, пока мы управились. Приказал я положить мертвые тела вокруг распятия… Глупец! Думал, вид их будет приятен Сыну Божьему, они же еще несколько времени то руками, то ногами дергали, и нет-нет который-нибудь вскинется, точно вытащенная из воды рыба; впрочем, недолго страдальцы корячились, вскоре жизнь оставила обезглавленные тела, и лежали они кружком недвижно.
Меж тем темнота сделалась кромешная, и решил я тут же расположиться на ночлег, хотя костров разводить было не из чего. Ночь Господь послал теплую, и люди мои с охотою улеглись на попоны, я же пошел еще к распятию, чтобы у ног Всевышнего прочитать «Отче наш» и препоручить себя Его милосердию. Думал, молитва моя с особой благосклонностью будет принята, поскольку день я провел в трудах и содеянное почитал своей заслугою.
Часто солдат, утомившись в походе, засыпает, не дочитавши вечерней молитвы. Так случилось и со мной. Драгуны, видя, что я стою на коленях, прислонясь головой к кресту, решили: я в благочестивые размышления погружен, и никто не пытался их нарушить; на самом же деле глаза мои мгновенно сомкнулись, и странный сон снизошел на меня от того распятия. Не скажу, что мне было послано видение: я и был, и есмь этого недостоин, однако, крепко уснув, видел я, словно наяву, от начала до конца страсти Господни… Видел мучения невинного Агнца, и сердце мое смягчилось, из очей брызнули слезы, и безмерная жалость стеснила душу. «Господи, – говорю, – есть у меня сотня добрых молодцев. Хочешь посмотреть, какова в деле наша конница? Кивни только головой, а я этих вражьих сынов, палачей твоих, вмиг в куски изрублю саблями». Едва я так сказал, видение вдруг рассеялось, остался один только крест, а на нем Христос, кровавыми слезами плачущий… Обнял я подножие Святого Древа и тоже зарыдал. Сколько это продолжалось – не знаю, но спустя какое-то время, немного успокоившись, опять говорю: «Господи! Проповедовал же Ты свое святое ученье закоснелым иудеям, так ведь? Ну что б Тебе было из Палестины в нашу Речь Посполитую прийти – уж мы бы Тебя к кресту приколачивать не стали, а приняли ласково, всяческим одарили добром и шляхетское звание пожаловали для вящего умножения божественной твоей славы. Почему Ты таково не поступил, Господи?»
С этими словами поднимаю я глаза (не забывайте, это все во сне было) и что же вижу? Господь наш глядит на меня сурово, брови хмурит и вдруг отвечает громовым голосом: «Дешево ныне шляхетство ваше: во время шведской войны любой мещанин мог себе купить; но не в том дело! Вы со смутьянами друг друга стоите: и они, и вы хуже иудеев, ибо каждый день меня на кресте распинаете… Разве я не наказал вам даже врагов своих любить и вины им прощать, а вы, точно дикие звери, растерзать готовы друг друга? На что взирая, я муку терплю невыносимую. А ты сам, ты, который меня у палачей отбить хотел, а потом в Речь Посполитую зазывал, – что ты сделал? Вон трупы вкруг моего креста лежат, и подножие кровью обрызгано, а ведь то были повинные люди – иные совсем еще юные, а иные, небогатые умом, точно глупые овцы вслепую за другими пошли. Оказал ты им милосердие, судил, прежде чем предать смерти? Нет! Ты велел им всем головы снести и еще думал меня этим порадовать. Поистине одно дело бранить и наказывать, как отец наказывает сына, как старший брат бранит младшего, и совсем другое – мстить, карать без суда, не зная меры в наказаниях и жестокости. До того уже дошло, что на этой земле волки милосерднее людей, травы исходят кровавой росой, ветры не веют, а воют, реки слезами полнятся и люди простирают руки к смерти, восклицая: «Спасительница наша!»
«Господи! – вскричал я. – Неужто они лучше нас? Кто самые страшные творил жестокости? Кто басурман призвал?..»
«Любите их, даже карая, – ответил Господь, – и тогда пелена спадет у них с глаз, ожесточение покинет сердца и милосердие мое пребудет с вами. Не то нахлынут татарские полчища и всех – и вас, и их – уведут в полон, и будете вы служить врагу, терпя муки, снося унижения, обливаясь слезами, до того дня, пока друг друга не возлюбите. Если же и впредь не умерите свою ненависть, не будет ни одним, ни другим снисхождения, и неверный завладеет этой землей на веки вечные!»
Испугался я, услыхав такое пророчество, и долго не мог слова вымолвить, а потом, упав ниц, спросил: «Что же мне делать, Господи, дабы искупить свои грехи?»
На что Господь отвечал: «Иди и повторяй мои слова, проповедуй любовь!»
После этих слов сон мой рассеялся. А поскольку летняя ночь коротка, пробудился я уже на заре, мокрый от росы. Смотрю: головы возле распятия все так же кружком лежат, только лица посинелые. И странное дело: вчера радостно мне было на них смотреть, а нынче страх охватил, особенно когда я взглянул на голову одного отрока, лет, может, семнадцати, который красив был неописуемо. Велел я солдатам предать тела земле под этим же распятием и с той поры… другой стал человек.
Вначале, бывало, думалось: сон – морок! Однако тот сон крепко застрял у меня в памяти и как бы всем моим существом помалу завладел. Конечно, я не смел даже помыслить, что сам Всевышний со мною беседовал, поскольку, как уже вам говорил, достойным себя не чувствовал, но могло ведь статься, что совесть, на время войны затаившаяся в дальнем уголке души, как татарин в травах, вдруг обрела голос, дабы объявить мне Господню волю. Пошел я на исповедь: ксендз подтвердил мою догадку. «Сомнений нет, говорит, это предостережение и воля Божья, следуй сей указке, иначе горе тебе».
С той поры начал я проповедовать любовь.
Но… товарищество и офицеры смеялись мне в глаза: «Ты что, кричали, ксендз, наставленья нам читать? Мало вражьи дети оскорбляли Всевышнего, мало костелов пожгли, мало осквернили распятий? За это, что ль, мы их должны любить?» Словом, никто меня не слушал.
И тогда, после битвы под Берестечком, облачился я в эти одежды, дабы с большим правом нести людям слово и волю Божию.
Двадцать с лишним лет я делаю свое дело, не зная покоя. Уже вон и волосы побелели… Да не покарает меня Господь в своем милосердии за то, что голос мой до сих пор был гласом вопиющего в пустыне.
Любите врагов ваших, досточтимые судари, наказывайте их, как наказывает отец, браните, как бранит старший брат, иначе, сколь бы им худо ни было, худо будет и вам, и всей Речи Посполитой.
Гляньте, что принесла эта война, каковы плоды братней ненависти! Земля стала пустынею; у меня в Ушице вместо прихожан одни могилы; на месте костелов, городов, сел – пепелища, а басурманская мощь все растет и крепнет и грозит нам, словно неудержная морская волна, которая и тебя, каменецкая твердыня, готова поглотить…
Пан Ненашинец слушал речи ксендза Каминского с большим волнением – даже на лбу его каплями выступил пот – и первым нарушил молчание:
– Есть, конечно, среди казаков достойные мужи, взять к примеру хотя бы сидящего здесь пана Мотовило, которого все мы уважаем и любим. Но что касается всеобщей любви, о которой столь проникновенно говорил ксендз Каминский… я, признаться, до сих пор в превеликом жил грехе, ибо не чувствовал в себе этой любви, да и не старался ее обрести. Спасибо, его преподобие ксендз приоткрыл мне глаза. Однако, пока Господь меня особо не наставит, я такой любви в своем сердце не найду, поскольку ношу в нем память о страшной обиде, а что это за обида – могу вкратце вам поведать.
– Сперва надо выпить чего-нибудь горячительного, – перебил его Заглоба.
– Подбросьте дров в печь, – приказала слугам Бася.
Вскоре просторная горница вновь озарилась светом, а перед каждым из рыцарей слуга поставил по кварте подогретого пива, в котором все немедля с удовольствием омочили усы. Когда же отхлебнули глоток-другой, Ненашинец начал свой рассказ – и покатилось слово за словом, точно камешки по косогору:
– Мать, умирая, поручила моим заботам сестру. Звали ее Елешкой. Ни жены, ни детей у меня не было, и любил я девчонку пуще всех на свете. Была она двадцатью годами меня моложе; я ее на руках носил. Короче говоря, за свое дитя почитал. Потом ушел я в поход, а ее пленили ордынцы. Вернулся – головой о стенку бился. Все мое достояние пропало во время набега, но я продал последнее, что имел, – конскую сбрую! – и поехал с армянами, чтоб выкупить сестру. Отыскал я ее в Бахчисарае. Жила она не в гареме пока еще, а при гареме, потому что было ей всего двенадцать лет. Вовек не забуду, Елешка, той минуты, когда я тебя нашел: как ты мне на шею бросилась, как глаза мои целовала! Да что толку! Оказалось, мало я привез денег. Очень уж красива сестра была. Егу-ага, который ее похитил, в три раза больше запросил! Предлагал я себя в придачу. И это не помогло. На моих глазах купил ее на базаре великий Тугай-бей, знаменитый наш недруг, который хотел девчонку годика три при гареме подержать, а потом сделать своею женой. Пустился я в обратный путь, еду и волосы на себе рву. По дороге узнал, что в приморском улусе проживает одна из жен Тугай-бея с его любимым сынком, Азьей… Тугай-бей во всех городах и многих селеньях держал жен, чтоб везде под собственным кровом иметь усладу. Услыхав про этого сынка, подумал я, что Господь указывает мне последний способ спасти Елешку, и решил маленького Тугай-беевича похитить, чтоб потом обменять на сестру. Но в одиночку я этого сделать не мог. Надо было кликнуть клич на Украине либо в Диком Поле да сколотить ватагу, что было делом нелегким: Тугай-беево имя на Руси повсеместно внушало страх, это раз, а два – он казакам с нами воевать помогал. Однако по степям немало всякого сброда шастает, наживы ищет, – эти молодцы корысти ради на край света пойдут. Собрал я из таких изрядную команду. Чего мы натерпелись, покуда чайки не вышли в море, словами не передать – нам ведь и от казацкой верхушки приходилось скрываться. Но Господь меня не оставил. Похитил я мальчонку и в придачу знатную взял добычу. Погоня нас не настигла, и добрались мы благополучно, до Дикого Поля, откуда я намеревался ехать в Каменец, чтобы через тамошних купцов не мешкая начать переговоры.
Добычу я всю разделил между молодцев, себе только Тугаева щенка оставил. Поскольку же расплатился я с этими людьми по совести, не скупясь, а до того в каких только переделках с ними не побывал, и с голоду вместе помирал, и головой своей из-за них рисковал не раз, то и возомнил, что каждый за мною пойдет в огонь и воду, что я ихние сердца завоевал навек.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































