Текст книги "Визит к Минотавру"
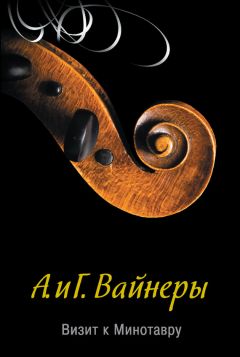
Автор книги: Георгий Вайнер
Жанр: Полицейские детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 6
Сто процентов алиби
Что может произойти за пятнадцать лет? Много? Мало?
Паоло Страдивари стал богат необычайно и очень переживал, что неаполитанской короной ему было отказано в дворянском достоинстве из-за низких занятий его отца.
Джузеппе Страдивари был пожалован в звание коадъютора святого ордена Иисуса.
Франческо и Омобоно Страдивари по-прежнему готовили отдельные части к скрипкам своего отца и ремонтировали старые инструменты.
Антонио Страдивари строил новые скрипки.
Веселый француз Дювернуа – купец и посредник – умер от грудной жабы.
Старый Гварнери помогал сыну.
А сын его – Дель-Джезу – получил свободу.
Пятнадцать лет строил он скрипки, искал новые конструкции и формы, менял направление разрезов дерева, способы его сушки и пропитки, бился с непослушными и непонятными лаками. Он испортил уже двадцать три инструмента, когда решил, что понял секрет красоты скрипок «Страдивари». Дель-Джезу стал вываривать дерево в льняном масле, и красоты они были неслыханной, но звук вскоре потускнел и погас.
Выбирая конструкции, он начисто зачеркнул все, что сделали Амати, и сразу начал с того, чего достиг на склоне лет Страдивари: самая маленькая скрипка Дель-Джезу была больше, чем «аллонж» Страдивари. Решительным надрезом он высекал на деках длинные острые готические эфы. Скрипки его были длинны и покаты и походили на фрегаты океанские.
Он не знал, что Страдивари полвека назад нашел для своего лака сок эуфорбии маршаллианы и в долгих, мучительных поисках пришел к новому решению: лучший консервант и отражатель звука – молочный сок бразильских фикусовых пальм. Толстым слоем он наносил бесцветный лак на дерево, а сверху покрывал тонкой пленкой цветного, и нижний слой просвечивал сквозь верхний, как фольга, и вся скрипка сияла радостным тонким светом.
Скрипки свои Дель-Джезу сушил долго, затем насыпал внутрь разогретый овес и тщательно, долго чистил, а потом обыгрывал инструмент, поскольку был уверен, что у новой скрипки звук еще не вошел в силу, он еще неподвижный, сырой, он еще затуманен и дремлет.
А когда скрипка бывала совсем готова, приходил монах и забирал ее.
Как в турецкий плен уводили детища его, и больше никогда Дель-Джезу не слышал голосов своих скрипок. Господи, за что же такая мука?! И не видно было этому ни конца ни края, потому что пятнадцать лет текут очень медленно…
За делами не успел Дель-Джезу жениться – сначала было недосуг, а потом уже поздно. И внимания его не искали кремонские девицы – кому нужен тщедушный головастый урод, блаженный дурачок, торчащий с утра до заката в мастерской?
Он ел что случалось, а случалась обычно жидкая похлебка, овечий сыр да кукурузная каша. И одет был скудно и неряшливо. Ходил сутулясь, нелепой, дергающейся походкой, наклонив низко тяжелую голову и в задумчивости держась за длинную рыжеватую бороду, отчего стал совсем похож на карлика из бродячего цирка Эспозито. Людей дичился и, когда с ним разговаривали, застенчиво смотрел в сторону, будто сделал что-то дурное или боялся, что прибьют. Говорить с людьми стало мукой, ибо единственное, что он мог рассказать им, – это какой волшебный сад звуков цветет вокруг, достаточно взять в руки его скрипку – и станет она надежным другом в этом искрящемся, бушующем и пенном океане. Но больше ни о чем он не мог рассказать людям, потому что изо дня в день гнулся над верстаком, нигде не бывал и никого не видел, а потому совсем ничего не знал, и говорить с ним никому не хотелось, и от этого он не мог никому рассказать про сказочный мир звуков, в котором поселился навсегда. А люди? Люди смеялись над ним и дразнили: «Дель-Джезу – деревянная душа!»
И все, о чем он думал в одиночестве, о чем мечтал наедине, что напевал тихонько во время работы, снилось ему по ночам в долгих, ярких, задумчивых снах, которые вставали из глубин дремлющей памяти, как из морской пучины вздымаются прекрасные и хрупкие миражи. В снах были звуки, движение, цвет, форма, они сулили отдохновение и покой, в них бушевали сила и красота жизни. И звучали удивительные мелодии, и каждый звук жил отдельно, и Дель-Джезу точно помнил во сне звук наливающейся солнцем капли росы, шелест сосновых иголок, тихий треск лопающихся каштанов, ток крови в молодом здоровом теле, свистящий шелест рек, протяжный резкий крик орлов и синий звон альпийских льдов, во сне дребезжали колокола и грохотал прибой, с гиком и ржанием катилась конница и тяжело гудел пушечный гром, пели люди, могучие великаны, метались птицы и плыл зеленый плеск подводных рыб. Мир был громаден, могуч и свободен, и он был никем не заселен, не занят – в нем хватило бы места для всех, но пока в нем нашел себе одинокий приют лишь маленький Дель-Джезу, больной и нищий.
И об этом сказочном богатстве подвластного ему радостного мира заговорили скрипки Дель-Джезу всем, имеющим уши. Скрипки Дель-Джезу, золотистые великаны, длинные стройные красавицы, простодушные и гостеприимные, они кричали могучими голосами: «Люди, нас прислал наш отец, добрый властитель волшебного мира! Мы приглашаем вас, отец повелел служить вам, люди, долгие столетия! Люди, мы ваши, слушайте нас, мы счастливы служить вам!»
Но никто не слышал их, а может быть, и не слушал. И они кричали с тоской и с горечью: «Наш отец в неволе у злых дураков! Помогите освободить его, и он откроет еще много волшебных миров счастья! Люди, ему же совсем ничего не надо, только капельку свободы!»
Но ответом было молчание. И с болью и гневом, голосами страстными, рвущимися от отчаяния, они просили о милосердии: «Наш отец болен! Он скоро умрет и не успеет сделать виолончель, которую мечтал построить всю жизнь! У него нет времени сделать хоть один инструмент для себя! Помилосердствуйте! Все, что было у него, он отдал вам, люди. Неужели всей силы и богатства мира не хватит, чтобы помочь больному нищему гению? Помоги-и-те-е!..»
Их голоса неслись уже по всей Европе, но только эхо возвращалось, искаженное, злое, насмешливое… «Это скрипки покойного старика Гварнери? Он совсем сошел с ума – это не скрипка, а барабан. Грубые, буйные звуки для простолюдинов. На них можно играть только на площади перед толпой…»
Ну где же вы, братья гения? Где вы – Гайдн, Моцарт и Госсек? Где вы – Пуньяни, Паганини, Гавинье? Придите на помощь: в тоске и нищете гений раздает свой талант – по дукату за скрипку отбирают долг иезуиты. Расскажите миру о гении, расскажите, что он еще не умер и эти волшебные, плывущие через вечность корабли сделал он, а не покойный дед Андреа! Времени осталось совсем мало, хотя он согласен подождать.
«Сколько?»
«Век. Или два».
«Век? Нет, поздно. Он будет жить всего несколько лет. Вам останутся только его дети – его скрипки. Позаботьтесь хотя бы восславить имя Гварнери рядом с вашими именами».
«Мы обещаем…»
А сегодня – день свободы. Кончилось рабство у иезуитов.
Джузеппе Страдивари, коадъютор святого ордена, засмеялся длинным, жестким, как напильник, смешком:
– Нет, Дель-Джезу, ты будешь с нами до самой смерти…
Дель-Джезу рассеянно подергал себя за бороду, задумчиво сказал:
– Не буду. И зовут меня теперь только Гварнери. Нет больше никакого Дель-Джезу. Я свободен.
– Дель-Джезу умрет вместе с Джузеппе Гварнери, – покачал головой монах. – Ты стал строптив и дерзок. Мои люди сказали, что ты отдал вчера скрипку бродяге. Это правда?
– Да, – кивнул огромной головой Гварнери.
– И написал в ней слово поклонения Антонио Страдивари, которого назвал своим учителем. Это правда?
– Правда.
– Ты будешь наказан.
– У вас нет сил наказать меня, – грустно усмехнулся Гварнери. – У каторжника можно отнять только цепь.
– И еще кров и еду, – спокойно молвил монах.
– Я вам больше ничего не должен, – сказал устало Гварнери.
– Ошибаешься. Ты не выполнил договор – скрипки твои не покупают. Судья выселит тебя из дома.
– Кому нужна такая хибара? – поднял черные печальные глаза Гварнери.
– Только тебе. Вот тебя мы и лишим ее…
Антонио Страдивари, великий мастер! Разве ты не слышишь совсем близко стенания горя? Разве ослаб твой зоркий глаз и ты не видишь, как твой черный выкормыш давит сына души твоей?
Нет, стар, совсем стар Антонио Страдивари. В девяносто лет, если рука еще тверда, а глаз светел, надо спешить, надо строить свои последние скрипки, корабли в далекое завтра, которое скрыто от нас горизонтом нынешнего дня. И последняя земная работа – надо купить, продается недорого, прекрасный мраморный склеп семейства Виллани в часовне церкви святого Доминика и велеть счистить с камня их имена. Надо приготовить себе место последнего упокоения…
Антонио Страдивари, великий мастер, зачем тебе мраморный склеп, когда сын мечты твоей, продолжатель помыслов и жизни твоей, мастер Джузеппе Гварнери Дель-Джезу спит под забором, выхаркивая с кровью куски легких?
Но Антонио Страдивари уже ничего не слышит, он совсем оглох и звук своих скрипок ощущает только пальцами…
Находка в машине таксиста Сергея Ивановича Могилевского, которая, по словам диспетчера, была железякой вроде скобы с деревянной ручкой, оказалась камертоном. Это была старинная антикварная вещица: черно-синие ножки из инвара, деревянная, отполированная тысячами прикосновений ручка с еле заметными на ней, неглубоко прорезанными буквами – «П.И.». Я ехал с Ленинградского вокзала домой к Раисе Никоновне Филоновой и держал в руке камертон. Когда я легонько ударял пальцами по нему, он издавал долгий поющий звук. Я подносил поющий камертон к уху, и звук усиливался, он гудел, пел низко и взволнованно, и, может быть, потому, что я ничего не понимаю в музыке, мне казалось, что в этом однообразном гудении слышны колокола судьбы, тягучее бормотание Мельника, стремительный ветер мелодии, которую играл мне больной Поляков на прекрасном «Вильоме», который был все-таки хуже «Страдивари», и мне слышался в нем грохот катящейся по мостовой будки с перепуганным айсором и взволнованные «так ска-ть» учителя Трубицына, безмолвный ужас бабки Трумэна, тупое оцепенение ребят, неожиданно для себя в одно мгновение ставших соучастниками убийства, и радостный крик души Белаша в конкурсном концерте Гайдна, грохот ломающихся льдин, и жуткий животный вопль тонущего Лопакова-Хрюни, и хриплое дыхание бегущего среди разводьев Никодимова, и шипение голубого крайта, приготовившегося для смертельного броска, усталый голос Иконникова – «вы еще совсем мальчик…».
– …Да, мне знакома эта вещь, – сказала Раиса Никоновна. – Этот камертон несколько лет назад Павел Петрович подарил Грише Белашу.
За несколько недель, которые я ее не видел, она стала совсем старой. Бессильно подергивалась голова, нервный тик сводил глаз, лицо потемнело, припухло, почти все время были прикрыты веки, и одна за другой стекали из-под ресниц слабые старческие слезы.
В комнате чисто, но по какому-то еле уловимому беспорядку видно, что убиралась здесь не хозяйка. Остро пахло сердечными каплями, от запаха нашатырного спирта и уксуса кружилась голова. На маленькой немецкой люстре – креп, траурная лента свисает с портрета Иконникова. Здесь рисованный, еще живой Иконников – сильный, властный, почти всемогущий.
– А Григорий Петрович к вам не заходит?
– Нет, – покачала Филонова головой. – Он боится.
– Чего?
– Он боится, что я буду обременять его разговорами о Павле Петровиче.
– Почему вы так думаете?
– Не знаю… У Павла Петровича был друг – гроссмейстер по шахматам, они иногда играли. И Павел Петрович у него нередко выигрывал.
Я не понял и переспросил:
– И что? Какая связь?
Филонова мельком взглянула на меня и опустила глаза.
– Нет, ничего… Просто дело в том, что Павел Петрович довольно средне играл в шахматы. Его мог обыграть совсем несильный игрок. А вот у гроссмейстера он выигрывал.
Я все равно не уловил ее мысль, а мне очень хотелось понять, что она имеет в виду. Я сказал как можно мягче:
– Раиса Никоновна, объясните мне, что вы хотели сказать. Почему он выигрывал у гроссмейстера?
Снова выкатилась из-под ресниц слеза, она не спеша вытерла ее платочком.
– Он очень хорошо знал своего друга и всегда точно угадывал ход его мысли, и гроссмейстер часто не мог перехитрить его. А заурядный игрок, которого Павел Петрович не знал, мог.
– Вы хотите сказать, что Павел Петрович не смог обыграть Белаша?
– Нет. Я это применительно к себе сказала. Я совсем не умею разбираться в людях, а это искусство потруднее шахматного. Но за много лет я так хорошо узнала Белаша, что он – гроссмейстер – не смог меня перехитрить. Хотя меня может обмануть всякий. Вы вот тоже надо мной подшутили…
– Раиса Никоновна, вы же простили меня. Я очень хотел сделать как лучше…
– Бог с вами. Это все пустое. Вообще, какое это все имеет значение? Я ведь и про Гришу Белаша просто так сказала, к слову…
– А в чем он хотел вас перехитрить?
– Гриша хотел всем показать, что он добрый и хороший человек. А меня он считал глупой и ничтожной и поэтому не старался создавать у меня хорошее впечатление о себе. И я постепенно поняла, что он зол, очень утомлен и почти всегда напуган.
– А вы говорили об этом с Павлом Петровичем?
– Что вы! Как можно? Павел Петрович его любил, значит, это и меня устраивало. Так надеялся Павел Петрович на него! Он мечтал сделать из него великого музыканта. Большего, чем Лев Осипович Поляков.
– Чем Поляков?! – переспросил я.
– Да, – просто и тихо сказала Филонова. – Некоторые думали, что Паша завидует Полякову. А ведь это было совсем не так. Он мечтал воспитать музыканта еще большего масштаба, чем Поляков, потому что рассматривал Льва Осиповича как мерило дарования и трудолюбия. И в этом надеялся найти свое искупление перед искусством. Он умер вовсе не из страха перед скандалом…
– А почему?
– Не знаю, но мне кажется, его убило что-то, зачеркнувшее всю его жизнь. А такое могло исходить только от Белаша: у Павла Петровича не было больше жизненной привязанности… Сколько я его знала, он лишь однажды был в таком же состоянии, как незадолго перед смертью.
– А что вызвало это состояние?
– Вы ведь знаете, наверное, что наши выдающиеся музыканты играют на прекрасных старинных инструментах, которым нет цены. Вручаются они по специальному акту правительства. И вот, когда Павел Петрович твердо решил покончить с музыкой, он пошел и сам – понимаете, сам, ему никто не говорил об этом, – пошел и сдал инструмент. У него был изумительного звука «Гварнери». И он сдал его. А для скрипача это как… ну… нет, я не могу подобрать примера…
– Н-да, – сказал комиссар. – У каждой загадки на конце разгадка, да только до правды семь верст, и все лесом…
Комиссар покрутил в руках камертон, щелкнул по нему пальцем, прислушался к низкому ровному гудению, поднес его близко к уху, потом резко положил на стол. Камертон слабо звякнул и затих.
– Слушай, а как же он не зазвенел на полу машины?
– А он не на пол упал. Белаш выронил его из кармана на заднее сиденье. Там его и нашел таксист после смены.
– Торопился, видно, сильно Белаш. А как же с поездом обратно в Ленинград?
– С поездом? Очень просто. Ведь в Ленинград ездят с Ленинградского вокзала, так?
– Так.
– Вот то-то и оно. Мы тоже все время думали, что он поедет назад с Ленинградского вокзала – это само собой разумеется. А они решили вопрос остроумнее во всех отношениях…
– Ты так радуешься их остроумию, будто они в КВН выступали, – усмехнулся комиссар.
– Я не их остроумию радуюсь, а своему. Ведь я их шарады все-таки решил?
– Тебе по должности и полагается, – дрогнул бровью комиссар. – Так что они состроумничали?
– В час двенадцать минут на Курском вокзале останавливается скорый поезд Ереван – Мурманск, следующий через Ленинград. Они об этом знали заранее, и билет для Белаша был готов. В час двадцать он уже тронулся на север, в семь тридцать пять прибыл в Ленинград, через пятнадцать минут сидел в номере у телефона и ждал звонка дежурной. Кроме времени и маршрута поезда, в этом был еще один резон – ночной проходной поезд, все спят, темно, никто и в глаза разглядеть Белаша не мог.
– Хорошо они рассчитали, – покачал головой комиссар. – Ловкие, сволочи… Ты за ним сам поедешь?
– Нет. Я его вызвал по телефону.
– По телефону? – удивился комиссар. – А если догадается и сбежит?
– Не сбежит. Куда ему бежать?
– Смотри. Ты же не медведь, должен все предусмотреть.
– А что медведь? – спросил я.
– Да это в тех местах, где я родился, так говорили: медведь дуги гнет – не парит, а сломает – не тужит. Тебе будет о чем тужить.
– Хорошо, – сказал я, взял со стола камертон и пошел к себе.
У дверей моего кабинета дожидался Белаш. Мы поздоровались, и по тому, что он не подал руки, я сразу почувствовал, что он догадывается, зачем я его вызвал.
Вошли в кабинет, сели к столу, Белаш достал пачку сигарет, одну закурил, и все время он смотрел мимо меня в окно, и в глазах его не было ни тоски, ни страха, ни злости – ничего не было. Мы долго молчали, и ему было легче, потому что у него было хоть какое-то занятие – он курил. А я просто молчал и смотрел на него, а когда заговорил, голос мой звучал хрипло и неуверенно:
– Григорий Петрович, вы ничего не хотите мне рассказать?
Белаш, не поворачиваясь ко мне, все так же неотрывно глядя в окно, сказал:
– Нет. Не хочу. Да и говорить мне нечего.
Я хотел переложить камертон из кармана в ящик стола и нечаянно задел им папку на столе. Камертон низко и длинно загудел. Белаш резко, рывком повернулся на этот звенящий звук и увидел в моих руках камертон.
– Нашелся все-таки, – сказал он так, будто забыл его у меня дома, и целый вечер мы вдвоем безуспешно проискали его, и вот сегодня я нашел и принес ему.
И от этого спокойствия я пришел в себя.
– Если вам нечего мне сказать, я предъявляю вам, гражданин Белаш, обвинение в краже скрипки «Страдивари» из квартиры профессора Полякова. Вы согласны с предъявленным обвинением?
Белаш наконец оторвал взгляд от камертона, посмотрел на меня совершенно прозрачными, пустыми глазами, и смотрел на меня долго, будто собираясь с мыслями или пытаясь рассмотреть меня на сером фоне стены. Потом устало сказал:
– Да, согласен.
Наступила тишина, томительная, тягучая, пустая. Не было в этой тишине противоборства мыслей, бесшумного скрежета злобы, изнуряющего оцепенения страха. Я был уверен, что Белаш даст мне бой по всем правилам, что он будет биться за каждый вопрос, за каждое слово. А он вдруг коротко ответил – да, согласен…
– Расскажите, как это произошло, – спросил я.
Он отрицательно покачал головой:
– Нет, сейчас не могу. Я очень устал. Я нечеловечески устал. Я много месяцев, ночь за ночью, день за днем, не сплю. Иногда мне случается ненадолго задремать, иногда мне сразу снится ваше лицо. Не Крест, и не Иконников, и не Поляков. Мне снитесь вы, и я вас так ненавижу, что у меня кружится голова…
Долгая пауза плыла по комнате, потом я сказал:
– Значит, вы все-таки так ничего и не поняли во всей этой истории. А тут было над чем подумать…
– Может быть, – сказал Белаш и прикрыл глаза, опустились его припухшие, чуть синеватые веки с длинными ресницами. – С того момента, когда мы впервые встретились, я понял, что вы, серый и злой мужлан, – моя судьба. Куда я ни пытался дернуться, куда ни сунусь – вы уже здесь побывали, поговорили, все выяснили, и каждый день я чувствовал, как вы затягиваете на моей шее удавку. Сегодня вы можете радоваться: я сдался – больше не могу, я устал. Вы загнали меня в западню, как зверя. Радуйтесь! Что же вы сидите с постным лицом?
Человек выгорел изнутри от страха и непрерывного напряжения, как танк, в который попал термитный снаряд. Ужасно. Говорить с ним сейчас бесполезно. Белаш открыл глаза, пристально посмотрел на меня и сказал:
– Вы похожи на автобусного контролера. Он стоит вместе со всеми людьми на остановке, мерзнет, мокнет, потом вместе со всеми теснится и рвется на посадке, кого-то отталкивает, потом влезает в автобус, все угомонилось, и вот тут – цап! Вы достаете свой жетон – ваши билеты?
– Так в транспорте билеты надо брать, – поморщился я. – У кого билет есть – ведь ничего страшного?
– А если у человека нет билета? А ехать хочется? Тогда как? – почти в истерике крикнул Белаш.
– Тогда вы залезаете в карман к стоящему рядом человеку и суете мне его билет, а на него киваете – вон он, заяц, берите его!
– Но я тоже хотел ехать в автобусе! Я тоже имею право на это!
– Нет, вы хотели ехать не в автобусе, а в шикарном лимузине, и если для этого понадобилось бы на ходу выкинуть из него кого-нибудь – вас это не остановило бы.
– Думайте как хотите, – сказал Белаш. – Мне это безразлично. Когда-то в разговоре со мной вы упомянули Минотавра, хотя и не знали, что Минотавр – это я. И тем самым выдали мне оправдание. Минотавр не виноват, что родился чудовищем, и пожирал он других потому, что хотел есть. А сейчас я больше не буду с вами говорить, отправьте меня в камеру. Я очень устал, я очень хочу спать…
– Хорошо. Один вопрос – где скрипка?
Белаш смотрел на меня пустыми прозрачными глазами, смотрел так, будто мы расстаемся на всю жизнь и он покрепче хочет запомнить меня, потом тихо засмеялся, истерическая улыбка раздвинула его губы, а в глазах прыгали пятна безумия, и он смеялся все громче и надрывнее, и что-то старался сказать сквозь этот ненормальный, сотрясающий его всего, как в ознобе, хохот, но слова не вылетали из сведенного судорогой рта, он захлебывался ими, давился, они раскалывались на отдельные части, вылетая бесформенными, бессмысленными звуками отчаяния и злорадного испуга, и мне кажется, я в жизни не видел более страшного зрелища, чем это припадочное веселье связанного Минотавра. И сквозь эти булькающие, всхлипывающие, подвывающие звуки я наконец разобрал:
– Скрипка?.. Я – же – вам – го-во-рил – «Страдивари» – воруют – чтоб – не – по-па-даться… Нет!.. У меня нет скрипки!.. И не было…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































