Текст книги "Лекарство против страха"
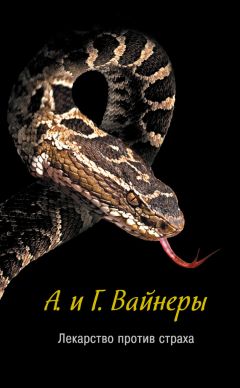
Автор книги: Георгий Вайнер
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Я пожал ей руку и сказал:
– Не вышло бы. У них там была еще миссис Хадсон, а сейчас сильные перебои с домработницами.
Она покачала головой:
– Вот с моими двумя оболтусами тоже беда: хоть убей, не женятся. А так бы хорошо было… – Она проводила нас в столовую и спросила меня: – Вы потерпите до ужина еще минут двадцать или уже невмоготу?
– Конечно потерплю.
– И прекрасно, – обрадовалась она. – У нас сегодня тушеный кролик. И с минуты на минуту подойдут наши Миша с Женей, тогда сядем вместе за стол.
И добавила, словно извиняясь:
– Я так люблю, когда они вместе с нами… Большие они стали совсем, мы их и не видим почти.
– Мамочка, мамочка, сейчас сюда ввалится пара двухметровых троглодитов, и гость не сможет разделить твоей скорби по поводу того, что они редко с нами обедают, – сказал Халецкий, и в голосе его под налетом иронии мне слышна была радость и гордость за двухметровых троглодитов, и я подумал, что троглодиты Халецкого, которых я никогда не видел, должно быть, хорошие ребята.
Жена ушла на кухню, а мы уселись за стол, и Халецкий придвинул к себе стопку бумаги и толстый цанговый карандаш с мягким жирным грифелем.
– Так что там слышно с андаксином этим самым? – спросил я.
– Ну, андаксин я для примера назвал, дабы вам понятнее было, что это такое. – Халецкий короткими легкими нажимами рисовал на бумаге пса. – Но андаксин и элениум относятся к группе малых транквилизаторов. А вещество, исследованное нашими экспертами, – большой транквилизатор…
Пес на рисунке получался злой, взъерошенный, и выражение его морды было одновременно сердитое и испуганное.
– А чем они отличаются – большой от малого?
– В принципе это совсем разные группы химических соединений. Малые транквилизаторы относятся к карбоматам, а большие – к тиазинам.
Халецкий поправил кончиком карандаша дужку золотых очков, отодвинул листок с разозленным псом в сторону и стал рисовать другого пса. Он был похож на первого, но рожа умильная, заискивающая, а хвост свернулся колбаской.
– Я буду вам очень признателен, если вы оторветесь от своих собак и объясните мне все поподробнее, – сказал я вежливо. – Меня сейчас собаки не интересуют.
– И зря, – спокойно заметил Халецкий. – Я рисую для вашего же блага, ибо не надеюсь на ваше абстрактное мышление. Ведь вы, сыщики, мыслите категориями конкретными: «украл», «побежал», «был задержан», «показал».
– Благодарю за доверие. – Я поклонился. – Отмечу лишь, что мои конкреции дают пищу для ваших абстракций…
Халецкий засмеялся:
– Сейчас, к сожалению, все обстоит наоборот: из моих туманных абстракций вам предстоит материализовать какие-то конкреции, и я вам заранее сочувствую. Дело в том, что и большие и малые транквилизаторы объединяются по принципу воздействия на психику. О малых – элениуме, андаксине, триоксазине – вы знаете сами, а большими лечат глубокие расстройства – бред, депрессии, галлюцинации. Из больших наиболее известен аминазин.
– А при чем здесь собаки?
– При том, что если разъяренной собаке дать в корме таблетку триоксазина, то она сразу же станет ласковой, спокойной и веселой.
– Так это же в корме! Если вы мне сейчас дадите маленько корма, я и без лекарства стану ласковым и веселым.
– Это я по вашему лицу вижу. Но разница в том, что собака впадает в блаженство от лекарства и без корма.
– Понятно. Так что, Позднякову дали здоровую дозу аминазина?
– Вот в этом вся загвоздка. Наши химики обнаружили в пробке вещество, не описанное ни в одном справочнике, – это не просто большой транквилизатор, это какой-то тиазин-гигант. В принципе он похож на аминазин, но молекула в шесть раз больше и сложнее. Короче, они затрудняются дать категорическое заключение об этом веществе.
– Что же делать?
– Дружить со мной, верить в меня.
– Я вам готов даже взятки давать, Ной Маркович.
– Я беру взятки только старыми почтовыми марками, а вы слишком суетливый человек, чтобы заниматься филателией. Поэтому я бескорыстно подскажу вам, что делать.
– Внимаю пророку научного сыска и филателии.
– Поезжайте завтра с утра в Исследовательский центр психоневрологии. Там есть большая лаборатория, которая работает над такими соединениями. Они вам дадут более квалифицированную консультацию, да и в разговоре с ними вы сможете точнее сориентироваться в этом вопросе…
В прихожей раздался звонок, хлопнула дверь, и две молодые здоровые глотки дружно заорали:
– Мамуленька, дорогая, мы с голоду подыхаем!..
По-видимому, явились троглодиты…
* * *
…Ослепительно-белым солнцем залита вся Феррара, и только здесь, под тяжелым монастырским сводом университета, тенистая прохлада, и сквозь забранное в цветные стекла окно прорываются яркие квадраты света. На стуле с высокой спинкой тихо сидит ученый монах Мазарди, словно пребывая в дремоте, весь располосованный разноцветными пятнами крашеных солнечных лучей. На груди застыло тяжелое ярко-алое пятно, на живот сползло лимонное, на рукавах приплясывают мазки зеленые и пронзительно-голубые.
А лицо монаха залито фиолетово-синим туманом, и от этого смотреть на него страшновато. Мне жарко в суконном кафтане, щекотная струйка пота ползет между лопаток, но, не зная наверняка, спит ли он, я не шевелюсь. И он действительно не спит. Приподнял голову – лицо мгновенно окрасилось в багровый цвет – и сказал негромко:
– Ты дворянин, ты молод и здоров. Почему бы тебе не заняться дворянским делом: поступить в армию, разбогатеть и обойти походами мир?
– Мой батюшка, благородный Вильгельм Гогенгейм, повторял мне неустанно, что убивать людей – грех, убивать за деньги – двойной грех, а быть убитым за нищие солдатские талеры – двойной грех и тройная глупость. Да и по своему разумению я не хотел бы умереть рано: у меня полно всяких планов.
Монах покачал головой, и по его миноритской тонзуре прыгнул желтый лучик.
– Мы не можем судить, рано умер человек или своевременно, ибо только Господь определяет нам пределы жизни, и не властны мы укорачивать ее или удлинять…
– Истинно верую в слова ваши, монсеньор. Я бы только не хотел вмешиваться в Божий промысел: мне кажется, что Господь направляет меня исцелять людей, а не убивать их.
Мазарди опустил тяжелые, набрякшие веки, мягко, ласково сказал:
– Укороти свой глупый дерзкий язык, наглый мальчишка. Переступив университетский порог, ты пять лет должен открывать рот только для того, чтобы повторять слово в слово то, что тебе будут говорить учителя. Тебе ничего не должно казаться, тебя никто ни о чем не спрашивает, ты ни о чем не думаешь, ни о чем не споришь, никогда не возражаешь – только уши твои широко открыты для благостного потока знаний, который оросит пустыню твоего неведения.
Запрыгали на его сутане цветные пятна, и был похож в этот миг Мазарди не на каноника, а на арлекина. Протянул для благословения руку, и я преклонил перед ним колени. Почти шепотом, еле слышно монах сказал:
– Я предупредил: ты избрал негожее для дворянина ремесло лекаря, ибо профессия эта трудна, непочтенна и бедна. Ты хорошо подумал?
– Монсеньор, я не боюсь труда, поскольку я не из тонкой материи – на моей земле люди выходят не из шелкопрядильни. Почет своей профессии человек должен создать сам неутомимым трудом и искусным исцелением страждущих. И бедность меня не страшит, потому что взращен я не на плодах смоковниц, не на меду и сдобных хлебах, но на сыре, молоке и ржаных лепешках.
– Ты бойко говоришь, юноша. Посмотрим, сколь ты прилежен в изучении наук…
И я иду в класс.
Текут часы, дни, недели, семестры, годы, сменяются преподаватели, облетает листва на жасмине под окном, и снова надевает он свой белоснежный благоуханный наряд, и ничего не меняется, только двадцать здоровых балбесов, теряя сознание от однообразия и скуки, хором повторяют вслед за титором Эспадо:
– И заповедовал нам первый закон великий целитель Гиппократ: не повреди здоровью больного – природа сама знает, что является спасением…
Хрипло орем мы вослед:
– …сама знает, что является спасением…
– И открыл нам Гиппократ, что зависит здоровье и болезнь человеческие от ненарушимых гуморес – соков организма…
– …гуморес – соков организма, – вторим мы.
– Четыре главных сока организма – кровь, слизь, светлая желчь, черная желчь…
– …кровь, слизь, светлая желчь, черная желчь…
– И присуща крови влажная теплота, слизи – холодная влажность, светлой желчи – сухое тепло, а черной желчи – холодная сухость…
– …влажная теплота… холодная влажность… сухое тепло… холодная сухость…
– И если соки смешиваются в организме надлежаще – пребывает он в здоровье, а ненормальное смешение побуждает организм к болезни…
– …побуждает организм к болезни…
– И есть гуморальная основа человеческого организма – истина, и пребудет несокрушимой во веки веков…
Может быть, я и принял бы все это за истину, если бы там не было всегда так душно. Но слезает с кафедры титор, и забирается туда лиценциат Брандт, рассерженный на весь мир горбун, и сипло начинает орать, потчуя нас палкой, если мы не проявляем достаточного усердия:
– Запомните, скоты безрогие, что не было, нет и не будет в мире господнем врача, равного мудростью своей римлянину Галену. Знайте, ослы, что воздвиг сей достойный муж на фундаменте Гиппократовых знаний великое здание медицины, неколебимо зиждящееся более полутора тысяч лет, и стоять оно будет вечно, ибо никто не смог проникнуть в таинство лечения так глубоко и верно, как Гален. Поймите раз и навсегда, поглотители кислого вина и тухлых бобов: то, что существует шестнадцать веков, уходит в вечность, оно несокрушимо и непогрешимо. Учтите, ласкатели пьяных потаскух, что в учении Галена всё – от альфы до омеги, каждая буква, каждый непонятный нам знак – святая истина, непогрешимая и неисчерпаемая в мудрости своей. Поняли, дурацкие морды, похотливые козлы, грязные чревоугодники?
– Поняли! – блажными голосами кричим мы, и я совсем тупею от этого унылого идиотизма.
А лиценциат Брандт, размахивая тростью, надрывается:
– Не вам, обжорам, распутникам и лентяям, а великому Галену отчеканил император Антоний золотую медаль с надписью: «Антоний, император римлян, – Галену, императору врачей». И как власть монаршая, Богом освященная, вечна, так пребудет вечно в умах учение Галена…
Флорентиец Коломбини бормочет с места:
– От империи Антония не оставил ни камня, ни памяти Алларих, вождь вестготов.
Брандт проворно соскакивает с кафедры:
– Кто перебил учителя? Ты, Гогенгейм? Ты ведь всегда хочешь быть умнее всех…
– Господин лиценциат, мои уста замкнуты на замок безграничного почтения к вам. Когда вы вещаете, я вкушаю сладость и аромат вашей речи…
– Замолчи, идиот. Вы, швабы, все идиоты, картежники и поглотители пива. Значит, перебил меня ты, Франсуа Амбон.
– Я… я… я… – начинает вытягивать свою долгую песню заика Амбон.
– Замолчи, мне некогда выяснять, кто из вас дерзец. Один из вас должен быть наказан, и сегодня это будешь ты.
И палка с визгом запрыгала по голове, по плечам, по спине несчастного заики Амбона, и сердце мое исполнено сочувствия к нему, потому что вкус палки Брандта мне ведом лучше, чем кому-либо другому из всех штудиоров. Я не сержусь на Брандта – он не может относиться ко мне по-другому, будучи ростом как раз мне до пояса. Маленькие человечки всей своей натурой ненавидят долговязых.
Брандт поспешно возвращается на кафедру:
– Повторяйте за мной и запоминайте с прилежанием, ибо вы, дармоеды, готовы терпеть даже побои, лишь бы не учиться. Вторите мне: Гален многомудрый указал – природа ничего не делает без цели…
– …ничего не делает без цели…
– Писано было Галеном, что состоит наш организм из четырех гуморес, и равновесие этих жизненных соков – крови, слизи, желчи светлой и черной – поддерживается могучей и непознанной силой по имени физис…
– …силой по имени физис…
– И должен врач вмешиваться в болезнь, только если зрит очами своими явно, что наступило расстройство физиса, не владеющего больше могуществом смешения четырех соков, и самый искусный врач тот, кто лечит наблюдением над физисом, не вмешиваясь в ход природных соков организма…
– …не вмешиваясь в ход природных соков организма…
– Ибо человек – только плотская машина, подчиненная душе.
– …плотская машина, подчиненная душе…
– Черпает силы физис из пневмы, которая входит в нас при дыхании…
– …входит в нас при дыхании…
– Всё поняли, безмозглые быки?
– Всё поняли, господин лиценциат!
– Урок закончен, идите с миром, хотя сердце мое скорбит о том, что вы наверняка используете свободное время не для познания мудрости, а для грязных и греховных услад. Аминь. Пошли вон отсюда…
И мы не тратим, конечно, свободное время для познания университетской мудрости – ее и так дают нам слишком много; мне хватило ее на всю жизнь, и впоследствии с отвращением к самому себе, даже против воли, я цитировал на память огромные куски из Галена, Авиценны и Аверроэса…
Глава 4
К вопросу о царевне Несмеяне
Исследовательский центр помещался в современном модерновом здании – сплошь стекло и пластик. Издали он был похож на аэропорт, а внутри на зимний стадион. Стекло было кругом: стеклянные витражи, стены, часть потолков, и только турникет за стеклянными дверями у входа был металлический. Турникет казался частью тела вахтера, усовершенствованным продолжением его корявого туловища, блестящим окончанием рук. Вахтер внимательно рассматривал мое удостоверение, читал его снова и снова, как будто надеялся найти в нем что-то такое, что разрешило бы ему меня не пропустить. Но пропуск был заказан, и в удостоверении, наверное, оказалось все нормально, потому что он сказал:
– Ну что ж, проходите. – И в голосе его плыло сожаление.
Вверх по лестнице – два марша, бесконечный коридор, поворот направо и стеклянная дверь с надписью «Секретарь». Я всегда заново удивляюсь, когда на двери руководителя не пишут его фамилию; на приемной указано «Секретарь», будто секретарь и является здесь самой главной фигурой, а имя Того, Чей вход она охраняет, лучше не называть.
В этом стеклянном аквариуме царила сказочная тропическая рыбка. Рыбке было лет двадцать, и выглядела она очень строгой. И оттого, что она была строгой, казалась еще моложе и красивее. Я поздоровался с ней и сказал:
– Вы похожи на подсолнух. У вас длинные желтые волосы, черные глаза, а сама вы тоненькая и в зеленом костюме.
На что она мне ответила:
– Вам было назначено на тринадцать часов, вы опоздали на семь минут.
Я сказал:
– Ваш вахтер виноват. Он продержал меня восемь с половиной минут, рассматривая удостоверение.
– Объясните все профессору Панафидину. Александр Николаевич сам никогда не опаздывает и не любит, когда это делают его визитеры. Теперь сидите ждите, у него товарищи, он освободится минут через сорок.
– Прекрасно, – сказал я. – У вас буфет или столовая есть?
– На нашем этаже есть буфет, – не выдержала, улыбнулась рыбка. Видимо, ее рассмешило, что я из неудачи хочу извлечь вполне конкретную пользу. – Приятного аппетита.
– Спасибо. – И я отправился искать гастрономический оазис в этой стеклопластиковой канцелярской пустыне.
В другом аквариуме, точно таком же, как тот, где обитала тропическая рыбка-секретарша, стояла кофейная экспресс-машина и за дюжиной столиков расположилось довольно много людей. На меня не обратили ни малейшего внимания, я взял свою чашку кофе с бутербродами, сел за свободный стол в центре комнаты и не спеша огляделся. За соседними столиками люди были озабочены и беззаботны, молоды и зрелы, веселы и мрачны, и разговоры их прозрачным мозаичным куполом висели над моей головой:
– Да что ты мне баки заливаешь? При чем здесь эффект Мессбауэра?..
– В Доме обуви вчера давали сапоги на платформе по восемьдесят рэ. Потряска!..
– Перцовскому оппонент диссертацию валит…
– Брось ты, его Витторио Гасман играет. Он раньше в «Обгоне» снимался…
– А вы еще продукт на ЯМР не сдавали?..
– Да не надо ему было за фосфозены браться. Он же в этом ничего не петрит…
– Конечно везун – и все. Ему «Арарат» с золотыми медалями сам в руки упал…
– А мы на осциллографе сняли все кривые. Не-а, с кинетикой вопросов нет…
– Валька Табакман в отпуске на Чусовой был. Икону обалденную привез – пятнадцатистворчатый складень, закачаешься. Он ее глицеральдегидом чистит…
– В Сибирском отделении кремнийорганики нужны. Если с катализом сорвется, ты подумай…
– Ну и жуки! Пронякин только отбыл в ИОНХ, они тут же притащили в дьюаровском сосуде пять литров пива и в муфеле шашлыка нажарили – красота…
– Галке муж из Болгарии дубленку привез…
– А зачем? Можно ведь рассмотреть физический смысл кольца Мёбиуса…
– Ничего не значит – Сашку Копытина у нас четыре года младшим продержали, а в Нефтехиме он за два года докторскую сделал…
– А я плюнул на все, везде наодолжался и за кооператив внес. Две сто – Северное Чертаново…
– Панафидин строит сейчас какую-то грандиозную установку…
– У Риммочки в субботу день рождения был…
– Пенкосниматель – ваш Панафидин…
– Талантливых людей никто не любит…
– Девчонки из его лаборатории стонут – присесть некогда…
– Панафидин лентяев не держит…
– Он себе «жигуля» красного купил…
– Рожа у него самодовольная…
– Бросьте, девочки, он очень цельный человек…
– …Панафидин…
– …Панафидин…
В стерильно чистом кабинете и намека не было на так называемый творческий беспорядок. Каждая вещь стояла на своем месте, и чувствовалось, что, прежде чем поставить ее сюда, хорошо подумали. Но, пожалуй, больше всего на месте был хозяин кабинета. Такого профессора я видел впервые в жизни: ему наверняка и сорока еще не было. Жилистый, атлетического вида парень в элегантных очках, шикарном темно-сером костюме «эври-тайм», ярком, крупно завязанном галстуке с платиновой булавкой. И лицо, безусловно, «штучное» – я на него просто с завистью смотрел. Длинные соломенно-желтые волосы, могучие булыжные скулы, чуть впалые щеки, несокрушимый гранит подбородка. А за продолговатыми стеклами очков, отливающих голубизной, льдились спокойные глаза умного, хорошо знающего себе цену мужчины.
И от всего этого человеческого монолита, свободно расположившегося в удобном кресле за сверкающей крышкой пустого письменного стола, веяло такой железной уверенностью, таким благополучием, такой несокрушимой решимостью сделать весь мир удобным для потребления, что я немного растерялся и сказал как-то неуверенно:
– Вам должны были звонить обо мне. Я инспектор МУРа Тихонов…
– Очень приятно. Профессор Панафидин. Прошу садиться.
И я сразу обрел утраченную на мгновение уверенность, потому что из этого сгустка целенаправленной человеческой воли тоненьким голосом пропищала обычная людская слабость – рядовое маленькое тщеславие, ибо в традиционной формуле приветствия и знакомства я уловил горделиво-радостное удовольствие от произнесенного вслух своего титула – символа принадлежности к особому кругу отмеченных божьим даром людей. И еще я понял, что профессорское звание Панафидин носит недавно.
Я уселся в кресло, протянул Панафидину криминалистическое заключение и отдельный листок с вычерченной экспертами формулой вещества, извлеченного из пивной пробки.
– Нам нужна ваша консультация по поводу этого вещества. Кем производится, где применяется, для чего предназначено.
Панафидин бегло прочитал заключение, придвинул листок с формулой и внимательно рассматривал ее; при этом он шевелил верхней губой и указательным пальцем двигал по переносице очки. Я разглядывал пока кабинет. На подоконнике лежала прекрасная финская теннисная ракетка, а в углу, рядом с вешалкой, белая спортивная сумка с надписью «Adidas» – предмет вожделения всех пижонов. Панафидин поднял на меня сине-серые, чуть мерцающие, как влажный асфальт, глаза, спросил:
– А у вас что, есть такое вещество? – И мне показалось, что он взволнован.
– У меня – нет, – сказал я.
Я готов был поклясться, что Панафидин облегченно вздохнул. Отодвинув листок, сказал с холодной усмешкой:
– Ваши эксперты ошиблись. Это артефакт. – И снисходительно пояснил: – Искусственный факт, научная ошибка, небыль.
– Почему? – настороженно спросил я, совершенно отчетливо заметив растянутый на несколько мгновений перепад настроения Панафидина.
– Потому что такого вещества, к сожалению, еще не существует. – Панафидин кивнул на листок с эскизом формулы. – Эта штука называется «Пять-шесть диметиламинопропилиден-десять-семнадцать-дигидрооксибен-эоциклогептан гидрохлората». Похоже на сильнодействующее лекарство триптизол, но, видимо, во много раз сильнее за счет аминовых групп…
– Как же вы можете запомнить такое? – с искренним недоумением спросил я.
– Во-первых, я читаю по формуле, – усмехнулся Панафидин. – Во-вторых, мы сами занимаемся этим. Довольно давно. И к сожалению, пока безрезультатно.
– То есть вы хотите сказать, что науке неизвестно это вещество?
Видимо, я сказал что-то не так, потому что Панафидин снова – еле заметно – усмехнулся и пояснил:
– Химикам известно это соединение, но только на бумаге. Получить его, хотя бы лабораторно, «ин витро», нам пока не удается.
– Чем же объясняется ваш интерес к этому соединению?
– По нашим представлениям, это транквилизатор гигантского диапазона действия. Существование такого лекарства могло бы произвести революцию в психотерапии…
– В чем отличие его от существующих транквилизаторов?
Панафидин задумчиво покрутил пальцем на столе зажигалку – красивую обтекаемую вещицу, похожую на кораблик, – внимательно посмотрел на меня:
– По-видимому, вы в этих вопросах не совсем компетентны, поэтому я постараюсь упростить все до схемы. Суть состоит в том, что двадцать лет назад доктор Бергер выпустил из бутылки джинна, которому ученые присвоили название «транквилизатор», то есть «успокаивающий». Началась эра прямого воздействия химии на психическое состояние человека. В целом это было исключительно своевременное открытие, потому что неизбежные вредные последствия научно-технического прогресса – умственные перегрузки, бешеный поток информации, уровень шума, общий темп жизни – все стало обгонять способность нашей психики прилаживаться к переменам в мире.
Зазвонил телефон.
– Извините, – сказал профессор и снял трубку. – Панафидин у телефона. А-а! Сколько лет, сколько зим! В наше время, чтобы дружить, надо или жить рядом, или вместе работать… Если хочешь, приезжай сегодня на стадион «Шахтер», там прекрасный корт… Нет, я на «Химик» не езжу – неинтересно. Ну и отлично! До вечера, обнимаю. – Панафидин опустил трубку на рычаг и без малейшей паузы продолжил: – Результатом отставания нашей психики от прогресса явились нервные перегрузки, депрессии, необъяснимые страхи. И тут появились транквилизаторы, снимающие подобные явления. Естественно, что они стали широко применяться во всем мире…
Я перебил Панафидина:
– На какие органы воздействуют транквилизаторы?
Панафидин чиркнул зажигалкой, закурил сигарету, подул, отгоняя от себя синее облако дыма, затем не спеша сказал:
– На лимбическую систему – есть такая между большими полушариями мозга и его стволом. Грубо говоря, именно здесь рождаются человеческие эмоции. Так вот, после открытия Бергера химики, психиатры и психологи стали искать во всех направлениях аналогичные лекарства.
– Вы сказали: «Химики стали искать». Что, подбирать на ощупь? – спросил я.
– Ну, не совсем так. Скорее, даже совсем не так. Конечно, элемент слепого поиска присутствует в любом эксперименте, но мы выбираем вещества одного класса и группы. И препарат мы ищем с заранее запрограммированными свойствами.
– И вот это, – я кивнул на листок с формулой, – должно реагировать по заданному механизму?
– Да, мы твердо рассчитываем на это. Но, к сожалению, вещество сие пребывает пока только в области наших научных планов и пожеланий. Интерес химиков и врачей к нему таков, что еще не полученное соединение уже окрестили – мы называем его метапроптизол. Вот только получить его еще никому не удалось, во всяком случае по моим сведениям, а мы следим за всей мировой литературой по этому вопросу.
Я спросил:
– А почему вы считаете, что такое лекарство произвело бы революцию?
– Хм! Постараюсь объяснить популярно. Вы помните сказку про царевну Несмеяну?
– Ну?
– Царевна была печальна, удручена, несчастна. И никогда не смеялась. Потом явился Иван-царевич, дал ей что-то, волшебную ягоду, что ли, не помню. И Несмеяна засмеялась. Улавливаете?
– Нет пока…
– Мифы основаны на важных истинах. Девочка Несмеяна была психически больна. Иван-царевич дал ей какой-то неведомый транквилизатор – и она выздоровела. Так возник миф. А действительность… ну что вам сказать? С помощью большого транквилизатора можно было бы побороть гипертонию, язвы, депрессии, неврозы. Шизофрению, наконец. Главный же смысл лекарства в том, что оно снимало бы полностью человеческие нервные перегрузки. Человек был бы избавлен от таких состояний, как страх, испуг, подавленность.
– Вот, оказывается, как это просто, – сказал я. – Науке остается только получить лекарство – и порядок. Раскрыть, так сказать, секрет Ивана-царевича…
– К сожалению, это не так просто. Дело в том, что мы пока что самого-то Ивана плохо знаем. Человечество зазналось от своих микроскопических научных побед. Человека распирает гордость оттого, что он топает по Луне, спустился на дно океана, поймал чуть ли не в ладонь нейтрино. Но о самом себе человек не знает почти ничего. Почти ничего или катастрофически мало.
Я поднял руки:
– Не разочаровывайте меня. Я был лучшего мнения о достижениях медицины.
– Не надо понимать меня слишком буквально. Современная наука не разделяет точки зрения Заратустры, который считал печень местопребыванием всех страстей и огорчений. У нас другая позиция. Однако, если оценивать мир достаточно трезво, не больно-то далеко мы ушли от этих представлений.
Я ухмыльнулся:
– У вас отношение к человеческому существу еще проще, чем у патологоанатома.
Панафидин пожал плечами:
– Откуда ему взяться, другому отношению?..
Зазвонил телефон. Панафидин извинился и снял трубку:
– Владимир Петрович! Я вас приветствую. Разумеется, помню обо всем и подтверждаю: долг платежом красен. Да, да, да, это я понимаю. Но вы и меня поймите – мне тоже надо лавировать. Лично быть оппонентом я готов хоть завтра, а обещать свою контору в качестве оппонирующей организации – не могу… А я вам и говорю прямо и честно: тáк за мои труды мне и хула и почести, а тáк – на дядю работа. У меня и без того со временем туго, не хватало еще, чтобы кто-то на моем хребте в рай въезжал… Это пожалуйста – думайте. Обнимаю вас, мой дорогой… – Он положил трубку и хмыкнул: – Ишь, деятели, дурачков ищут. Ну ладно, вы сетовали на упрощенность…
– Не будем спорить, – сказал я примирительно, потому что понял, что дискуссия может завести нас слишком далеко. Я взял в руки листок с нарисованной чудовищной формулой, посмотрел на него, и было мне это совершенно непонятно. – Александр Николаевич, вы сказали, что по формуле вещество похоже на триптизол. Какая, по вашим наблюдениям, доза триптизола понадобилась бы, чтобы здоровый человек, приняв ее, через десять – пятнадцать минут потерял сознание?
Панафидин удивленно посмотрел на меня:
– Странный вопрос, мне никогда не приходилось с ним сталкиваться. Ну, прикинем. – Он взял ручку, написал что-то на листе бумаги, что-то перемножил. – Думаю, что таблеток тридцать в обычной расфасовке по ноль двадцать пять миллиграмма на порцию. А что? Почему у вас возник такой вопрос ко мне, если не секрет?
Я подумал и решил, что ему можно сказать.
– Дело в том, что вот этим веществом, которого, как вы полагаете, еще не существует даже в лабораторных количествах, был отравлен человек. Нам очень интересно, откуда преступник мог его взять.
Панафидин вскинул на меня глаза, и мне показалось, что он побледнел.
– Отравлен? – переспросил он каким-то осевшим голосом. – Минуточку… Минутку… А почему вы думаете, что именно метапроптизолом?
– Не я так думаю, эксперты наши говорят…
– Понятно, что не вы думаете!.. – с неожиданной для меня злой досадой перебил Панафидин. – На каком основании они пришли к такому выводу? Труп исследовали?
– Не-ет, до этого дело не дошло, – сказал я, и мгновенный испуг окатил меня холодной волной, когда я представил себе Позднякова мертвым. – Человек-то выжил…
– Так что́ же они исследовали, черт возьми?! – закричал Панафидин, и тут же зазвонил телефон. Он рывком схватил трубку, не слушая, рявкнул: «Я занят. Позже!» – и шваркнул трубку с такой силой, будто хотел выместить на ней злость на мою непонятливость. – Что? Откуда они пришли к этой формуле? Какое вещество они исследовали?!
Я сказал спокойно:
– Пробку от пивной бутылки. В бутылке был растворен яд…
– Пробку? Но там же ничтожно малые следы… Разве могут ваши эксперты…
– Могут, – авторитетно сказал я и вспомнил Халецкого. – Наши эксперты все могут.
Панафидин резко поднялся:
– В таком случае я хотел бы сейчас же поговорить с ними. И посмотреть протоколы анализов… если можно.
– К сожалению, экспертов нет сегодня, – сказал я на всякий случай. – У них республиканское совещание. Через день-два – пожалуйста.
Панафидин сел.
– Черт побери все совещания… – сказал он почти механически и надолго задумался, энергично растирая лоб холеными длинными сильными пальцами. – Нет, не может быть. Артефакт. Артефакт… Ошибка…
Я пожал плечами, а Панафидин продолжал бормотать себе под нос:
– Ну, хорошо, отравили, допустим. Но почему, зачем метапроптизолом?! Чушь какая! Сколько ядов существует! Так или нет, инспектор? Я вас спрашиваю!
– Вам виднее, – сказал я нейтрально.
Тут, вероятно, новая мысль промелькнула у Панафидина, и он спросил быстро:
– Преступник задержан?
– Мы с этим разбираемся, – ответил я уклончиво. – Факт тот, что, если эксперты не ошиблись и вещество все-таки открыто, первой же дозой его преступник распорядился совсем не по назначению.
– А кого отравили? Опять же, если не секрет?
– Был отравлен работник милиции, – сказал я. – Преступник похитил у него пистолет и служебное удостоверение.
– Азия какая, дикость, – пробурчал Панафидин, взяв наконец себя в руки. – Сотни людей ищут соединение, чтобы исцелить страждущих, а какой-то дикарь травит им здорового человека.
И снова зазвонил телефон. Уже не извиняясь, Панафидин снял трубку:
– Да, я. Здравствуйте, Всеволод Сергеевич… Что Соколов? Три года его аспирантского срока истекли, эксперимент он закончил, пусть теперь уходит и пишет на покое диссертацию. Нет, я его на этот срок к себе не возьму. Мне это неприятно вам говорить, но вы знаете мою прямоту и принципиальность в научных вопросах. Ваш Соколов – парень хоть и неглупый, но неорганизованный и полностью лишенный интуиции синтетика. Он работы не понимает, не имеет к ней вкуса и интереса, он не любит химию. А за прекрасные анекдоты и шутки, которыми он три года развлекал лабораторию, я держать у себя захребетника не стану. Вы уж простите меня, но я лучше в глаза всегда скажу. Пусть сам побарахтается. Нам ведь с вами никто диссертаций не писал, а защищались мы досрочно потому, что свое дело любили и кушать хотели. Ну, этого я не знаю, решайте по своему усмотрению. – И закончил злобно: – Всего вам доброго.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































