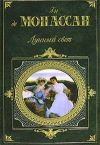Текст книги "Слова любви. Рассказы. Перевод Елены Айзенштейн"
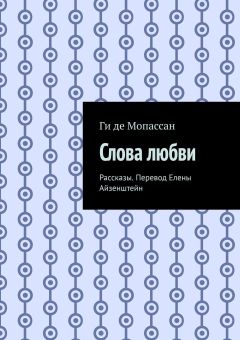
Автор книги: Ги де Мопассан
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Ржавчина возраста
У него была одна беспокойная страсть: охота. Он охотился все дни, с утра до вечера, с неистовой запальчивостью. Охотился зимой, как летом, весной, как осенью, на болотах, когда было запрещено охотиться в лесу и на равнине; охотился с гончими, охотился с собакой остановившейся, с собакой бегущей, наблюдая, поджидая в зеркале, охотился на хорька. Он не говорил ни о чем, кроме охоты, мечтал об охоте, повторял без конца: «Как были бы мы несчастны, если бы не любили охоту!»
Ему стукнуло пятьдесят, все шло хорошо, он оставался моложавым, несмотря на лысоватость, небольшую тучность и крепость. Он носил подстриженные усы, чтобы открыть губы и сохранить свободу рта: так удобнее было звонить в охотничий рог. В местности, где он жил, его называли коротко: мосье Гектор. Полное имя его – барон Гектор Гонтран де Кутелье. Он жил посреди леса, в маленьком наследном особняке; и он знал все местное дворянство и встречал в дни охоты всех мужественных его представителей; он часто бывал в одной семье, де Курвилей, своих милых соседей, веками живших рядом с представителями его рода.
В этом доме, где его баловали, любили, тешили, он как-то сказал: «Если бы я не был охотником, я бы никогда вас не покинул».
Мосье де Курвиль был его другом и товарищем с самого детства. Благородный фермер, он жил спокойно со своей женой, дочерью и зятем, мосье Дарнето, который ничего не делал под предлогом того, что изучает историю.
Барон де Кутелье часто обедал со своими друзьями, главным образом, для рассказов о своих охотничьих выстрелах, о собаках и хорьках, о которых он рассказывал, как о выдающихся личностях, которые ему хорошо известны. Он обнажал их мысли, их изобретательность, анализировал их, объяснял: «Когда Мёдор видел, что коростель пытается убежать, он говорил себе: «Подожди, мой мальчик, мы еще посмеемся». И тогда, сделав мне знак головой, чтобы я разместился в углу клеверного поля, он начинал просить с увертками, с громким шумом в неугомонных травах, чтобы подтолкнуть дичь в тот угол, откуда животное не могло больше убежать. Все происходило, как он предвидел; коростель вдруг оказался на меже. Невозможно было пойти дальше, не обнаружив себя. Коростель крикнул: «Щипок, собака!» – и скрылся. Мёдор тогда повалился, остановившись, и стал смотреть на меня; я сделал ему знак; он попытался. – Бру-у-у – коростель улетел прочь – я ручье на плечо – пах! – он упал; и Мёдор, сообщая об этом, задвигал хвостом, чтобы сказать мне: «Он играет там, мосье Гектор?»
Де Курвиль, Дарнето и две женщины безумно смеялись над этой живописной историей, в которую борон вложил всю свою душу. Он оживлялся, двигал руками, жестикулировал всем телом, и, когда он рассказывал о смерти дичи, грозно смеялся и в заключение всегда спрашивал: «Что ж, хороша?»
Если говорили о других вещах, он больше не слушал и пытался все время гудеть один, как оркестр. Кроме того, когда между двумя фразами наступала пауза, в такие моменты внезапного затишья, разрезавшие ропот слов, слышалось вдруг охотничье: «Тон-тон, тон-тэнь-тон-тон». И барон пытался надуть щеки, как если бы дул в свой рог.
Он никогда не жил ничем, кроме охоты, и старел, не сомневаясь в правильности этого и не замечая этого. Однажды вдруг он почувствовал атаку ревматизма и два месяца был вынужден оставаться в постели; он чуть не умер от печали и скуки. Поскольку у него не было служанки, на его кухне хозяйничал старый слуга, он не получал ни горячих компрессов, ни маленьких забот – ничего из того, что нужно больным. Его слуга был его медицинской сестрой, и этому молодцу было скучно не меньше, чем его хозяину; день и ночь он спал в кресле, пока барон ругался и раздражался между двух простынь.
Дамы де Курвиль приходили иногда навестить его; это были для него часы спокойствия и благополучия. Они готовили для него чай, заботились об очаге, любезно подавали ему завтрак в постель; и, когда они уходили, он бормотал: «Боже мой! Вы должны здесь жить». И от всего сердца они смеялись.
Когда ему стало лучше и он начал охотиться на болоте, он пошел вечером поужинать со своими друзьями; но у него больше не было задора и веселости. Бесконечная мысль мучила его: страх перед открытием охоты быть повторно захваченным болезнью. Когда настало время уходить, тогда женщины покрылись шалями, а он закутался в шейный платок, и в первый раз в жизни он пробормотал: «Если это повторится, я человек конченный». Когда он ушел, мадам Дорнето сказала своей матери: «Нужно женить барона».
Весь свет понялся на ноги. Почему до сих пор мы не подумали об этом? Все вечера стали искать среди вдов, которых знали, и выбор остановился на женщине лет сорока, еще красивой, достаточно богатой, с хорошим настроением и хорошо сложенной, на мадам Берте Вилерс.
Ее пригласили провести месяц в шато. Ей было скучно, и она приехала. Она была разговорчива и весела. Мосье де Кутелье ей сразу понравился. Она играла с ним, как с живой игрушкой, и целые часы проводила, лукаво спрашивая его о чувствах кроликов и кознях лисиц. Он на полном серьезе отличал разные способы поведения разных животных, он ей сообщал планы и тонкие рассуждения, как человек знающий. Внимание, которое она ему оказывала, восхищало его; и однажды, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение, он взял ее на охоту, что он еще никогда не делал ни для одной женщины. Приглашение было так забавно, что она приняла его. Сами сборы на охоту стали для него праздником; все узнали об этом и что-то ему предлагали; она появилась в костюме амазонки, в сапогах, в мужском трико, в короткой юбке и в бархатном пиджаке, слишком узком у горловины, и в кепке служащего, ухаживающего за собаками.
Барон казался взволнованным, как если бы он делал свой первый выстрел из ружья. Он кропотливо объяснял ей направление ветра, различные собачьи повадки, тип охоты на дичь; затем он подтолкнул ее в поле и следовал за нею шаг в шаг, с заботой кормилицы, которая следит за своим выкормышем, делающим первые шаги.
Мёдор нашел, пополз, остановился, поднял лапу. Барон позади своей ученицы, казалось, дрожал, как лист. Он пролепетал: «Внимание, внимание, куро… куро… куропатка…»
Еще ничего не закончилось, как сильный шум сотряс землю, брр, брр, брр – и полк больших птиц, стуча крыльями, поднялся в воздух. Испугавшись, мадам Вилерс закрыла глаза и, выпустив два патрона, отступила на шаг под действием толчка ружья; потом, когда самообладание вернулось к ней, она заметила, что барон танцует, как безумный, а Мёдор тащит за хвосты двух куропаток.
Начиная с этого дня, мосье де Кутелье влюбился в нее.
Поднимая глаза, он сказал: «Какая женщина!» – и теперь все вечера он приходил, чтобы поговорить об охоте. Однажды мосье де Курвиль, который провожал гостя и слушал его восторги про новую подругу, вдруг спросил: «А почему бы тебе не жениться на ней?» Барон был захвачен врасплох: «Мне? Мне? Жениться? Но… на самом деле…» И он замолчал. Потом, поспешно сжав руку своего товарища, он пробормотал: «До свидания, мой друг», – и большими шагами исчез в ночи.
Три дня его не было. И, когда он появился вновь, он был бледен от размышлений и более серьезен, чем обычно. Он отвел де Курвиля в сторону: «У вас была известная вам идея. Попытайтесь приготовить меня к принятию ее. Боже мой, женщина, как эта, можно сказать, создана для меня. Мы охотимся вместе весь год».
Де Курвиль, уверенный, что ему не откажут, ответил: «Задайте ваш вопрос сразу, мой дорогой. Хотите ли вы, чтобы я это взял на себя?» Но барон сразу засомневался и пролепетал: «Нет, нет… нужно сначала, чтобы я сделал маленький вояж, маленький вояж… в Париж. И вот когда я вернусь, я окончательно вам отвечу». Не дав других разъяснений, назавтра он уехал.
Поездка длилась долго. Неделя, две недели, три недели прошли, мосье де Кутелье не возвращался. Де Курвили, удивленные, обеспокоенные, не знали, что сказать его подруге, которую они должны были предупредить о возвращении барона. Каждые два дня они отправляли к нему за новостями; никто из слуг ничего не получал.
Однажды вечером мадмуазель Вилерс пела в сопровождении фортепиано, служанка в великой тайне пришла, чтобы отыскать господина де Курвиля, так как его спрашивал мосье. Это пришел барон, изменившийся, постаревший, в дорожном костюме. Увидев своего старого друга, он схватил его за руки и немного усталым голосом сказал: «Я хочу вам сказать сразу… что это… это дело, которое вы знаете, вы хорошо знаете, невозможно».
Мосье де Курвиль в изумлении посмотрел на него: «Как? Невозможно? И почему?»
– Не спрашивайте меня, я вас прошу, это было бы слишком мучительно говорить, но будьте уверены, что я действую…, как честный человек. Я не могу… Я не имею права, вы слышите, права, жениться на этой даме. Я ждал, что она уедет, чтобы вернуться к вам; прощание было бы слишком мучительно. Прощайте.
И он тотчас ушел.
Вся семья рассуждала, спорила, предлагала тысячу причин. Решили, что великая тайна заключена в жизни барона, у которого, может быть, были свои дети, старая связь. Дело казалось серьезным; и, чтобы не входить в сложные перипетии, они искусно предупредили мадам Вилерс, которая, как и раньше, вернулась домой вдовой.
Прошло еще три месяца. Однажды, когда мосье Кутелье как следует пообедал и немного покачивался от выпитого, он, куря трубку вместе с мосье де Курвилем, сказал ему:
– Если бы вы знали, как часто я думаю о вашей подруге, вы бы сжалились надо мной.
Поведение барона в этот момент было слегка скомканным. Де Курвиль живо высказал ему свою точку зрения:
– Боже мой, мой дорогой, когда бы не тайны в существовании, не стоило начинать, как сделали вы, потому что вы, конечно, могли предвидеть причину вашего бегства.
Сконфузившись, барон перестал курить.
– И да, и нет. В конце концов, я бы не поверил в случившееся.
Мосье де Курвиль в нетерпении сказал:
– Мы должны все предвидеть.
Но мосье де Кутелье, проверяя глазами сумрак, чтобы быть уверенным, что нас никто не слышит, тихо сказал:
– Я прекрасно вижу, что я вас ранил, я обязан вам все рассказать и принести свои извинения. В течение двадцати лет, мой друг, я нигде не бывал, кроме охоты. Мне только это нравится, я не мог занять себя ничем, кроме охоты. В момент заключения брачного договора с этой дамой, ко мне пришли угрызения, угрызения совести. С тех пор как я потерял привычку… любить… наконец, я не знаю больше, буду ли я еще в состоянии… Вы хорошо понимаете…
Он задумался.
– Вообразите, теперь уже шестнадцать лет, как это было в последний раз. В этой местности это нелегко… любить. И потом мне нужно было сделать другую вещь. Я больше люблю стрелять из пистолета. Короче говоря, когда я оказался перед мэром и священником с …., которую вы знаете, я испытал страх; вы знаете я испугался. Я сказал себе: «Ба, но если… если… я потерплю неудачу». Благородный человек никогда не нарушит своих обязательств; я давал священное обязательство этому человеку; наконец, чтобы иметь ясность на сердце, я пообещал себе восемь дней провести в Париже.
По прошествии восьми дней ничего, ничего не изменилось. Это не ошибка. В Париже я взял лучших в своем роде. Я вас уверяю, что они сделали все, что могли… Да, конечно, они ничего не изменили. Но что вы хотите, они всегда уходили… с пустыми руками… с пустыми руками… с пустыми руками.
Я ждал еще пятнадцать дней, три недели, постоянно надеясь. Я ел в ресторане кучу перченых вещей, которые портили мой желудок, и… и… ничего… Все время ничего.
Вы понимаете, что в данных обстоятельствах, в констатации факта я могу только… только… уйти. Что я и сделал.
Мосье де Курвиль сдерживался, чтобы не рассмеяться. Он крепко пожал руку барона, сказав: «Я вас жалею», – и проводил до полпути к его дому. Потом, оставшись наедине со своей женой, сдерживая смех, он ей все рассказал. Но мадам де Курвиль не смеялась. Она очень внимательно выслушала, и, когда муж закончил, она ответила с большой серьезностью:
– Барон бестолков, мой дорогой, он боится, вот и все. Я напишу Берте, чтобы она возвращалась, и как можно скорее.
И, поскольку мосье де Курвиль возражал против долгого и бесполезного испытания своего друга, она повторила:
– Ба! Когда любят женщину, слышите вы? эта вещь там… всегда возвращается.
И мосье де Курвиль ничего не ответил, сам немного сконфузившись.
Маррока
Мой друг, ты просишь меня рассказать о моих впечатлениях, о моих приключениях и, особенно, о моей любовной истории на земле Африки, которая с давнего времени мне так нравилась. Раньше ты много смеялся о моих, как ты их называл, черных нежностях; ты уже представлял мое возвращение с крупной чернокожей женщиной, закрытой желтым платком, летящей в блестящих одеждах.
Придет, без сомнения, очередь африканки, так как я видел уже нескольких, которые мне дали некоторое желание окунуться в эти чернила, но для начала я наткнулся на кое-что получше, необычайно оригинальное.
Ты писал мне в своем последнем письме: «Если бы я знал, как любят в стране, я бы знал, как описать эту страну, лучше, чем если я бы увидел ее». Знаешь, здесь любят исступленно. С первых дней чувство – разновидность трепещущего пламени, восстание, внезапное напряжение желания, нервный бег кончиков ваших пальцев, которые перевозбуждены, раздразнены любовной властью и всей областью наших физических чувств, начиная от простого контакта рук до той невыразимой необходимости, заставляющей совершать столько глупостей.
Слушай внимательно. Я не знаю, что называют любовью сердца, любовью души, если сентиментальный идеализм и, наконец, платонизм, могут существовать под этим небом, сомневаюсь. Но другая любовь, любовь чувств, которая должна быть прекрасна, более прекрасна, поистине ужасна в этом климате. Жара – это постоянный перегрев воздуха, который лихорадит, это душное дыхание Юга, это приливы огня, пришедшего из великой пустыни так близко, этот тяжелый сирокко, самый бурный, иссушающий, так что пламя (этот бесконечный огонь всего целиком континента, целиком сожженного до камней огромным и пожирающим солнцем) обнимает кровь, дает безумие плоти, смущает.
Но я перехожу к моей истории. Я ничего тебе не расскажу о моих первых днях в Алжире. После того как я посетил Бон, Константин, Бискру и Сетиф, через ущелье Шабет я приехал в Бужи, и несравненная дорога посреди кабильских лесов, которая возвышалась над морем на 200 метров, и извивалась на высокогорье, почти до чудесного залива Бужи, такого же прекрасного, как тот, что в Неаполе, как Аяччо и в Дуарнене, самая восхитительная из тех, что я знаю. Я исключил из моего сравнения бухту Порто, опоясанную красным гранитом, населенную фантастическими и кровавыми каменными великанами, которых в Пьене, на западном побережье Корсики, называют «Калонш».
Из далекого далека, перед тем как обойти огромный водоем, где мирно спит вода, можно завидеть Бужи. Оно построено на быстрых боках очень высоких, увенчанных лесом гор. Это белое пятно на зеленом склоне; говорят, пена каскадом падает там в море.
В тот момент, когда я стоял у подошвы этого маленького и восхитительного городка, я понял, что останусь здесь надолго. Со всех сторон взгляд обнимал огромный круг крючковатых, зубчатых, рогатых и странных вершин, настолько закрытых, что открытое море раскрывалось понемногу, а залив напоминал озеро. Голубая вода, молочная вода были восхитительной прозрачности; лазурное небо, мирное небо, как будто двуцветное, изливало свою изумительную красоту.
Бужи является городом развалин. Придя на набережную, встречаешь восхитительные обломки, так что можно говорить о произведении искусства. Это старый порт сарацинов, захваченный плющом. И в горном лесу вокруг городка повсюду – руины, грани римских стен, кусочки памятников сарацинов, остатки арабских построек.
Я снял в верхней части города маленький домик в мавританском стиле. Ты знаешь эти так часто описываемые жилища. Снаружи они не имеют окон, но внутренний двор их сияет сверху донизу. Они имеют, во-первых большую свежую залу, где можно проводить дни, и, во-вторых, наверху – террасу, где проводят ночи.
Я сразу перенял обычай жарких стран – устраивать сиесту после завтрака. Душный час в Африке – час, когда нечем дышать, час, когда улицы, равнины, широкие слепящие дороги пусты, когда все спит или, по крайней мере, пытается спать, как можно менее, насколько это возможно, обременяя себя одеждами.
Я расположился в моей зале с арабскими колоннами на большом мягком диване, покрытом ковром Джебель-Амур, в костюме Ассана, но почти не мог отдыхать, мучимый воздержанием.
О, мой друг, два страдания этой земли, которые я не желал бы знать: отсутствие воды и отсутствие женщин. Какое из них более ужасно? Я не знаю. Мы бы совершили все гнусности ради стакана прозрачной и свежей воды в пустыне. Чего не сделаешь в некоторых прибрежных городках ради свежей и здоровой красавицы? В Африке нет недостатка в девушках! Напротив, их изобилие, но, чтобы продолжить мое сравнение, они там все зловредные и потные, подобные мутной жидкости сахарских колодцев. Однако однажды, когда я был более нервным, чем обычно, я попытался, но тщетно закрыть глаза. Мои ноги вибрировали, словно исколотые, беспокойная тоска заставляла меня всякий раз поворачиваться с боку на бок на моих коврах. Наконец, больше не пытаясь уснуть, я поднялся и вышел.
Был июль, жаркое послеполуденное время. Мостовые улиц были жарче свежеиспеченного хлеба; рубашка, вся мокрая, прилипала к телу, и по всему горизонту плыл маленький белый пар, этот огненный туман сирокко, который казался ощутимым теплом.
Я спустился к морю, и, обогнув порт, я проследовал к широкому берегу красивого залива, где купались. Отвесная гора, покрытая подлеском, высокие ароматические растения с властным запахом, кружили вокруг этой бухты, или мокли по всему краю огромных коричневых скал.
Никого вокруг; ничего не слышно: ни крика животного, ни полета птицы, ни шума, ни даже плеска – неподвижным казалось окоченевшее под солнцем море. Но в палящем воздухе я надеялся поймать что-то вроде гудения огня.
Вскоре позади этих скал, наполовину утонувших в молчаливой волне, я различил легкое движение, и, оглянувшись, заметил в купальне, полагая, что она одна в столь ранний час, крупную обнаженную девушку, которая стояла, погрузившись по самую грудь. Она повернула голову в сторону открытого моря и мило прыгала, не видя меня.
Ничего не было удивительнее этой картины: прекрасная девушка под ослепительным светом в прозрачной, как стекло, воде. Она была великолепно прекрасна и огромным ростом напоминала статую.
Она повернулась, издала крик и, полуплавая, полуходя, спряталась позади скалы.
Поскольку хотелось дождаться, когда она выйдет из воды, я сидел на берегу и ждал. Тогда она очень мило подняла свою голову, отяжеленную черными, дьявольскими волосами. Ее рот был широк, губы свернуты, как валики, огромные бесстыдные глаза и вся ее плоть, немного коричневая от здешнего климата, казалась плотью цвета слоновой кости, твердой и нежной, прекрасной белой породой, оттененной негритянским солнцем.
Она крикнула мне: «Уходите!» И ее полный голос, немного громкий, как вся она, имел гортанную интонацию. Я не двигался с места. Она добавила: «Это нехорошо оставаться там, monsieur. «R-r-r» в ее произнесении раскатилось, как повозка. Я больше не двигался. Голова исчезла.
Пробежали десять минут. Потом с медлительностью и осторожностью показались волосы, потом лоб, потом глаза, как когда дети играют в прятки, чтобы найти того, кто их ищет.
На этот раз она была в ярости и воскликнула: «Вы меня попытались зло поймать. Я не выйду, пока вы будете там». Тогда я поднялся и пошел, часто оборачиваясь. Когда она решила, что я достаточно далеко, она вышла из воды, наполовину согнувшись и повернувшись ко мне спиной. Она исчезла в разломе скалы, за юбкой, свисавшей над входом.
Назавтра я вернулся. Она была еще в купальне, но одетая. Она стала смеяться, глядя на меня, показывая свои сияющие зубы.
Прошло восемь дней, и мы с ней были уже друзьями. Еще через восемь дней мы стали еще ближе.
Она звалась Маррока. Это имя, без сомнения, произносилось, словно в слове было пятнадцать «р». Дочь испанских колонистов, она вышла замуж за француза по имени Понтабез. Ее муж был государственным служащим. Я так никогда и не узнал, какие функции он исполнял. Я заключил, что он был сильно занят, а дольше я не спрашивал.
Теперь, изменив время своего купания, после моего завтрака она каждый день проводила сиесту в моем мавританском доме. Какая сиеста! Если бы можно назвать это отдыхом!
Это была поистине восхитительная девушка, тип немного звериный, но превосходный. Ее глаза всегда казались сияющими от страсти; ее полуоткрытый рот, острые зубы, даже улыбка имели что-то чувственно жесткое; ее странные груди, прямые, длинные и острые, как мякоть груши, упругие, как будто на стальных пружинах, придавали ее телу что-то животное, делали ее разновидностью низкого и великолепного существа, предназначенного к беспорядочной любви; она пробуждала во мне мысль о непристойных античных божествах, чья свободная нежность распространялась среди трав и цветов.
Никогда женщина не несла в себе более беспокойных желаний. За безжалостным пылом и кричащими объятиями, со скрипом зубов, содроганиями и укусами, следовала почти немедленно глубокая, как смерть, дрема. Но она вдруг пробуждалась в моих руках, вся готовая к новым объятиям, и ее горло клокотало поцелуями.
Ее дух, впрочем, был прост, как дважды два четыре; а звонкий смех занимал место мысли.
Инстинктивно гордясь своей красотой, она ужасалась самой простой легкой вуали. Она курсировала, бегала, резвилась в моем доме с бессознательным и смелым бесстыдством. Когда она, наконец, пресыщалась любовью, изнуренная криками и движением, крепким и мирным сном она спала на диване рядом со мной; тогда угнетающая жара отмечалась на ее коричневой коже крошечными каплями пота, от ее рук, поднятых над головой, из всех ее тайных складок тела исходил дикий аромат, который нравится мужчинам.
Несколько раз она возвращалась ко мне вечером: ее муж был занят на службе, не знаю где. Тогда мы стелили себе на террасе, укрываясь тонкими плавающими тканями Востока.
Когда луна полностью освещала жаркую местность, город и залив, обрамленные горами, тогда мы замечали на всех других террасах армию молчаливых расползавшихся призраков, которые иногда поднимались, меняли место и снова ложились под томное тепло умиротворенного неба.
Несмотря на сияние этих африканских вечеров, при свете луны Маррока настойчиво раздевалась донага; она почти не беспокоилась, что нас могли увидеть, и часто ночью, несмотря на мои страхи и мольбы, бросала в ночь широкие крики, которые заставляли окрестных собак лаять вдали.
Когда однажды ночью я спал, а широкий небосвод повсюду был испещрен звездами, на ковре она встала передо мной на колени и приблизила к моему рту свои большие губы:
– Нужно, – сказала она, – чтобы ты пришел спать ко мне.
Я не понял.
– Как к тебе?
– Да, когда мой муж уедет, ты придешь спать на его место.
Я не мог не рассмеяться.
– Почему это? Поскольку ты уже здесь?
Она продолжала говорить как бы мне в рот, бросая горячее дыхание из глубины горла, увлажняя мои усы своим дыханием.
– Это во мне оставит воспомина-а-ние.
И это ее «а-а-а» в слове воспоминание долго тянулось грохотом потоков на скалах.
Мне не удалось ухватить сути ее идеи. Она положила руки на мою шею.
– Когда тебя там больше не будет, я буду думать о тебе. И когда я буду обнимать моего мужа, мне будет казаться, что это ты.
В звуке «а-а-а» ее голоса слышались знакомые звуки, знакомые громовые раскаты.
Растроганно и воодушевленно я пробормотал:
– Но ты сошла с ума. Мне больше нравится оставаться у меня.
В самом деле, у меня не было никакого желания для свидания под супружеской крышей; это мышеловка, всегда готовая для дураков. Но она меня просила, умоляла, даже плакала: «Ты увидишь, как я тебя люблю».
«Я тебя люблю» звучало как тяжелая барабанная дробь.
Ее желание показалось мне настолько странным, что я не мог его объяснить себе; потом, размышляя, я подумал, что разгадал какую-то ее глубокую ненависть к мужу, тип тайной мести женщины, с радостью обманувшей ненавистного человека, и она хочет еще раз обмануть его в его же доме, на его простынях.
Я сказал ей:
– Твой муж очень зол на тебя?
Она приняла злобный тон.
– О нет, очень хорош.
– Но ты не любишь его?
Она остановила на мне свои широкие удивленные глаза.
– Да, я люблю его, очень, очень, но не так, как тебя, мое сердце.
Я ничего не понял и, поскольку искал разгадки, она прижалась к моему рту с одной из тех ласк, чью власть надо мной знала, и спросила:
– Скажи, ты придешь?
Однако я сопротивлялся. Тогда она сразу оделась и ушла.
Не возвращалась она в течение восьми дней. На девятый она вернулась, тяжело остановилась на пороге моей комнаты и спросила:
– Придешь сегодня вечером спать со мной? Если не придешь, я уйду.
Восемь дней – это долго, мой друг, а в Африке восемь дней покажутся месяцем. Я воскликнул: «Да», – и открыл ей мои объятия. Она бросилась ко мне.
Ночью она ждала меня на соседней улице и повела к себе.
Они жили рядом с портом, в маленьком низком доме. Сначала я пересек кухню, где прислуга готовила еду; я проник в белую, побеленную известкой комнату, с фотографиями родителей по длинным стенам, с бумажными цветами под глобусом. Маррока, казалось, обезумела от радости. Она прыгала, повторяя: «Вот ты и у нас, вот ты у себя». Я действовал, как дома.
Признаюсь, я был немного смущен, даже тревожен. Поскольку в этом подозрительном чужом жилище я колебался, снимать ли одежду, без которой человек становится неуклюжим, смешным и не способен ни к каким действиям, она с силой сорвала с меня одежду и со всеми пожитками повела в соседнюю комнату.
Ко мне, наконец, вернулась уверенность, я доказывал ей это так хорошо, что через два часа мы еще не думали об отдыхе, когда яростные удары вдруг потрясли дверь и заставили нас задрожать:
– Маррока, это я.
Она вскочила.
– Мой муж! Быстрее прячься под кровать.
Я потерянно искал мои панталоны, но, тяжело дыша, она толкнула меня:
– Однако иди, иди.
Беззвучно я лег под кровать, на которой мне было так хорошо.
Тогда она прошла в кухню. Я слышал открытие шкафа, закрытие, потом она вернулась, неся объект, которого я не рассмотрел; и, поскольку муж терял терпение, она ответила крепким и спокойным голосом:
– Я не нашла спичек.
И потом сразу: «Вот, я открываю». И она открыла.
Мужчина вошел. Я видел только его ноги, огромные ноги. Если остальное было пропорциональным, он должен был быть титаном.
Я услышал поцелуи, шлепки по обнаженной плоти, смех; потом с марсельским акцентом он сказал: «Забыл мой кошелек. Нужно было вернуться. Иначе, я полагаю, ты выспалась бы от души». Он подошел к комоду, долго искал что-то, что было ему нужно; потом Маррока растянулась на кровати, словно подавленная усталостью, он вернулся к ней и, без сомнения, попытался ее приласкать, так как она послала его раздраженной фразой, исступленной словесной картечью. Ее ноги были настолько рядом с моими, что меня охватило безумное, глупое, необъяснимое желание очень нежно их коснуться. Я сдержался.
Поскольку он не имел успеха в своих ухаживаниях, ему сделалось досадно. «Ты очень злая сегодня, – сказал он. Напоследок он сказал:
– Прощай, малышка.
Прозвучал новый поцелуй; потом огромные ноги повернулись, в отдалении мне пришлось увидеть его переход, когда он проходил соседнюю комнату; дверь на улицу вновь закрылась.
Я был спасен!
Я медленно вышел из своего укрытия, смиренный и жалкий, и в то время как Маррока, еще обнаженная, стала танцевать вокруг меня жигу, смеясь, взметая руками и хлопая в ладоши, я позволил себе тяжело упасть в кресло. Но одним прыжком я поднялся: холодная вещи лежала подо мной и, поскольку я не был одет больше, чем моя сообщница, контакт с вещью я почувствовал. Я обернулся. Мне пришлось сесть на маленький топорик для колки дров, острый, как нож. Как он оказался на этом месте? Я не заметил его, входя.
Маррока, увидев мой испуг, задыхалась от веселья, исторгала крики, кашляла, кладя обе руки на свой живот. Я находил эту радость волнующей и неприличной; мы глупо играли нашей жизнью; я еще чувствовал холодок в спине, и этот ее смех меня немного ранил.
– А что если твой муж мог меня увидеть? – спросил я ее.
– Нет опасности.
– Как! Нет опасности! Жестокая. Достаточно поцелуя, чтобы меня найти.
Она не смеялась больше; она просто улыбнулась, глядя на меня большими немигающими глазами, где зарождалось новое желание.
– Он бы не наклонился.
Я настаивал.
– К примеру, если бы он просто уронил свою шляпу, ее должно было бы поднять, а тут, собственной персоной, я, в таком костюме…
Она поставила мне на плечи круглые и сильные руки, и, понизив голос, как будто она хотела мне сказать: «Я тебя обожаю», – она прошептала: «Впрочем, он бы не встал».
Я не понял.
– Почему это?
Она хитро подмигнула, протянула руку через кресло, где я сидел; ее нежный палец, складка щеки, полуоткрытые губы, острые светлые и крепкие зубы, – всем этим она указывала мне в сторону маленького топорика для колки дров, у которого сиял заточенный край.
Она сделала жест, что взяла бы его; потом левой рукой привлекла мое бедро к своему; и правой рукой она изобразила движение, которым обезглавила бы человека, стоящего на коленях!..
Вот, мой дорогой, как здесь понимают долг: супружеский, любви и гостеприимства.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?