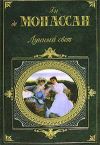Читать книгу "Папаша Амабль"
Ги де Мопассан
Папаша Амабль
Глава 1
Над обширной бурой равниной нависло мокрое серое небо. Неподвижный сумеречный воздух словно отяжелел и сгустился от запаха осени, тоскливого запаха голой, сырой земли, палых листьев и увядшей травы. Кое-где в полях еще работали крестьяне, ожидая, когда зазвонят к вечерне и можно будет вернуться на фермы, соломенные крыши которых проглядывали там и сям сквозь нагие ветви деревьев, защищающих яблоневые сады от ветра.
У придорожной канавы, на куче тряпья, сидел, растопырив ножки, ребенок, совсем малыш; он играл картофелиной, то и дело роняя ее себе на рубашонку; рядом, на поле, согнувшись вдвое и задрав зады, пять женщин сажали рапс. Быстрым заученным движением они втыкали заостренную палку в глубокую проведенную плугом борозду, опускали в лунку рассаду, уже немного блеклую и скособоченную, присыпали корень землей и двигались дальше.
Проходивший мимо мужчина с кнутом в руке и в сабо на босу ногу поравнялся с ребенком, взял его на руки и поцеловал. Одна из женщин тут же распрямилась и подошла к нему. Рослая, краснощекая, с волосами цвета-соломы, – . – широкая в бедрах, талии и плечах, эта девушка казалась настоящей крупной нормандской самкой.
Решительным тоном она бросила:
– А, это ты, Сезер! Ну что?
Мужчина, унылый, тощий парень, промямлил:
– Да ничего. Все также.
– Не соглашается?
– Ни в какую.
– Что будешь делать?
– Почем я знаю?
– Сходи к кюре.
– Ладно.
– Прямо сейчас иди.
– Ладно.
Взгляды их встретились. Парень все еще держал малыша на руках. Потом снова поцеловал его и посадил на кучу женских тряпок.
На горизонте, между двумя фермами, виднелись лошадь, тащившая плуг, и человек, налегавший на него. Лошадь, плуг и пахарь медленно перемещались на фоне закатного неба.
Девушка допытывалась:
– Чего твой отец говорит?
– Говорит, не согласен.
– Почему не согласен?
Парень жестом указал на ребенка, которого опустил на землю, и глазами
– на человека, шедшего вдалеке за плугом.
– Потому как дите – от него. Девушка сердито передернула плечами.
– Подумаешь! Все и так знают, что оно от Виктора. Что с того? Ну, согрешила! Я же не первая. Моя мать грешила до меня; твоя – тоже, пока за твоего папашу не вышла. За кем это у нас греха не водится? А я потому с Виктором, что он меня сонную в сарае взял, это уж не сомневайся. Потом, конечно, я и не спросонья с ним баловалась. Не живи он в работниках, я бы за него обязательно вышла Хуже я после него стала, что ли?
Парень бесхитростно признался:
– По мне ты всякая хороша – что с дитем, что без. Только вот отец уперся. Ну да я как-нибудь с ним слажу. Она повторила:
– Иди прямо к кюре.
– Иду.
И он зашагал дальше тяжелой крестьянской походкой, а девушка, подбоченясь, вернулась сажать рапс.
Парень, уходивший по дороге, Сезер Ульбрек, сын старого и глухого Амабля Ульбрека, в самом деле хотел, наперекор отцу, жениться на Селесте Левек, прижившей ребенка с Виктором Лекоком, простым батраком на ферме ее родителей, откуда его после этого выгнали.
Впрочем, каст в деревне нет, и если батрак прижимист, он со временем сам обзаводится фермой и становится ровней бывшему хозяину.
Сезер шел, сунув кнут под мышку, с трудом ступая в тяжелых от налипшей земли сабо и обмозговывая все то же дело. Да, он хочет жениться на Селесте Левек, даром что у ней ребенок: она именно та, кто ему нужен. Почему – этого он не знает, но он чувствует это, уверен в этом. Ему достаточно взглянуть на нее, чтобы в этом убедиться: при ней у него на душе становится как-то чудно, все в нем переворачивается, он до глупости добреет. Малыша – и того ему целовать приятно: хоть от Виктора, а все-таки ее сын.
И Сезер без всякой злости поглядывал на далекий силуэт человека, шедшего за плугом у края горизонта.
Но папаша Амабль не соглашался на брак. Он противился с яростным, как у всех глухих, упрямством.
Напрасно Сезер кричал ему в то ухо, которое еще воспринимало отдельные звуки:
– Мы вас, отец, хорошо обхаживать будем. Говорю вам: она девушка славная, работящая, бережливая. Тот гнул свое:
– Не бывать этому, пока я жив.
Уломать старика не удавалось: его упорство было ничем не сломить. У Сезера осталась одна надежда. Папаша Амабль побаивался кюре из страха перед близкой – он это чувствовал – смертью. Бог, черт, ад и чистилище его не пугали – он просто не представлял себе, что это такое, но он опасался священника, с которым у него связывалась мысль о похоронах, как иные опасаются врача из страха перед болезнью. Селеста знала за ним эту слабость и вот уже неделю подбивала Сезера сходить к кюре. Сезер колебался: он сам недолюбливал людей в черных сутанах, представляя их себе не иначе, как с протянутой рукой – то на церковь им подай, то за благословенный хлеб плати.
Наконец он решился и пошел к священнику домой, прикидывая, как половчее изложить свою просьбу.
Аббат Раффен, юркий, худой, вечно небритый человечек, грел ноги у кухонного очага в ожидании ужина.
Заметив вошедшего, он ограничился тем, что повернул голову и спросил:
– Ну, Сезер, с чем пожаловал?
– Мне бы поговорить с вами, господин кюре.
Оробевший крестьянин топтался на месте – в одной руке фуражка, в другой кнут.
– Что ж, говори.
Сезер взглянул на старую служанку; шаркая нога» ми, она накрывала хозяину на краю стола, поближе к окну Потом пробормотал:
– Мне бы вроде как на духу. Аббат Раффен присмотрелся к парню повнимательней, заметил, что вид у него растерянный, лицо сконфуженное, глаза бегают, и распорядился:
– Мария! Выйди-ка на минутку – нам с Севером потолковать надо.
Старуха окинула крестьянина сердитым взглядом и с ворчанием удалилась.
Священник продолжал:
– А теперь выкладывай, что там у тебя. Парень помялся еще, разглядывая свои сабо и вертя в руках фуражку; затем собрался с духом и выпалил:
– Вот, значит, что. Я на Селесте Левек жениться хочу.
– Ну и женись, сын мой. За чем дело стало?
– Отец не согласен.
– Твой?
– Да.
– Что же он говорит?
– Говорит, у нее дите.
– Не с ней первой это случилось со времен праматери нашей Евы.
– Да ведь дите-то от Виктора, Виктора Лекока, что в работниках у Антима Луазеля живет.
– Вот оно что!.. Значит, отец не согласен?
– Не.
– Ни в какую?
– Не. Уперся, извините на слове, что твой осел.
– А как ты его уговаривал?
– Я ему говорил: девушка, мол, славная, работящая, бережливая.
– А он не соглашается? Значит, хочешь, чтобы я к нему сходил?
– Вот, вот, сделайте милость.
– И что же мне сказать твоему отцу?
– Да то же самое, что на проповеди говорите, чтобы мы деньги давали.
В представлении крестьянина церковь стремилась лишь к одному – заставить людей развязать кошельки и пересыпать их содержимое в небесный сундук. Это был своего рода гигантский торговый дом с хитрыми, разбитными, пронырливыми приказчиками-кюре, обделывавшими делишки господа бога за счет мужика.
Он, конечно, знал, что священники помогают, и даже очень, беднякам, недужным, умирающим, помогают напутствием, утешением, советом, сочувствием, но все это не даром, а в обмен на беленькие монетки, на доброе блестящее серебро, которым, сообразно доходам и тороватости грешника, платят за таинства и мессы, наставления и покровительство, отпущение грехов и снисходительность к ним.
Аббат Раффен прекрасно понимал свою паству и не сердился на нее; поэтому он лишь рассмеялся:
– Так и быть, шепну словечко твоему отцу, а ты, сын мой, ходи на проповеди. Ульбрек поднял руку:
– Слово бедняка, буду ходить, только дело уладьте.
– Когда, по-твоему, мне навестить твоего отца?
– Да чем скорей, тем лучше. Хоть нынче, если можете.
– Тогда через полчаса: поужинаю и приду.
– Хорошо. Через полчаса.
– Итак, уговорились, сын мой. До свидания!
– До скорого, господин кюре! Очень вам благодарствую.
– Не за что.
И Сезер Ульбрек направился домой с таким чувством, точно у него камень с души свалился.
Он арендовал маленькую, совсем крошечную ферму: они с отцом были небогаты. Жили они одни со служанкой, девочкой лет пятнадцати, которая стряпала, ходила за курами, доила коров, сбивала масло, и жилось им нелегко. Сезер был хороший хозяин, но у них не хватало земли, не хватало скота, и зарабатывали они только на то, без чего никак уж не обойтись.
Старик больше не мог работать. Угрюмый, как все глухие, разбитый, сгорбленный, скрюченный разными хворями, он бродил по полям, опираясь на палку, и с мрачной подозрительностью поглядывая на людей и скотину. Порой он устраивался на краю канавы и неподвижно просиживал там долгие часы, бессвязно раздумывая о том, что всегда заполняло его жизнь – о ценах на яйца и зерно, о солнце и дожде, которые то на пользу, то во вред урожаю. И его старые, искореженные ревматизмом суставы, пропитавшиеся за семьдесят лет сыростью приземистой лачуги под вечно мокрой соломенной крышей, продолжали вбирать в себя испарения влажной почвы.
В сумерках он возвращался, садился на свое место у края кухонного стола и, когда перед ним ставили глиняный горшок с похлебкой, не сразу принимался за еду, а сначала обхватывал посудину искривленными, словно сохранявшими ее форму пальцами и грел об нее, зимой и летом, руки, чтобы ничего не пропало: ни частицы тепла – дрова стоят дорого; ни капли варева – туда положены соль и сало; ни крошки хлеба – на него уходит пшеница.
Затем он влезал по лесенке на чердак и укладывался там на сенник; сын уходил в закоулок, выгороженный за печью; служанка запиралась в подполе – темной яме, где раньше хранили картошку.
Отец и сын почти не разговаривали. Только изредка, когда надо было продать урожай или прикупить теленка, парень советовался со стариком и, сложив ладони рупором, кричал ему в ухо, а папаша Амабль соглашался с соображениями Сезера или оспаривал их глухим тягучим утробным голосом.
Однажды вечером сын подошел к отцу и, как если бы речь шла о приобретении лошади или телки, изо всех сил заорал ему в ухо, что намерен жениться на Селесте Левек.
Старик взбеленился. Почему? Не из нравственных побуждений, конечно: в деревне девичью честь не ценят. Но его скупость и неистребимый, свирепый стяжательский инстинкт не могли примириться с тем, что сыну придется растить чужого ребенка. В одно мгновение он представил себе, сколько супу проглотит малыш, прежде чем начнет помогать по хозяйству, сколько фунтов хлеба и литров сидра сожрет и выдует до четырнадцати лет этот парнишка, и в нем закипела дикая злоба на Сезера – как сын мог не подумать о таких вещах!
Непривычно громким голосом он ответил:
– Ты что, спятил?
Сезер выложил свои резоны, перечислил достоинства Селесты, стал доказывать, что она сто раз окупит содержание ребенка. Но достоинства ее казались старику сомнительными, тогда как существование малыша было несомненным фактом, и он, ничего не слушая, заладил одно:
– Не согласен! Не согласен! Не бывать этому, пока я жив.
За три месяца дело не сдвинулось с места: оба стояли на своем и, по меньшей мере раз в неделю, возобновляли прежний спор с теми же доводами, словами, жестами и с тем же неуспехом.
Тут-то Селеста и надоумила жениха прибегнуть к помощи кюре.
Сезер задержался у священника и, придя домой, застал отца уже за столом.
Расположившись друг против друга, они молча съели похлебку, добавили к ней по куску хлеба с маслом, запили ужин стаканом сидра и теперь неподвижно сидели на стульях при тусклой свече, которую затеплила девочка-служанка: ей нужно было вымыть ложки, перетереть стаканы и заранее нарезать хлеб для утренней трапезы.
Раздался стук, дверь распахнулась, и вошел кюре. Старик устремил на него встревоженный, подозрительный взгляд и, чуя подвох, собрался лезть к себе на чердак, но аббат Раффен опустил ему на плечо руку и прокричал над самым ухом:
– У меня разговор к вам, папаша Амабль! Сезер воспользовался тем, что дверь осталась открытой, и выскользнул из дому. Он так трусил, что боялся присутствовать при беседе: ему не хотелось слышать, как постепенно, с каждым упорным отказом отца, будет рушиться последняя надежда; лучше уж потом разом узнать – удача или неудача. Вечер был безлунный, беззвездный, один из тех туманных вечеров, когда воздух от сырости кажется сальным. Со дворов тянуло легким ароматом яблок: было время сбора ранних сортов, скороспелок, как говорят в этой стране сидра. Сквозь узкие окна хлевов, мимо которых шел Сезер, на него веяло теплым запахом дремавших на навозе коров; в конюшнях слышалось топотание лошадей, оставшихся на ногах и с хрустом растиравших челюстями сено, выбранное из ясель.
Он шагал, не разбирая дороги и думая о Селесте. В его неискушенном мозгу, где рождались не мысли, а лишь образы, как непосредственное отражение предметов, любовные мечты принимали осязаемый облик рослой краснощекой девушки, которая, подбоченясь, стояла у дороги и смеялась.
Такой он увидел ее в день, когда в нем проснулось влечение к ней. Знакомы они были с детства, но внимание на нее он обратил лишь в то утро. Они поболтали минуту-другую, потом он ушел и всю дорогу твердил про себя: “А ведь девка-то хороша! Жаль только, с Виктором согрешила”. Он думал о ней до самой ночи, весь следующий день тоже.
Встретившись с нею опять, он почувствовал, что у него запершило в горле, словно ему через глотку всунули до самой груди петушиное перо. С тех пор, бывая С Селестой, он всякий раз испытывал то же нервное щекотание.
Через три недели он решил жениться на ней: больно уж она ему нравилась. Он не сумел бы объяснить, почему она забрала такую власть над ним, и только повторял: “На меня накатило”, – словно его вожделение к этой девушке было неотразимо, как злые чары. То, что она согрешила, нисколько его не тревожило. Велика беда! Селеста же не стала от этого хуже, – думал он без всякой неприязни к Виктору.
Но вдруг у кюре не получится? Что тогда? Сезер не осмеливался даже думать об этом – так мучила его тревога.
Он дошел до дома священника и, дожидаясь кюре, сел у калитки.
Протомился он час, а может, и больше, как вдруг услыхал на дороге шаги и различил, хотя ночь была очень темная, еще более темное пятно – черную сутану.
Сезер встал, чувствуя, что ноги у него подкашиваются, не смея задать вопрос, боясь узнать правду.
Священник заметил его и весело объявил:
– Ну, сын мой, все улажено. Парень пролепетал:
– Улажено?.. Быть не может!
– Улажено, дружок, хоть и не без труда. Упрям же, однако, твой родитель! Чистый осел! Крестьянин все еще сомневался:
– Быть не может!
– Полно тебе! Приходи завтра в полдень – потолкуем насчет оглашения.
Сезер поймал руку кюре. Он жал ее, тискал, тряс и, заикаясь, повторял:
– Правда? Правда, господин кюре?.. Слово честного человека, в воскресенье буду на проповеди.
Глава 2
Свадьбу справили в середине декабря. Справили скромно: молодые были небогаты. Северу, одетому во все новое, уже с восьми утра не терпелось отправиться за невестой и повести ее в мэрию, но час был еще слишком ранний, и парень уселся за стол на кухне в ожидании родных и приглашенных: они должны были зайти за ним.
Целую неделю шел снег; бурая земля, уже оплодотворенная озимыми, побелела и уснула под толстым ледяным покровом.
В лачугах, словно нахлобучивших на себя белые чепцы, было холодно, и только яблони, круглые кроны которых припудрил иней, казалось, цвели, как в лучшую свою пору.
Но в этот день тяжелые серые тучи, наплывающие с севера и распухшие от снежных хлопьев, неожиданно раздернулись, и над белой землей, сверкавшей в серебряных отсветах восходящего солнца, раскинулось голубое небо.
Сезер глядел в окно, ни о чем не думал и был счастлив.
Наконец дверь отворилась и появились две женщины, две по-праздничному принаряженные крестьянки – тетка и двоюродная сестра новобрачного; за ними трое мужчин – его двоюродные братья; потом соседка. Разместившись на стульях, – женщины по одну сторону кухни, мужчины по другую, они сидели неподвижно и молча, испытывая робкую щемящую неловкость, которая неожиданно сковывает людей, собравшихся для участия в церемонии. Вскоре один из двоюродных братьев спросил:
– Не пора ли? Сезер согласился:
– Впрямь пора.
– Тогда пошли, – поддержал другой.
Все поднялись. Хозяин вскарабкался на чердак проверить, готов ли отец. Парня разбирало беспокойство: обычно старик вставал ни свет ни заря, а сегодня еще не спускался вниз. Сын застал его на сеннике, под одеялом. Он лежал с открытыми глазами и злым лицом.
Сезер заорал ему в ухо:
– Вставайте, отец! На свадьбу пора! Глухой плаксиво заохал:
– Не могу. Спину ломит – должно быть, продуло. Шевельнуться – и то силы нет.
Парень подавленно смотрел на старика, догадываясь, что тот притворяется.
– А вы через силу, отец.
– Не могу.
– Дайте-ка пособлю.
Он склонился над стариком, откинул одеяло, схватил отца за руки и приподнял. Папаша Амабль заголосил :
– Ой-ой-ой! Вот горе-то! Ой-ой! Не могу! Всю спину свело. Это все ветер – так уж он через крышу проклятую свищет.
Сезер понял тщету своих усилий и, впервые в жизни осерчав на отца, крикнул:
– Вот и сидите без обеда: я ведь его в трактире Полита заказал! Будете знать, как фордыбачить!
Он скатился вниз по лесенке и, сопровождаемый родными и приглашенными, двинулся в путь.
Мужчины подсучили штаны, чтобы не обтирать края о снег; женщины высоко подобрали юбки, приоткрыв худые лодыжки и костлявые, прямые, как палка, голени в серых шерстяных чулках. Они шли гуськом, молча, покачиваясь для равновесия и осторожно переставляя ноги, чтобы не потерять дорогу под ровной, сплошной, нескончаемой пеленою снега.
У каждой фермы их поджидали один-два человека, тут же присоединявшиеся к ним, и шествие все растягивалось, извиваясь по невидимым изгибам дороги и напоминая собой на белой равнине гибкие живые четки с черными бусинами.
У дома невесты, дожидаясь жениха, топталась целая толпа. Сезера встретили криками; почти тут же вышла из своей комнаты и Селеста в голубом платье, короткой красной шали на плечах и с флердоранжем на голове.
У молодого допытывались:
– Отец-то где?
Он сконфуженно бормотал:
– Встать не может – совсем разболелся. Фермеры недоверчиво и понимающе кивали головой. Процессия направилась к мэрии. Следом за будущими супругами, словно на крестинах, одна из крестьянок несла ребенка Виктора; позади попарно вышагивали остальные, держась за руки и покачиваясь на снегу, как шлюпки на волнах.
После того как мэр связал молодых узами брака в убогом зданьице муниципалитета, кюре, в свой черед, соединил чету в скромном доме господнем. Он благословил их союз, предсказал, что он будет плодовитым, и наставил обоих в супружеских добродетелях, простых здоровых крестьянских добродетелях – трудолюбии, согласии, верности; тем временем малыш продрог и расхныкался за спиной у невесты.
Едва новобрачные показались на пороге церкви, во рву, окружавшем кладбище, загремели выстрелы. Сперва оттуда торчали только ружейные дула, из которых вылетали струйки дыма; затем высунулась голова, уставившаяся на процессию. Это Виктор Лекок, чествуя бывшую подружку и желая ей счастливого замужества, поздравлял ее грохотом пальбы. Он привел для торжественного салюта с полдюжины своих приятелей-батраков. Все нашли, что он ведет себя очень достойно.
Свадьбу праздновали в трактире Полита Кашпрюна. Стол на двадцать человек был накрыт в большом зале, где обедали в базарные дни; на вертеле жарилась здоровенная баранья нога, в собственном соку подрумянивалась птица, на ярком веселом огне потрескивала домашняя колбаса, и весь дом был пропитан густым ароматом пищи, чадом стекающего на угли жира, крепким тяжелым запахом деревенской кухни.
В полдень сели за стол и первым делом разлили по тарелкам суп. Лица оживились, с губ готовы были сорваться первые шутки, смеющиеся глаза лукаво щурились. Веселиться так веселиться, черт побери!
Внезапно дверь отворилась, и появился папаша Амабль. Вид у него был нахохленный, лицо взбешенное; он опирался на две палки и на каждом шагу охал – вот, мол, как ему худо.
При его появлении собравшиеся смолкли, но тут дядя Маливуар, сосед старика и записной шутник, знавший насквозь всех и каждого, сложил руки рупором, как делал Сезер, и заорал:
– Ну и нос у тебя, старый пройдоха! Из дому учуял, чем у Полита пахнет.
Из глоток вырвался оглушительный хохот. Маливуар, подстегнутый успехом, продолжал:
– От ломоты первое средство – колбасная припарка. К ней еще водки стаканчик, и нутро враз прогреется.
Мужчины вопили, грохали кулаками по столу и валились от смеха то в одну, то в другую сторону, словно качая воду; женщины квохтали, как курицы; служанки, стоявшие у стены, потешались до колик. Не веселился только папаша Амабль – он молча ждал, пока ему очистят место.
Его усадили посередке, напротив снохи, и, едва очутившись за столом, он тут же навалился на еду. Надо урвать свое – платит-то его сын. Ему казалось, что с каждой ложкой супа, вливавшейся ему в живот, с каждым куском хлеба или мяса, перемолотым его беззубыми деснами, с каждым стаканом сидра или вина, опрокинутым в глотку, он отбирает назад крупицу своего добра, возвращает себе часть денег, расхищаемых этими обжорами, спасает крохи своего достояния. Он ел молча, с жадностью скупца, «привыкшего откладывать каждый грош, с тем мрачным упорством, какое привносил когда-то в свой нескончаемый труд.
Вдруг он заметил в конце стола, на коленях у кого-то из женщин, ребенка Селесты и больше не отрывал от него глаз. Он ел, но взгляд его оставался прикован к малышу, жевавшему кусочки жаркого, которые женщина время от времени совала ему в рот. И малость, доставшаяся этой личинке человека, сильней выводила старика из себя, чем все, что поглощали взрослые.
Гуляли до вечера, потом разошлись по домам.
Сезер помог папаше Амаблю встать.
– Пошли, отец, спать пора, – сказал он, подавая ему палки.
Селеста взяла ребенка на руки, и они поплелись в темноте, белесой от сверкания снега. Глухой старик, сильно подвыпивший и ставший от вина еще злей, упорно старался двигаться помедленнее. Несколько раз он даже садился в надежде простудить невестку и все время хныкал, но без слов, а лишь протяжно и жалобно постанывая.
Придя домой, он тут же полез на чердак, а Сезер устроил постель для ребенка рядом с закоулком, где предстояло спать новобрачным. Они, понятное дело, заснули не сразу и долго еще слышали, как ворочается на сеннике старик; он даже бормотал вслух – не то спросонья, не то потому, что им владела навязчивая мысль и слова сами слетали с губ.
Утром, спустившись с лесенки, он увидел сноху, хозяйничавшую у очага. Она крикнула:
– Пошевеливайтесь, отец! Похлебка нынче на славу. И поставила на край стола глиняный горшок с дымящимся супом. Старик все так же молча сел, придвинул к себе горячую посудину, по обыкновению погрел об нее руки и, так как было очень холодно, даже прижал ее к груди, пытаясь вобрать в свое старое, настуженное за столько зим тело хоть каплю живительного тепла.
Потом взял свои палки и до полудня, до самого обеда, ушел бродить по замерзшим полям: он увидел ребенка Селесты, еще спавшего в большом ящике из-под мыла.
Старик не смирился. Он по-прежнему жил в своей лачуге, но вел себя так, словно он там чужой: ничем не интересовался, смотрел на всех троих – сына, женщину и ребенка – как на посторонних, незнакомых людей и никогда с ними не заговаривал.
Зима кончилась. Она была долгой и суровой. Ранней весной зазеленели всходы, крестьяне опять вышли в поле и, как трудолюбивые муравьи, работали от света до темна, на ветру и под дождем, склоняясь над бурыми бороздами, где вызревал для людей хлеб.
Год для молодой четы начался удачно. Посевы всходили дружно и густо, поздних заморозков не было, и яблони в цвету усеивали траву снежно-розовым дождем лепестков, залогом того, что осенью плоды будут сыпаться градом.
Сезер работал изо всех сил: вставал рано, возвращался поздно – не хотел тратиться на батрака. Жена остерегала его:
– Смотри, надорвешься.
Он возражал:
– Ничего, мы привычные.
Тем не менее однажды он вернулся до того усталый, что лег, не поужинав. Утром поднялся в обычное время, но есть не смог, хотя с вечера уснул натощак; домой тоже пришел засветло – ему нужен был отдых. Всю ночь кашлял, метался в жару на сеннике и просил пить; лоб у него горел, во рту пересохло.
Несмотря ни на что, с рассветом он отправился в поле, но уже на другой день пришлось позвать врача, и врач нашел у него серьезную болезнь – воспаление легких.
Из темного закоулка, служившего ему спальней, он больше не вышел. Слышно было только, как он кашляет, задыхается и ворочается в своей конуре. Чтобы взглянуть на него, дать ему лекарство или поставить банки, приходилось зажигать рядом свечу. Тогда из мрака выступало лицо больного, изможденное и заросшее неопрятной щетиной, а над ним, от каждого колебания воздуха, колыхалось кружево густой паутины. Руки Севера казались на несвежей простыне серыми, как у мертвеца.
Встревоженная Селеста днем и ночью обихаживала мужа, давала ему отвары, ставила горчичники, хлопотала по дому, а папаша Амабль, сидя у лаза на чердак, следил сверху за мрачной дырой, где угасал его сын. К Северу старик не подходил: он ненавидел невестку и злился, как ревнивый пес.
Прошло шесть дней, и утром, когда Селеста, которая спала теперь на полу, подстилая себе охапку соломы, встала и подошла к закоулку посмотреть, не полегчало ли больному, она не услышала его прерывистого дыхания. Струхнув, она окликнула:
– Ну как ты, Сезер?
Он не ответил.
Она дотронулась до него рукой, почувствовала, что лоб у него холодный, и у нее вырвался протяжный истошный крик – так всегда кричат женщины с перепугу. Муж ее был мертв.
При этом крике наверху, у лесенки, появился глухой старик. Увидев, что Селеста выскочила на улицу, чтобы позвать на помощь, он торопливо спустился, пощупал в свой черед лоб сына и, разом все поняв, заложил дверь изнутри: теперь, когда Сезера больше нет, он не даст снохе вернуться и вторично завладеть его домом.
Потом придвинул стул и сел возле покойника. Сбежались соседи, подняли шум, начали стучаться. Старик не отворял. Кто-то из мужчин разбил стекло и через окно влез в комнату. За ним последовали другие, дверь отперли, и вошла заплаканная Селеста с опухшим лицом и красными глазами. Побежденный папаша Амабль, не сказав ни слова, вернулся к себе на чердак.
Похороны состоялись на другой день; после погребения свекор, невестка и ребенок снова остались на ферме одни.
Было время обеда. Селеста развела огонь, накрошила в суп хлеба и собрала на стол; старик ждал, сидя на стуле и не глядя в ее сторону.
Приготовив все, она крикнула ему в ухо:
– Есть идите, отец!
Он поднялся, сел к столу, опорожнил горшок с похлебкой, сжевал скупо намасленный ломоть хлеба, выпил два стакана сидра и ушел.
День был теплый, благодатный, один из тех, когда всюду на земле зреет, трепещет, расцветает жизнь.
Папаша Амабль шел по полям еле заметной тропинкой. Он брел через молодые хлеба, молодые овсы и думал, что его дите, его бедный сын, лежит теперь под землей. Он плелся усталой походкой, приволакивая ногу и хромая. Он был один, совсем один на этой равнине, среди хлебов, спеющих под голубым небом, где реяли жаворонки; он видел их над самой головой, но не слышал их звонкого пения и плакал на ходу.
Потом сел у болотца и пробыл там до вечера, глядя на пичуг, прилетавших попить, а когда стемнело, вернулся, поужинал и, не произнеся ни звука, полез на чердак.
Жизнь его текла, как прежде. Ничто не переменилось, только сын его Сезер спал на кладбище.
Да и что оставалось ему, старику? Работать он больше не мог и годился только на одно – хлебать суп, сваренный снохой. Утром и вечером он молча съедал свою порцию, злобно поглядывая на ребенка, который сидел по другую сторону стола, напротив него, и тоже ел. Потом уходил из дому, шатался, как бродяга, по Округе, прятался за сараями, спал там часок-другой, словно боясь, что его увидят, и возвращался лишь в сумерках.
Между тем Селесту осаждали серьезные заботы. Земля требовала мужчины: она нуждалась в уходе и обработке, а для этого кто-то должен был постоянно находиться в поле – и не просто наемный батрак, а настоящий землепашец, хозяин, знающий свое дело и радеющий о ферме. Женщине одной не под силу управляться в поле, следить за ценами на хлеб, продавать и покупать скотину. У Селесты возникли кое-какие нехитрые соображения, и она целыми ночами обмозговывала их. Ей нельзя “нова выйти замуж раньше, чем через год, а о самом насущном и неотложном приходилось думать уже сегодня.
Выручить ее мог лишь один человек – Виктор Лекок, отец ее ребенка. Парень он старательный, в крестьянском деле толк понимает; ему бы малость денег – отличный хозяин получится. Селеста это знала: она видела, как он работал у ее родителей.
Однажды утром, когда он проезжал мимо с тележкой навоза, она вышла на дорогу. Заметив Селесту, Виктор остановил лошадей, и она заговорила с ним так, словно они виделись не далее, чем накануне.
– Здравствуй, Виктор! Как живешь? Он ответил:
– Ничего. А вы?
– Тоже ничего, только вот земля меня беспокоит – я же одна в доме.
И, прислонясь к колесу тяжелой двуколки, они обстоятельно потолковали. Мужчина, сдвинув фуражку на затылок, в раздумье почесывал лоб, а раскрасневшаяся Селеста с жаром излагала свои мысли, доводы, планы на будущее. Наконец он пробормотал:
– Что ж, это можно.
Она подставила ладонь, как делает крестьянин, когда сторгуется, и спросила:
– Уговор?
Он прихлопнул и пожал протянутую руку. – Уговор!
– Значит, в воскресенье?
– В воскресенье.
– До свидания, Виктор!
– До свидания, госпожа Ульбрек!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!