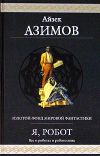Текст книги "Первое слово Съела корова"
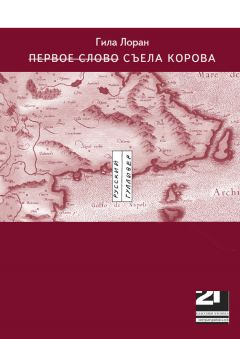
Автор книги: Гила Лоран
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Гила Лоран
Первое слово съела корова
Об авторе
Гила Лоран – поэт, прозаик. Автор книг стихов «Ж» (М.: АРГОРИСК, 2000; в рамках коллективного проекта с участием Н. Винника, М. Анкудинова, М. Горелика) и «Voila: Антология жанра» (М.: АРГОРИСК; Тверь: Kolonna, 2004). Публикации в журналах и альманахах: «Вавилон», «Воздух», «Двоеточие», «РЕЦ», «Риск», «Солнечное сплетение», «Text only». Живет в Москве.
П редисловие
Чудо разгерметизации
В книге «Двенадцать ключей мудрости» Василий Валентин советует: «Сооруди три великих крыла для земли – пусть они нудят ее со всею силой так, чтобы она поднялась до небес и даже до небес небес, в высочайшие их области. Потом сожги ее крылья, чтобы земля упала в красное море и утонула в нем. А затем огнем и воздухом высуши эту воду, чтобы снова образовалась земля». Именно так поступает Гила Лоран. В ее поэзии совершается полный цикл уничтожения и созидания – и не только земли, но и всего остального. Для этого порой требуются куда более странные манипуляции, нежели те, которые предписывает обладатель ключей мудрости. Но такой путь – единственно верный.
Когда современные стихотворцы решили обжить здание традиции, оно очень быстро обнаружило свою непригодность для прямолинейного пользования, а затем и вовсе обвалилось под тяжестью многочисленных жильцов. Ныне те, кто не сгинул в этой коммунальной катастрофе или родился после нее, снова учатся ходить по земле и ощупывать предметы, не злоупотребляя при этом инструментами, которые обнаруживаются в развалинах рухнувшего жилища. В результате выясняется, что масло масляное, а мишка плюшевый, но и только – для более впечатляющих открытий все же необходимо какое-то снаряжение; попытка же его раздобыть приводит на развалины. Чтобы выйти из порочного круга, нужно аннигилировать и предметы, и инструменты, а затем создать их снова, но так, чтобы масло уже не было масляным. А сделать это можно, только уничтожив и возродив самого себя.
Поэтический субъект Лоран как раз и возник в результате смертельной операции такого рода. «Наш современник», «обеспокоенный интеллектуал», «человек дигитальной эпохи», да и вообще «человек» подвергся хладнокровному закланию. Вместо него явилось невиданное многоликое существо с невероятно сложной духовной анатомией, при необходимости умеющее превращаться и в нашего современника, ив человека дигитальной эпохи. Существо это живет сразу во всех временах – для него нет хронологической пропасти между советскими буднями двадцатипятилетней давности, библейской древностью и средними веками. Каждую из соответствующих реальностей, включающих в себя свой фольклор и свои коллективные фантомы, оно переживает одинаково интенсивно, и именно такому существу под силу изменить предметы – хотя бы путем наложения этих реальностей друг на друга. Но, в отличие от многочисленных «поэтов культуры», Лоран не растворяется в ней и не попадает от нее в зависимость, а, напротив, подчиняет ее своей авторской воле. Цитаты и аллюзии нужны здесь для того, чтобы выразить собственную сущность и рассказать собственный сюжет, который гораздо важнее, чем выдумки литераторов и свидетельства историков. Новое существо снабжено таинственным органом, позволяющим выносить оккультные приговоры всему происходящему и смеяться по-настоящему страшным смехом. Виртуозная работа с дискурсами и стилями, сама по себе поэзии не делающая, здесь служит подспорьем при создании босхианской мистерии – иногда, правда, ехидно сжимаемой до кукольно-камерных масштабов. Сюрреализм Лоран с его смещенной телесностью и карнавализацией абстракций – парадоксальный путь к катарсису. Лоран – артист: даже спуск в адские бездны не мешает ей играть и перевоплощаться. Неудивительно, что как поэт она пребывает в благородном вакууме – в ее поколении сблизить и сопоставить ее не с кем.
Язык преображенного поэта – тоже результат уничтожения и синтеза. В первом стихотворении книги появляется ангел, возглашающий: «Горе, горе, горе прописанным в этой фатере!». Все языки – библейский, советский, устаревший разговорный, современный литературный, трафаретно-поэтический и многие другие – вспыхивают ярким пламенем, чтобы посредством алхимического превращения породить саркастический, горестный и возвышенный язык Лоран. Некоторые ее стихи читаются как стилизация, но на самом деле это дивная поэтическая хитрость, недоступная почти никому: в большинстве случаев конкретного образца для этой стилизации не существует. Речь Лоран в лучших своих отрывках построена на удивительно точной и мощной просодии, выдающей в авторе большого лирика и переводящей его из «современной поэзии» в совсем другой контекст, который ныне, как правило, осваивают только через эпигонство, а не через наследование. Способность говорить так сродни абсолютному слуху.
Поэзия Лоран глубоко трагична. Это поэзия боли и ее мученического преодоления. Нестандартные женские истории, угадываемые в этих стихах, равно как и один из характерных героев-протагонистов Лоран – исступленная любовница, она же любовник, сочетающая стилизованную пошловатость с ритуальными практиками и ведущая пересмешнический рассказ о возлюбленной – дают лишь ограниченное представление о корнях этой боли и о ее сути. Источником боли является сама материя мира, делающая желаемое невозможным, а сапфический ракурс – не более чем один из способов выразить это. С другой стороны, гендерная альтернативность служит основанием для дерзкого социокультурного вызова. Но он, впрочем, выглядит лишь смягченным подобием того метафизического бунта против мироздания, который Лоран зашифрованно поднимает на каждой странице. Бунт этот неотделим от плача. Для протагониста Лоран невозможно плаванье на победно-романтическом пьяном корабле – вместо него в ее стихах появляется корабль уродов, пассажиром которого стремится стать герой, и в современной русской поэзии мне неизвестна более сильная метафора экзистенциального изгойства.
« Первое слово съела корова» – в значительной своей части книга о детстве, безвозвратно ушедшем и вечно длящемся. О детстве, имеющем конкретные географические и временные координаты. За изощренной поэтической машинерией, жестокими фантасмагориями и болезенной иронией прячется беззащитная фигурка избранного и проклятого ребенка, чей мир рисуется одновременно раем и адом.
В эпосе о детстве герметическая поэзия Лоран раскрывается, как ларец с простыми дарами. Эта разгерметизация, отнюдь не оборачивающаяся для стихов летальным исходом, – ключ к прочтению всей Лоран. Под культурным слоем нас всегда ожидает ее пугающее «я» – ни на кого не похожий вещатель. Достаточно услышать его – и самые темные строки разгерметизируются сами собой. Так сложная поэзия обретает силу и внятность лирической песни, и этот эффект – тоже из области радикального преображения вещей.
Кирилл Решетников
Памяти с. Знаменского
Отпусти-ка меня, конвойный,
Прогуляться до той сосны
Хожение за три горя
В полдневный жар, в долине Дагестана…
Почал я свое грешное хожение за три горя
отпустили мя голой головою за море
дорога тесна, и вдвоем не пойти.
любят там белых людей
а сами все черные, все злодеи,
а женки все бляди,
да веди, да тати,
господарей морят зелием.
И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего
громким голосом: горе, горе, горе живущим на этой земле! горе, горе,
горе прописанным в этой фатере!
Да только окромя меня никто его не услыхал.
На кухне тетя Маруся цельный день всем назло кипятит воду
кормит свою толстую рыжую Этлю тетя Ревечка
Маменька готовит голубцы. Значит,
тетя Кира завтра тоже приготовит голубцы.
Она всегда повторяет за моей матерью.
А Нина Федоровна,
в шелковом шарфике, ажурных колготках, на каблуках, в театр
собралась —
зашла на кухню, якобы за зажигалкой: показать,
что не только в халате всю жизнь ходит.
А у меня в животе солнце хохочет
В малиновом завитке
А сам я в прихожей вечною ночью
С прохладною трубкой в руке
Есть у них тут птица Гукук,
летает ночами и кличет: «кук-кук»
а на которой хоромине посядет, то тут человек умрет
а ежели кто возжелает ее убить – так у ней изо рта огонь выйдет.
И второй ангел на сосне протрубил: одно горе прошло; вот, идут за
ним еще два горя.
И опять – я не в счет – никто ни уха не навострил.
Клавдия Николаевна была проститутка
потом заделалась портнихой. И стала
с Ниной Федоровной вместе жить.
Стасик с Ольгой ругаются.
Полаются-полаются, а вечером опять вместе в кино пойдут.
Дарья Филипповна в своей комнате
по телефону разговаривает,
а тетя Мила в коридоре стоит, подслушивает.
Дарья Филипповна, говорят, прикипела
к юнцу одному консерваторскому
уж и в загс собралась.
А у него, поганца, в его дыре
жена с дитем вырисовалась. Дарья Филипповна
вся на нервах, так тете Миле
до смерти любопытно.
А я в унитазе рыбу ловлю
По лесу у них мамоны ходят да обезьяны,
да по дорогам людей дерут,
а дики олени пупки из себя роняют по лесу.
И месяц у них стоит три дня полон,
да овощ сладкий везде каждый час произрастает.
И третий ангел со звезды возгласил: второе горе прошло; вот, идет
скоро третье горе.
И снова – всем померещилось только, будто звезда мигнула.
Соседи ходят, клад ищут. Каждый
свою комнату простукивает.
Тетя Маруся войны ждет.
Стасик нож точит.
Тетя Ревечка все кудахчет,
как бы Этлю поскорей замуж пристроить.
А в третьей справа видели черную девочку.
Говорят, из шкафа вышла, ушла в зеркало.
Я повесился. Прямо в центре комнаты,
на крюке из-под люстры, что в лепной розочке.
Тогда еще из репродуктора женский голос
пел про какой-то миллион.
Висел, думал про себя, что золотая люстра.
Потом рука устала. Упал. Разбился.
Милостью высокою преидох же три моря, претерпех же три горя.
I. Des dames du temps jadis
Скажи, в каких краях они, чья красота – как наважденье?..
Таис, Алкида – утешенье
Мужей, блиставших в оны дни?..
Где Элоиза, объясни,
Та, за кого приял мученья
Пьер Абеляр из Сен-Дени?..
Где Жанна, дева из Лоррэни,
Чей славный путь был завершен
Костром в Руане? Где их тени?..
Но где снега былых времен?
Вийон
А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть
Гумилев
«За тремя морями за тремя веками…»
За тремя морями за тремя веками
я искал струящуюся шелками
деву, не тронутую дураками,
чей сильнее, чем смерть, фавор.
Мне родные стали что грязь, что блохи,
врачи говорили, дела мои плохи,
я дни напролет чертил ее профиль,
я крался в ночи, как вор.
За тремя канавами за тремя плевками
я нашел себе куклу с отточенными руками,
с полетом бедра над чудовищными каблуками,
с надменной стрелкой ресниц пластмассовых ввысь.
Я двери держал, острил, посылал букеты,
стирался в пыль, слизывал след с паркета,
добившись – ногами пинал, выгонял на бульвар раздетой.
Но волей хандрящего дьявола мы ужились.
Купили кольца и объединили имя,
строили планы солнечными выходными,
затоварились ходиками стенными
и чайником со свистком.
Крестом держал пальцы – боялся ее потерять я;
но однажды утром, дотошно собрав все платья,
она спокойно ушла в чужие объятья,
оставив меня в пустой ванной со свешенным языком.
Дама, сердце
Minnesang
помню
много лет назад
на даче, на бугре,
говорили мне мои киевские тетушки
одна жгучая, уже крашеная, правда, брюнетка
с острым носом гражданки шапокляк
пафосная, вдова поэта
другая – голубоглазая блондинка
в свое время угнали в германию, но благополучно не опознали
а я тогда – в такой модненькой газетной рубашечке,
доставшейся от братца.
Говорили: знаешь, где у тебя сердце —
с какой стороны?
ну конечно, не знаешь —
здоровый ребенок.
Теперь знаю. Только оно все время где-то
совсем не там.
Вырядилась, точно народная артистка
или директор овощной базы,
и пошла разоряться
как только сама от себя не устанет
крашенная в медно-рыжий
в черном, с драгим камением,
сливки с прекрасной эпохи
шарфик шелковый – прямо из парижа
проплыла, с надменным недоумением,
сквозь вялый гул предбальной суматохи,
наклонилась – и щекой по щеке
и мятный шепот в ухо
и требовательный, душу тянущий,
на темной лестнице. и в такси налегке
и душистые простыни. и ведь не спьяну же
но наутро – ни сном ни духом.
ха! она ж холодна, как лед
на нее только издали любоваться и можно
вот она – захудалая моя весна
ветеранов свозят в столицу
драконовым гребнем по пустырю жжет траву детвора
красят бордюры решетки бронзовые имена
чистят песочком каменные лица
тянет жареною картошкою по дворам.
Притулился меж нечеловеческими громадами
новой кирпичной рассады
белый ванильный салатовый
поселок пятидесятых
пряничные балкончики фонтана кафельная колыбель
мальчик на трехколесном. дребезжит.
поджарый кобель
наискосок задумчиво пробежит
через трамвайный круг
тетенька сидит на трубе
полирует ногти. И вдруг
цок-цок по улочке
лисичка с сумочкой
и сердце мое, сердце-шмерце,
кивает само себе, что малая дурочка,
и стекает каналами тайных подкожных венеций
и капает чем-то горячим на тротуар,
контурируя пурпуром бензинный муар.
да, женщина ухоженная
хорошо умеет себя раскрашивать
такой, должно быть, мужчины
оборачиваются вслед
осунувшись сердцем на четыре карата
едва не сгинув к тетке в саратов
истончив все известные волоконца донельзя
нацедив чашицу голубых кровей
только и умея теперь, что ходить по лесу
собирать с асфальта мерзнущих червей
стылой весною осенью сирою
на черно-желтых счетах в сельпо
сижу калькулирую:
мне будет ли по
ночному трезвону
спазму ее, выгибу-вдоху-стону
за каждые две слезинки
за морщинки у рта
за взлелеянную в чудесной корзинке
да пущенную за ненадобностью на ворсинки —
Ни черта.
ой, бросьте вы, на что вам такой цирк
один самодур, другая истеричка
вполне стоят друг друга
злая зазноба моя —
нет, не такая, дороже на три рубля
точеные колени – сглатываю – в складках скользящей ткани
высокая грудь за черными кружевами
лучезарные заклепки на немыслимых каблуках —
опять ушла – вся в духах и звонках —
мимо меня, неумелого кюхли,
покупать себе двадцать пятые туфли
видите ли
этакая стерва
ноет-ноет
ноет-ноет
а ведь всех переживет
сердце мое – нервическая балерина,
рискующая споткнуться о зернышко ячменя.
и пусть, как всегда, обдурены мы,
для счастия хватит долечки мандарина, —
ее недлинными, свеженаманикюренными —
очищенного – для меня.
ну да, есть у нее слабость —
фактурные мущинки
а так, в сущности, веселая же тетка
в замшевой ласке, томной улыбке
льняного выреза, охристой челке
мой мотылек увяз
в мнительно-зыбком
пепельном шелке
в карем золоте ее глаз
я – тухлая рыбка
лежу в газетке, на всеми забытой полке
тухлая рыбка. а в брюшке – алмаз.
«Полгода не был. На Новослободской…»
Полгода не был. На Новослободской
Помыли витражи
А ВЫ МЕНЯ КАК НАСТЮ ТОЦКИЙ
И через миг где покажи
Был сад цветов уж снег лежит
Осень
Лошади пасутся за белым монастырем
Козел на погосте
Цыган ходит кругами вдоль кремлевской стены
За пустырем
На берегу, все в коросте
Есть валуны.
У встречного паренька
Наушник от плейерка
Бывает блеснет под фонарем
Точно серьга.
Малыш
Жду тебя в пять у синего здания
Или ты вылез в окно
Или ты спишь
Что ли пойдем к палатке
Пососем старые шоколатки
Только чорные чтобы не видели
Чорные бродят по стенам безглавой обители
Грызут облатки
Пьют самогончик
Спускаются беззвучно гуськом
Залезают в фургончик
Укатывают восвояси.
Вчера наврал тете Асе
Будто мужик
Наутро вырос второй хуй
Что же тут делать
Может будем дружить?
Пальцами мерзлыми заплетать друг другу бороды
Шататься улочками темного города
Любопытствовать под низкими окнами
Как за ними окают
В горницах охают
Но сколько бы барышни на крахмальных простынях не елозили
Только и останется тут, что тарелка плоская финского озера.
Живет-бывет Борис Семеныч Лейтес
Верейский коммерсант
Сушеный кальмар вместо пейсов
В форме амперсанд.
Живет на той самой улице
В тупике на краю земли
Где стоят живые дома
Между ними холодные висят облака
Белая слюна плавно по стенке лифта
Носки на ниточке поперек мертвой ночи
Борис Семеныч по-прежнему холост
Куда же она делась, малюсенькая дурочка Ривка?
Мои уши ушли в изгнание —
Утопи поглубже в высоком горле свой сладкий голос
В каком кривом переулке ты забыла свое кохание
Ты не видишь разве как плачет мое лицо
Под синим ветром в шестнадцатом с низу окне
Уже осень на горб свой острый нанизала немало дней
Вот и с Ксении Константиновны облетел листок.
Простыня с дырочкой на зачехленном диване
Дорогой, не-мой, взъерошенный воробей
С умным и грустным носом
Назначено х письмодней – хуй забей! —
Не поменять без спросу —
Мы не преминем местничать.
Вышучивать тебя, интересничать
Уже не моя печаль
Зачем нам, дуракам, чай
Мы и пешком помолчим.
В четыре часа в ночи
Голова набита по уши
Елочными игрушками
В низу живота commotion
Сердце стреляет пушками,
Выскакивает лягушками
Изо рта.
В четыре часа в ночи
У тебя банкет в гордом Berkeley
У меня закрыты все дверцы
Стучи не стучи
Да глаза в пол-лица в мутном зеркале
Да на шторах кровавые перцы.
Красота.
*
Я куплю тебе дом с мозаикой
В старинном квартале
С хуевой тучей престижных понтов
А ты, пожалуйста, побудь заинькой —
Не вынимай меня из сандалий:
Я босиком плясать на гортани
Собственной песни песней ой не готов.
*
Каждая единица твоего молчания
Словно вдумчиво в мякоть ладони огонек папиросы,
Вновь и вновь – до слез – выбивающий пробки электрочайник.
Утрата первородства.
Имя твое в графе отправителя
Словно свежий трупик ловко убитой мухи
На паркетном полу. Удовлетворительно.
Потираю руки.
*
Да будет дух наш смел и пронырлив
Прояснится наше обличье
В жар-птиц прорастут мандавошки.
Приеду – чин-чином, zirlich-manierlich,
Ашкеназские блюдя приличья,
Потрахаемся. Понарошку.
Выкушай, умница, ягоды-заморошки.
*
Подарю тебе писаную – лучше вылепленную в тесте —
Девицу-красавицу
Только напяль очочки – опытным взглядом проверь, все ли на месте,
И забавляйся с ней как заблагонравится.
Позови ее в сельский клуб, на танцы-жеманцы,
А там и скажи: хорош обжиматься,
Милый дружок, —
Не все тебе смехуечки да пиздохаханьки!
И строго так взяв за талию,
Отведи ее на сахарный на лужок
Покричать в хвою охоньки да ахоньки,
Поковыряться в гениталиях.
*
…И будет – в голубом экране
Под нежным солнцем, утром ранним
Старушка в кожаном пальто
Сидит на парковой скамейке,
Где мы, бывало, целовались —
Нам травы щекотали шейки
(Не ведал даже дед Пихто
Как эти травы назывались) —
У всех прохожих на виду
Бог знает уж в каком году.
«Не в расчете на мой острый глаз…»
Не в расчете на мой острый глаз
Покупались эти ботинки,
И в цирюльню пред встречею не бежалось,
И не дулось в ус.
А я все еще продолжаю,
Выбирая сандалии, по старинке
Думать: верно, на самую малость,
Но все же слишком открыты —
На ее вкус.
Или истинно сказано
какая бы малолетка
ни отсасывала вам
в тесном сортире
ночного клуба
все равно вы
цепляясь пальцами за кафель
думаете
только
обо мне
«запах какао во влажном воздухе с подветрием бензина…»
запах какао во влажном воздухе с подветрием бензина
рукой с бокалом, тыльной стороной ладони,
невзначай по груди
а она в глаза не глядит
она теплая, как не знаю что, как густое молоко в бидоне,
она ласково улыбается и вашим, и нашим, и хозяину магазина.
у нее шелковых чулок сундук и профиль верблюжонка
у нее совсем большая умница-дочка
и дом полная чаша, и походочка от бедра
а последние дни ее тошнит по утрам
как вы понимаете, я тут ни при чем и точка.
возьму себя в руки. подарю фланелевую распашонку.
у меня меж ключиц дрожит обморочная нежность
эти сырые сумерки волнуют, как майские ночи,
которых нам с ней, конечно же, не провесть.
у нее меж ключиц бархотка и июльская безмятежность
пойду к обрыву, офелия, одуванчиковый веночек
а там – грустные клоуны, дующие в жесть,
утешайте меня.
«когда бы можно было на руках…»
когда бы можно было на руках
по тропке босиком в стог сена
и слезы слизывать и пальцы целовать
я б ух – и прах и дух отправил нах
и сплюнул косточку. когда бы не елена
что троя нам что дом что голова
«я б сшил тот дивный пламенный центон…»
я б сшил тот дивный пламенный центон
из каблуков коктейлей волн шелка
того, что ты еще не надевала
я чудик во дворе, пью ацетон
сжираю взглядом целомудренного волка
тебя – под одеялом.
я под грозой об лоб бью кирпичи
в песочнице сажаю три копейки
кошелки говорят, сбежал из дурки
зову тебя – ты только не молчи
я бим и бомж на голубой скамейке
кругом – окурки.
«незамысловатая набережная обрывается в травы…»
незамысловатая набережная обрывается в травы
в майке в кирзачах моет «волгу» в волге
подарочно после ливня гладит и плавит
теплыми губами пестовать долгий-долгий
так близко – трещинки, пушок на подбородке
и глаз сквозь темное стекло, нежный
на постаменте бронзовый солдатик смотрит кротко
на знакомый до слез, до слез не прежний.
а ты могла бы в ситцевом, в синие горошки
за молоком за хлебом растить нашу ушастую ляльку
в чистеньком, с наличниками, с гортензией в окошке
с соседками ввечеру у колодца калякать
а я в кирзачах под «волгой» на заводе в сарае
и каждый рупь, каждую золотую рыбку – своей эвридике
все закаты все рассветы – наши; это, вроде, называют раем.
или – я бронзовый солдатик, ты мне – свежесрезанные гвоздики.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!