Текст книги "Фес"
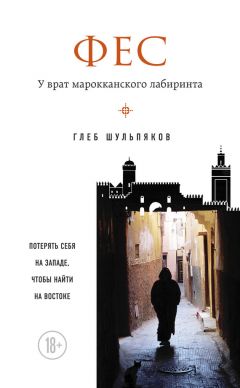
Автор книги: Глеб Шульпяков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
II. Испытание
1.
Постепенно боль стихает, уходит в землю. Сколько времени сейчас? Сколько я пролежал здесь? В темноте время стоит на месте. Откроешь глаза, закроешь – только густая, как чернозем, тьма. Только тошнота, которая растворена в ее сырой мертвой тишине. Я облизываю губы, вкус горький. Пальцы липкие от засохшей крови. Сначала на колени, потом выпрямляюсь. Один шаг, другой, третий. Вытянув руку, одолеваю несколько метров и падаю. На ощупь это браслет или кольцо. Потрогать его, как широко оно обхватывает ногу над щиколоткой. А цепь тонкая и скользит между пальцев. Натянуть ее? Несильно дернуть? Услышать справа из темноты металлический шелест? Переползти на звук? И провести рукой по стене?
Это крюк или скоба, а цепь прикреплена к ней. Дернуть слегка, как дергают колокольчик? Рывок, еще раз! Больно впивается в кожу. Отбросить цепь и лечь на спину. Это просто плохой сон и надо заставить себя окончательно проснуться. Или закрыть глаза и попытаться уснуть снова. Тогда, может быть, этот сон закончится и можно вернуться обратно.
2.
Для начала надо все восстановить в памяти. Сделать это легко, прошлое отчетливо, словно я перенесся в него или смотрю запись, снятую на камеру, установленную в комнате, куда случайно попал в тот злосчастный вечер. Собственно, каким-то непостижимым образом я и есть эта камера. Мое я прекрасно видит комнату – она выходит (или выходила) через балкон на знакомую улицу, просто перетекает (или перетекала) и вливается в уличное пространство и занимает (или занимала) его собой. А улица, в свою очередь, растворяется в квартире, присутствуя отблесками фонарей и уличными звуками и запахами; они – комната с улицей – словно смешались, образовав третье измерение, которое не принадлежит ни внешнему, ни внутреннему миру, а только тому, кто на него смотрел и смотрит, и этот кто-то – мое я. Это я видит на соседнем балконе голубятни; от неожиданности знакомого, но впервые увиденного столь близко предмета я цепенеет. В окне за голубятней оно видит стол и даже клеенку с утятами. В щель между шторами пробивается свет от лампы с перламутровым, в разноцветных стекляшках, абажуром. Свет освещает и полку для посуды, и кусок стены, крашенной в зеленый цвет, и воздуховод, и плетеные подстаканники, почему-то особенно врезавшиеся в память я. Там же, на этой записи, хранились руки, время от времени появлявшиеся между штор. Тонкие женские пальцы держат чашку, и пивная пена падает из чашки на пол. В следующем кадре я видит знакомый красный рюкзак, и тут же стекло звякает, а рама дребезжит и открывается. Из окна музыка. Теперь глухонемая девушка, с которой тот, кому недавно принадлежало я, танцевал танго, находится настолько близко, что ничего не стоит взять ее за руку, как тогда, в клубе, и, например, сжать холодные влажные пальцы. Но я знает, что это невозможно, ведь я может видеть, но не осязать. Вот, подцепив крючок, девушка поднимает створку. Из голубятни тут же вылетает и, подхваченное потоком уличного воздуха, кружится белое перышко. За первым свертком в голубятню отправляется еще несколько таких же целлофановых брикетов. Теперь девушка застегнула знакомый рюкзак, а руки исчезли. Штора вернулась на место, свет в комнате сразу погас. Я осталось одно. В том, что танго и голубятню смонтировала рука, сомнений у я нет и не было, даже номер мертвого человека и красный рюкзак были и есть звенья одной цепи. Но кто постановщик и в чем логика этих звеньев? Это можно узнать, позвонив художнику, тем более что они могли быть в эту минуту вместе в квартире за стенкой. Я уже как-будто слышало и самый этот звонок – его телефона, эту оглушительную трель за стеной; я уже представляло себе его удивленные глаза, и как он улыбается в трубку, слушает, а потом хлопает себя по ноге и идет к двери; как одновременно он и девушка выходят на лестничную клетку, хохоча над нелепым совпадением. Они, конечно, расскажут я невинную историю, скрытую за всем этим веселым приключением, и они – художник, его девушка и я – спустятся на террасу, чтобы отметить это дело. И я забудет и о ревности, и о всех своих страхах. Да, именно так. Все это я и собирается себе представить, но тут его внимание отвлекет запах сигаретного дыма. Слышно шорох, но обернуться? Нет, я не успевает. Удар настолько сильный, что оно сразу теряет сознание и исчезает из памяти.
3.
Цепь оказалась довольно длинной, и скоро мне удалось определить габариты помещения, где я очутился. Стена с кольцом шла в глубину метров на пять-семь, она была неровная и шершавая и царапала руки соломой или прутьями, торчащими из глины. Другая – тянулась вдвое дальше, ее сложили из крупных пористых камней вроде пемзы, в зазоры между ними проходил палец, настолько большими они были. Сухой раствор напоминал помет и легко крошился. А из второго помещения накатывал теплый воздух. При входе в эту теплую комнату обнаружился кран, торчащий из стены, и я с наслаждением пил воду, которая имела странный привкус известняка и тины.
4.
– Эй! – Я поднял руку.
Снаружи донеслись другие голоса, разговор шел на непонятном языке. Судя по шарканью ног, кто-то что-то втаскивал.
«Селямалейши, селямалейши…»
Это повторяли двое с голыми спинами, подтаскивая брикеты к порогу. Ударяясь об пол, мешки покрывались облаком пыли, и она клубилась в косом уличном свете.
Хлопнув ладонями, бородатый человек сделал жест: «Достаточно». Его голос звучал по-детски тонко. Человек расплатился с рабочими и спрятал огромный кожаный кошель в складках полосатого балахона. Я снова сделал шаг навстречу, но человек исчез из проема раньше, чем я успел открыть рот. Дверь захлопнулась, и в подвале воцарилась темнота.
5.
Что с моей женой? Что с ними? От одной мысли внутри вспыхивал ослепительный свет, который разрывал беспомощной яростью, заставляя бросаться на запертую дверь, но та лишь безучастно дребезжала. Я лежал, уткнувшись в стену, и мычал от отчаяния. Засыпал и просыпался, и снова проваливался. Так прошло несколько часов или сутки, не знаю. Когда прямоугольник под потолком потускнел, снаружи снова послышались голоса, теперь их обладатели что-то обсуждали на повышенных тонах. Один голос, тонкий, я уже знал, а второй, хриплый и низкий, слышал впервые.
Дверь распахнулась, и я сощурился от света. Одетые в балахоны, двое мужчин смотрели на меня из-под капюшонов и напоминали недобрых сказочных существ. Второй, толстый, вытащил палку. Я шагнул ему навстречу и тут же упал от боли. Второй удар отбросил меня в угол. Толстый ловко поймал конец плетки и заулыбался. Оба они показали на вторую комнату:
– Иди.
Двух ударов оказалось достаточно, чтобы превратить человека в собаку – я покорно отполз туда, куда мне велели. Под собственной тяжестью крышка, которую они требовали открыть, съехала на пол. В печи гудело и металось желтое пламя.
6.
То, что мне удавалось увидеть в дверном проеме, напоминало печальные видения – подобное человек видит во сне или полудреме. По этим картинам – например, по тому, есть ли тень от солнца на стене, – я научился определять время суток. Сырые полосы на глине говорили о том, что прошел дождь, а в ясные дни розовая поверхность искрилась.
Первый «тюремщик» приходил примерно три раза в неделю. Он привязывал черного ослика, груженного брикетами, и сам сбрасывал их. А потом садился на ступени и, наблюдая, как я работаю, ел. Косточки от фиников я подбирал и обгладывал, когда он уходил из подвала. А второй, «толстый», появлялся, если топливо заканчивалось раньше и пламя ослабевало. Неодобрительно бормоча, он сбрасывал несколько дополнительных брикетов и вынимал плетку. Когда ему удавалось ударить меня особенно сильно, его живот округлялся от смеха, и ткань одежды вываливалась из жировых складок. Это было его развлечение, бить меня. Первое время, чтобы увернуться от плетки, я забивался в дальний угол, но «толстый» все равно доставал меня. Однако вскоре мне удалось вычислить безопасное место, оно находилось у порога перед самым носом моего мучителя. Здесь «толстый» не мог поразить меня самым страшным местом плетки, жалящим кончиком. А сойти вниз и первый, и второй боялись.
Сколько раз я ползал перед ними, называл номера телефонов, суммы… Хрипел, пытался схватить за одежду. Но в ответ «толстый» добродушно тыкал в меня плеткой и кивал на печь: «Работай». И постепенно моя прежняя жизнь отодвинулась в дальний угол сознания. Все, что связывало с недавним прошлым, стало расплывчатым и безвкусным. Теперь в том, что со мной случилось, мне мерещился некий фатум, даже высший замысел, спорить с которым бесполезно, поскольку он свершается по чужой и нечеловеческой воле. Я мог почувствовать эту волю, но объяснить или изменить ее? К тому же голод – он вытеснял привязанности быстрее, чем само время, его тупое, изнуряющее присутствие направляло мысли только в одну сторону, когда придет «балахон» или «толстый», что мне бросят, кости или лепешку, и какую часть и сколько. Голод был сильнее любви и ненависти, образа жизни, привязанностей и страхов, вскоре он превратился в привычку и стал моей частью. Если прошлое и всплывало в моем сознании, то это были картины семейных ужинов, тогда мне мерещились недоеденные куски мяса и печеная картошка, яблочная кожура и хлебные крошки – и я, то и дело сглатывая слюну, часами подсчитывал, на сколько этого хватило бы мне. Иногда, чтобы подразнить меня, «балахон» ужинал на ступеньках. Ел он почему-то поздно, в сумерках, и, как правило, руками – просто ставил на колени блюдо, а рядом – чайник и принимался за еду. От запахов у меня дрожали руки, я задыхался. Как человек подносит ко рту кость, как выгрызает из нее мясо? Как берет горсть риса и слизывает жир на губах? Вид набивающего брюхо человека действовал подобно гипнозу. У меня не возникало желания убить его и отнять пищу, я просто не мог оторвать от нее взгляда.
Он уходил, а мне оставались корки и крошки, которые я собирал под тем местом, где он сидел. Чтобы обмануть голод, я размачивал хлеб во рту. Когда слюна приобретала мучной вкус, сглатывал, а мякоть держал за щекой, чтобы она превратилась в кашу, и часами лежал с мякишем за щекой. Если сна не было, перебирал в памяти то, что еще осталось не размытым. Думал о доме, но без отчаяния, с каким-то печальным равнодушием. Да и кто видел меня в последний вечер? Свидетелей, кроме девушки, не было, если, конечно, художник расскажет обо мне, и тот, с кем она танцевала, совпадет с тем, о ком речь. Но этот вариант представлялся мне самым невероятным.
Постепенно жизнь в подвале вошла в привычку, и мысль о том, чтобы изменить что-то, все реже посещала меня. Зачем? Любое изменение только пугало меня. Через равные промежутки времени в подвал долетали звуки протяжных призывов, похожим образом взывали в мечетях, когда мы с женой первый раз выехали на азиатское море, но мысль о том, что я нахожусь в другой части света за тысячи километров от дома, нисколько не пугала меня, ведь подвал вокруг меня оставался одним и тем же, так какая разница? Глядя в черный потолок, я рисовал наше далекое лето, пляж, моторную лодку и название этой лодки – «High and blue tomorrow». Как мы шли по заливу в открытое море и я задыхался от трепета и торжества, и свободы, которая долго еще с этими чувствами будет связана. Как после купания любили друг друга на дне лодки, и как жена, лежа на спине, улыбалась чужой улыбкой, словно на небе, куда она смотрела, открывались картины, которые мне недоступны.
7.
Время в том мире, где я очутился, определялось по тому, как светлеет или исчезает в тени контур под потолком, или по призывам на молитву, поскольку ночной звучал дольше и печальнее, а дневной коротко. И по визитам надсмотрщика. Но что теперь означало время? Оставались его следы, наглядные свидетельства – например, как отросла борода и ногти или насколько холоднее стало спать ночами. Но предсказать время или угадать его? Ни наступления утра, ни паузы между молитвами рассчитать не удавалось. Мне по-прежнему не составляло труда складывать дни в недели – или вычитать. Но уловить само течение, поток? То, что складывалось и вычиталось, не существовало, а превратилось в одну растянутую секунду. Темную или сумеречную, холодную или жаркую, заполненную чувством голода или отчаяния, тоски или меланхолии, размером с комнату, где я сидел, – или бескрайнюю, как сны, которые мне снились. Зато с удвоенной ясностью в памяти воскресло то, что я считал навсегда потерянным. Давнее прошлое выскакивало в виде отчетливых, пугающе резких картинок. Вот детская лопатка с желтым пластиковым штыком – из моей песочницы, видна даже свежая трещина. Вот кожаная этикетка с индейцем в коконе из перьев – джинсы с этикеткой носила одноклассница, в которую я был влюблен в школе. Затопив печь, я засовывал за щеку хлебный мякиш – и закрывал глаза. Теперь в моем распоряжении имелась настоящая коллекция, это был пантеон случайных вещей, паноптикум воспоминаний, которые я мог тасовать, сколько заблагорассудится. Тут были крашеные заборные доски, из них мы соорудили плот, прилавок ларька и перламутровые пуговицы на хлястике пальто человека, стоявшего впереди в очереди, и само бесконечное ожидание в этой очереди – неизвестно чего. Блеклая фотография блондинки на приборной доске автобуса – меня возили этим автобусом в детский садик на пятидневку. А вот ворона с перебитым крылом, обитавшая одно время за верандой в садике, и кусок хлеба, которым я подкармливал ее. Часто мне казалось, что передо мной фрагменты чужой жизни, которые почему-то всплывают в моем сознании – словно фильмы перепутали, и в коробку с одним названием положили другое кино. Только люди – те, кто жил в этих фильмах, – оставались неразличимыми. Чтобы увидеть лицо, я делал масштаб подробным, даже слышал голос, но стоило перевести взгляд на источник этого голоса, как изображение гасло. И все же одну картину мне удалось разобрать, это была старая фотография, студенческая. Молодые люди сгрудились в кузове грузовика; судя по хлопковому полю и тюбетейкам, дело происходило где-то в Азии. Там-то, на фотографии, которую я с таким трудом разобрал, я узнал моего художника. Совсем юный, вчерашний школьник – но с той же обезоруживающей улыбкой, с тем же тревожным взглядом – и уже тогда игравший лицом две роли. Откуда он взялся? Наверное, ктото из одноклассников, кто стоял в кузове, вывесил в Интернете, а я случайно наткнулся и запомнил. А он даже не знал об этом, наверное.
Рядом с художником стояла невысокая девушка. Белые шорты плохо скрывали ее полные короткие ноги. Художник обнимал ее сдержанно, как бывает, если между молодыми людьми только-только появились отношения. Она придерживала панаму так, что тень закрывала лицо. Но что-то неуловимо знакомое – в осанке, в наклоне головы – угадывалось в ней.
8.
Случалось, просвет под потолком неожиданно исчезал и так же неожиданно появлялся снова, как будто снаружи убирали то, что заслоняло источник света. Случалось, что вода из-под крана отдавала, как обычно, известью, а случалось – горчила. А иногда воды вообще не было. Случались настолько холодные ночи, что я перебирался в комнату с печкой и лежал, прижавшись к глиняной стене. Случалось, «балахон» приходил не один, а с мальчиком, одетым в точно такое же, только меньшее по размеру платье, и чтото рассказывал ему, показывая кончиком плетки на углы и стены подвала. Случался такой длинный призыв на молитву, что я успевал заснуть и проснуться, а призыв все звучал. Случалось, что мне, наконец, удавалось обернуть волос на бороде вокруг мизинца, и я радовался этому, как ребенок. Случалось, меня завораживал собственный животный запах, и я часами обнюхивал себя, как мартышка. Случалось, я думал только о том, чтобы оказаться в креслах самолета на высоте десять тысяч метров. Лицо жены, случалось, невозможно было вызвать к памяти – или вместо него всплывали лица других: например, официантки из кафе на нашей улице. Случалось, я мог без запинки просклонять глаголы «иметь» и «быть» на французском языке, который учил в университете. Собственное имя, случалось, вызывало у меня приступ изумления и страха, и я хотел стряхнуть его не только с языка – но даже с себя. Случалось, я не мог вспомнить название нашей улицы. Я мог мысленно собрать на балконе голубятню, доска за доской – случалось и такое. Случались минуты, когда я наматывал цепь на шею и раздумывал, можно ли задушить себя. Случалось, ночью я просыпался в слезах, а проснувшись, рыдал безутешно и горько – хотя и не знал: отчего? Случалось, под циновкой обнаруживался засохший кусок лепешки, и я грыз ее, забыв о том, что еще недавно искал крюк или хоть что-нибудь, за что можно зацепить цепь, чтобы покончить с собой. Случалось, мне приходили в голову мысли о том, что весь мир лежит у моих ног и я могу распоряжаться миром, как мне хочется – уничтожить его или просто не замечать. Случалось, я чувствовал себя отрезанным не только от мира и людей, но даже от подвала, в котором сидел; от вкуса воды и еды; от собственных мыслей и образов, подаренных памятью. Случалось, топливо было настолько пересохшим, что крошилось в руках. Толстяк, случалось, подолгу сидел на пороге и с безразличием слушал музыку, игравшую у него в телефоне. Случалось, музыка мне нравилась, но чаще навевала тоску. Случалось, что одна мысль была способна занимать меня целыми сутками – и тогда я переносился на тысячи километров, летал по воздуху, заглядывая в самые отдаленные уголки мира. Случалось, сотни мыслей пролетали за долю секунды, а я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой от страха сделать первый шаг. Случалось, я говорил себе: единственное, что может быть сильнее времени и жизни, – это образы и мысли, видения и страхи, которые от них остаются.
9.
«Балахон» поднял светильник над головой, и я увидел, что его плечи покрывала светлая праздничная накидка. Под мышкой он держал плетку, а в руке сжимал кусок дыни. Когда он доел ее, он облизал губы и бросил корку на пол. От взмаха руки плетка тоже упала. «Балахон» состроил гримасу и нехотя поставил светильник на ступеньку. Несколько секунд он оценивающе смотрел то на меня, то на плетку, которую хотел достать. Потом послышалось сопение, тяжелое и сосредоточенное, и он опустил ногу на одну ступеньку. Носок обуви, которым он хотел пододвинуть плетку, дрожал от напряжения, а ткань накидки натянулась и просвечивала. Не удержав равновесия, он стал падать на правый бок и скатился вниз. Теперь все предметы в подвале выглядели обведенными тушью.
10.
Чем туже стягивалась петля, тем ниже он опускал голову. Наконец раздался короткий хруст, спина обмякла, а голова повисла. Тело, словно уставшее от борьбы, опустилось на пол, и по подвалу поплыл едкий запах. Брошенная цепь, свернувшись змейкой, безучастно лежала рядом с вывернутой головой. Кожа на моих пальцах была содрана. Я подвинул плетку тому, кому она больше не понадобится, и тупо посмотрел на руку. Но рука, нелепо согнутая и еще блестевшая от дыни, не двигалась. Тело человека было ненужным и одиноким, и его пустота передалась мне. Лицо горело, а внутри разрастался холод, как будто это мои руки неподвижны, это я не могу пошевелить губами, это меня не стало.
11.
С порога, который все эти месяцы оставался для меня недосягаемым и вожделенным местом, мой подвал выглядел бы до смешного непримечательным, если бы не мешок мертвого тела, лежавший там, где еще недавно жил я. Этот мешок говорил о том, что с этой минуты все бесповоротно изменилось. Я заставил себя спуститься туда, откуда так долго мечтал выбраться. Я сел рядом и снял с его головы капюшон. Первое, что я увидел у него на лице, которое видел только издалека, был большой и неподвижный, как у чайки, глаз. Его борода была редкой и курчавилась, а губы по-детски припухли. Это было лицо совсем еще молодого человека, подростка. От сознания этого, и что ничего уже не исправить, хотелось лечь на землю и превратиться в камень; перестать быть, потому что быть и то, что лежало передо мной, не могло существовать в одном сознании. Но вместо этого мои руки аккуратно, чтобы не испачкаться, сняли с него накидку и балахон, стащили туфли и кошель с ключами, после чего я переоделся, ухватил тело за голые ступни и потащил к печке.
…Между крышами видны звезды, они редкие и крупные – настолько, что можно спутать их с лампами иллюминации. В городе, как и было сказано, праздник, но в этом переулке царит ночь. Здесь тишина и пустота, и только ослик, привязанный у двери в подвал, покорно ждет хозяина. И человек выходит из подвала. По его неуверенным движениям, по тому, как он одергивает платье и беспомощно водит руками – видно, что человек испуган или крайне возбужден, но пытается скрыть это. Ослик доверчиво тычется ему в руки, и человек, прижавшись к стене, гладит ослика между глаз, где плоскую кость покрывает короткая шерсть, а другой рукой зажимает рот, словно сдерживая рыдания. Может быть, он и в самом деле плачет? Несколько минут он стоит так, с зажатым ртом и подняв лицо к небу. Потом, отняв руку, несколько раз глубоко вдыхает и выдыхает. Чем глубже ночной воздух проникает в человека, тем чище и холодней становится у него на душе; тем ближе и отчетливее новое видение, которое вот-вот откроется ему; тем спокойнее, с безразличием готов он принять это видение; да, еще минута, и оба они – человек и ослик – тронутся с места навстречу новой жизни и исчезнут в ее сказочной темноте. Их движение бесшумно, поскольку копыта ослика обуты в резиновые облатки, а на ногах у человека туфли из мягкой кожи. Время от времени человек озирается, но людей в переулках нет, бояться некого – разве что изредка между домами мелькает тень кошки, а больше ничего, в эту часть города праздник не добирается, тут город спит. Правда, иногда над ухом слышны мужские голоса и музыка, они и в самом деле звучат настолько близко, что, кажется, их породило сознание и говорят между собой не люди, а мысли человека, который их слышит, но это не так, потому что за приоткрытой ставней, куда человек, удивляясь собственному любопытству, заглядывает, он видит полутемную комнату и людей в светлых, таких же, какие сейчас на нем, одеждах, он слышит их разговор, как они говорят между собой, сидя на ковре полукругом перед лампой, и как тихо смеются, прикладываясь к похожим на наперстки чашкам. Видение оказывается недолгим, ставень закрывает изнутри невидимая рука, голоса стихают. Следующая остановка произойдет только у ниши, которая прорублена прямо в стене. Это блюдо с едой, оно выставлено по случаю праздника для нищих и бродяг, которых много в этом городе, и человек, ничем от них, по сути, не отличающийся, набрасывается на еду, заталкивая пригоршнями рис и мясо, а когда на блюде ничего не остается, вылизывает его поверхность до тех пор, пока на языке не появляется металлический привкус, и только потом выедает из-под ногтей остатки пищи.
Все это время ослик будет понуро ждать, а потом снова поведет человека из улицы в улицу – туда, куда одному ослику известно. Не будем спешить, пусть перед тем, как вернуться домой, человек сделает еще одну остановку. Пусть теперь это будет обычная городская баня. Она будет устроена таким образом, что можно принять ее в любое время, даже в праздник, и пусть, чтобы работа шла бесперебойно, то есть чтобы горячая вода и пар поступали в баню круглые сутки, в смежном подвале, выходящем на другую улицу (из которого человек только что вышел), – будет устроена большая глиняная печь. Одним боком эта печь выходит в парилку, и эта ее сторона покрыта тонким, неплотно прилегающим медным листом, окруженным понизу узким стоком из мрамора, – а другим боком встроена в подвал, там топка. Холодная вода, бегущая по ганатам города, падает на раскаленный медный лист и, стекая вниз, испаряется; именно этот пар отводят под каменные полки парилки, а горячей водой наполняют бассейн и раковины. Поскольку в городе праздник, в бане будет пусто и сумрачно, видно только банщика, он сидит под масляной лампой и читает газету. Представим себе, что на спиртовке у него кипит маленький чайник, в чашке пучок мяты, а напротив стола тускло мерцает экран телевизора, где беззвучно жует волосатыми губами тучный господин в невысокой чалме. Представим также и то, что когда в дверях раздаются голоса, когда слышны шаги, этот самый банщик откладывает газету и видит следующее: как по ступенькам помощник банщика ведет человека в белом полосатом платье. На глаза этот человек зачем-то надвинул капюшон, видно только бородку, но банщик давно привык ничему не удивляться, он только складывает руки в приветствии и протягивает простыни. Он видит, что походка новоприбывшего неуверенна, он даже покачивается, словно пьяный, но банщика это тоже не удивляет, ведь сейчас праздник, и хотя вино религия запрещает, все в городе немного навеселе. Поднимая и опуская руки, человек позволяет себя раздеть, после чего банщик сажает его на мраморную тумбу. Все так же безучастно человек смотрит, как банщик опускает его ступни в горячую воду, как осторожно, чтобы не задеть опухшие щиколотки, омывает ноги, как разминает суставы – после чего жестом приглашает в парную. Представим себе, что теперь человек один, его никто не видит, и он с наслаждением вытягивается на полке; проводит ладонью по плечам, скребет ногтями грудь, пока мелкие капли пота, покрывшие тело, не становятся черными от грязи. Тогда человек стряхивает их на пол и снова вытягивается на полке. Он трет глаза, размазывая по щекам не то пот, не то слезы. Следующие десять минут уйдут на то, чтобы надуть мыльную наволочку и растереть человеку ноги и грудь, размять плечи и шею. Во время процедуры человек незаметно проверяет, не сбилось ли полотенце, но банщик слишком хорошо знает свое дело, поэтому за время мытья повязка ни разу не меняет положения.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































