Текст книги "Дело Томмазо Кампанелла"
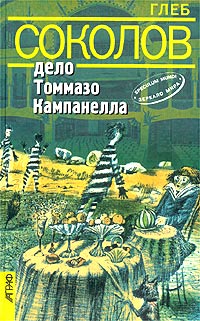
Автор книги: Глеб Соколов
Жанр: Триллеры, Боевики
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава XXVIII
Единоутробный брат Совиньи в блестящем аэропорту
– Да, ситуация, все эти эмоции, связанные с ситуацией требуют какого-то разрешения, – проговорил Господин Радио, садясь за свой режиссерский столик. – Какого-то, желательно благополучного (потому что, в противоположном случае, мы просто сойдем с ума), исхода!.. И на раздобытие этого исхода – у нас одна-единственная ночь, потому что больше ждать мы не можем. В этом, в краткости периода времени, отпущенного нам на все про все, и заключено самое главное!..
Господин Радио взял из пепельницы дымившуюся сигарету и затянулся дымком.
– Все же до сих пор не могу поверить, что вы ради нашей хориновской революции решились закурить, Господин Радио! – поражался подтянутый молодой мужчина, от которого ушла к другому жена, и поэтому теперь ему надо было как-то проводить одинокие вечера, а еще в ранней юности он мечтал об актерстве и вот… Он отдавался «Хорину» без остатка!
– Так надо. Я же режиссер. В этой профессии, яркой, между прочим, очень яркой, положено закуривать. Хотя это и вредно для здоровья. Но я же режиссер, значит, я обязательно должен курить длинную толстенную сигарету. В противном случае получится как-то ненатурально. В противном случае никто не примет меня за режиссера, никто не поверит, что я – режиссер, – объяснил Господин Радио.
– Да! Это очень вредно для здоровья! – согласился брошенный муж.
– Яркость профессии – это такой заряд эмоций!.. Такой заряд!.. Нейтрализует отрицательный вред табака и никотина, – Господин Радио достал из кармана сине-белую пачку дешевых сигарет.
– Такие плохие сигареты режиссеры не курят, – заметил брошенный муж.
– У нас бедный район, бедный самодеятельный театр, курят! – парировал Господин Радио. – Потом, я очень демократичный режиссер!.. А очень демократичные режиссеры должны обязательно курить очень демократичные сигареты!..
Тут один из хориновцев подал Господину Радио дирижерскую палочку (руководитель самого необыкновенного в мире самодеятельного театра, наверное, все спутал и смешал в своем воображении: дирижер у него превратился в режиссера, а режиссер – в дирижера. И то и другое было для него понятием из какого-то волшебного мира, существующего исключительно только там, где существует сцена, театр, а над разницей между этими вещами он не задумывался). Держа палочку наготове, Господин Радио произнес:
– Я предлагаю так… Но сначала я немного напомню… Один из наших товарищей, хориновцев, очень верно заметил, что теперешнее время – это время информации, время, когда информация становится всемирной… Мне кажется, что это самым непосредственным образом относится к основным предметам, с которыми мы здесь, в «Хорине», работаем, – к настроению, к эмоции… К настроению антуража – я бы ввел еще и такое понятие!.. Не только информация стала чрезвычайно подвижной – сам человек тоже стал чрезвычайно подвижным!.. Блеск от мрака в его жизни могут отделять всего несколько часов!.. Вот он на курорте – блеск, пальмы, солнце, – несколько часов – и он совсем в другом антураже: унылая улица, холод… Но как происходит это перемещение?! Конечно, нас интересует совсем не техническая сторона дела… Я полагаю, что эти несколько часов человек существует в совершенно особенном эмоциональном мире, в совершенно особенном антураже и настроении… Это – какая-то труба, это – жизнь электрона, который со скоростью света несется от одного компьютера к другому, от сервера к потребителю… Поскольку мы очень хорошо помним наш перелет из Риги, я предлагаю и всю нашу хориновскую пьесу построить именно вокруг этого события… Я предлагаю назвать ее «Жизнь электрона, или Волшебство рыбы» – пьеса в двух действиях с прологом и эпилогом. Итак, мы передаем историю с самого начала, с того самого момента, на котором мы прежде ее оставили, с того момента, как маски рассказали о том, что провозгласил Томмазо Кампанелла еще до того, как все (или почти все) хориновцы уехали в свое «турне». Итак, наш своеобразный отчет о том, что произошло в аэропорту!.. Точнее, о том, с кем мы столкнулись в аэропорту!.. – провозгласил еще раз Господин Радио. – Это будет нечто вроде спектакля-репетиции… Спектакля и репетиции одновременно, где что-то будет идти по заранее продуманной канве, а что-то, вполне в духе «Хорина», станет придумываться прямо, так сказать, по ходу пьесы. Давайте начнем нашу работу. Разрешите мне предварить сценку некой преамбулой. Хориновцы поехали на гастроли в Ригу. Эти гастроли были организованы старухой Юнниковой. Старуха Юнникова взяла с собой на гастроли в Ригу достаточно много хориновцев и в их числе меня.
Господин Радио взмахнул дирижерской палочкой… А на сцену, пока все внимание зала было привлечено к руководителю самодеятельного театра, уже вышел Глашатай. Теперь эту роль исполнял другой артист. Ниже ростом и толще, чем тот, что исполнял ее прежде. Но одетый в точно такой же костюм.
– Зал ожидания аэропорта… – начал он, видимо, желая тем самым обозначить место действия.
На сцену с разных сторон поднялось примерно с десяток хориновских артистов, которые начали суетиться, изображая зал ожидания аэропорта. Кто-то остановился, изображая пассажира, который давно уже ждет своего рейса, а кто-то, напротив, принялся нервно бегать по сцене, как тот пассажир, что прибыл в аэропорт с опозданием и теперь судорожно разыскивает, где проходит регистрация пассажиров, вылетающих его рейсом.
В этот момент на выходе из лабиринта музейных стендов, что вел к двери, появились два матроса.
– Эх, черт, приятель, невыносимо тяжело мне от этих широких улиц! – проговорил один из них, тот, что постарше и повыше ростом.
Хориновцы, которые в этот момент были зрителями на спектакле, устроенном их товарищами, повернулись в сторону вошедших матросов.
– Эй, вы не видели Таборского?! – спросил у хориновцев другой матрос, который был с темными волосами и помладше.
Хориновец, к которому были обращены эти слова, не ответил.
– Да-а… Что-то без особого энтузиазма нас встречает родная столица! – проговорил высокий матрос.
– Таборского?! – нашелся кто-то. – Да он же только что ушел! Вы разве не встретили его в дверях?
– Вот так дела! – сказал темноволосый матрос. – Значит, мы с ним разминулись.
Хориновцы, что были в роли зрителей, невольно отвлеклись на этих матросов, и Глашатай, чтобы привлечь к себе внимание зала, вновь громко проговорил:
– Итак, мы оказались в аэропорту!
– Скажите, а там, в аэропорту, было замкнутое пространство? – заинтересованно спросил высокий матрос.
– Конечно, было. Ведь мы оказались в пограничной зоне, – оторопело ответил Глашатай. Вообще-то, вопросы из зала сценарием придумщиков этой сценки предусмотрены не были. – А пограничная зона в международном аэропорту, это, прежде всего, замкнутое пространство.
– О, замкнутое пространство! Это здорово! Это я обожаю! Это как раз по мне! – принялся восхищаться высокий матрос.
– Да, замкнутое и еще раз замкнутое, – подтвердил Глашатай.
Остальные хориновцы, находившиеся в этот момент на сцене, уже устали изощряться в изображении ожидающих рейса пассажиров.
– Мне нравится ваш спектакль и эта история, – удовлетворенно отметил высокий матрос. – Надеюсь, пространство замкнуто достаточно хорошо? Так сказать, оно надежно охраняется?
– Пойдем! Пойдем обратно в гостиницу, – потянул его за рукав темноволосый товарищ. – Наверняка, Таборский опять будет туда звонить.
– О, вполне хорошо замкнуто, – отвечал тем временем Глашатай. – Ни одна мышь не проскочит ни в него, ни из него без соответствующего документа.
– Да, представляю эту ситуацию: не так-то уж и приятно должен себя чувствовать пассажир, – сказал из «зрительного зала» Журнал «Театр». – Кто же любит замкнутые пространства?! Недаром существует болезнь – боязнь замкнутых пространств.
– Совершенно верно. Вы совершенно правы, – согласился Глашатай. – Пассажир чувствует себя так, как если бы он находился в четырех стенах под арестом. Дело в том, что поставив отметку в паспорте о том, что он убыл, пассажир как бы больше не числится в одной стране и входа ему в эту страну более нет. Ведь он же не имеет въездной визы. Но на самом деле-то он еще из этой страны не выехал. Не выехал из этой страны, не въехал в ту, в которую он ехал. Он оказывается в странном мирке пограничья. Мирке, который замкнут. Мирке, который ограничен с одной стороны пограничниками и паспортным контролем: за эти ворота, обратно, пассажира ни в коем случае не впустят. А с другой стороны мирок ограничен воротцами, которые могут быть закрыты. И тогда там, с другой стороны этого мирка, ничего нет, а могут быть открыты, и тогда с другой стороны этого мирка – полет в самолете на высоте.
– О! Обожаю! – воскликнул тот матрос, что был постарше. – Вот этот мирок мне нравится особенно сильно. Хотя и первый мирок, ограниченный с одной стороны визовым контролем, а с другой стороны полетом на самолете, мне тоже нравится. Но мирок полета на самолете мне нравится особенно сильно. Потому что первое замкнутое пространство хоть как-то, хоть теоретически может быть разомкнуто. Например, если пассажир начнет умирать, то его увезут из этого мирка в больницу. Но из мирка самолета вырваться никак нельзя. Раньше, чем тот приземлится. Вот уж поистине замкнутое пространство так замкнутое пространство! И что еще мне особенно приятно, этот мирок летящего в океане, воздушном океане, самолета, еще очень и очень тесен. Там низкий полукруглый потолок. Кресло, в котором пассажир зажат между иллюминатором и локтем соседнего пассажира. А спереди впритык – тоже кресла. И совершенно некуда деться. Никакого простора, никакого воздуха, кроме принудительной вентиляции. Как в бочке, узкой и тесной бочке, которая бултыхается по волнам штормового моря.
– Как во чреве рыбины! – вскричал Глашатай. – Мы именно так и расцениваем этот полет самолета. Что это не самолет, а рыбина, которая нас проглотила. Мы стали воображать это, еще когда увидели наш самолет на летном поле. Он одиноко стоял невдалеке от окна, к которому мы все, хори-новцы, прильнули. Рядом не было никаких других самолетов, и наш выглядел громадной океанской рыбиной, выброшенной на гладкий берег. Этим берегом была огромная забетонированная площадь перед зданием аэропорта.
– Не забывайте про действие! – громко напомнил игравшим на сцене Журнал «Театр», который по-прежнему находился в зале. – По-моему, сейчас на сцене должно появиться следующее действующее лицо.
– Пусть войдет! Пусть войдет! – громко поддержали Журнал «Театр» остальные хориновские зрители.
И тут, не иначе как услышав эти призывы, на хориновской сцене появился очередной самодеятельный артист, который и так, видимо, уже заждался своего выхода. В руках у него был увесистый чемодан, что, по всей видимости, должно было изображать, что этот человек тоже куда-то летит.
– Погодите-погодите, мы пропустили один момент, который обязательно надо представить нашим зрителям, – Господин Радио воспользовался своим правом режиссера и остановил репетицию. – Погодите, про появление следующего действующего лица чуть позже. Появление нового действующего лица – это важно, но я хочу, чтобы здесь пошел рассказ про то, что в тот момент происходило в аэропорту города Риги. Рассказ от моего лица. Прошу артистов, участвующих в эпизоде «Рассказ от лица Господина Радио о пребывании в аэропорту города Риги» выйти на сцену! – громко произнес режиссер самодеятельного театра.
– Ну что же вы, Господин Радио, прерываете сцену на самом важном месте?! Ведь Журнал «Театр» сказал, что сейчас самое важное – появление нового персонажа. Я тоже считаю, что сейчас самое главное – это раскрутить действие посильнее, – проговорила женщина-шут.
– Бросьте! Вы же не знаете общего замысла. Как вы можете судить?! – воскликнул Господин Радио.
– Зато я знаю, как все было в аэропорту и самолете, – сказала женщина-шут. Впрочем, более спокойным и примирительным тоном. – Ну хорошо, разворачивайте сценку так, как вы хотите, – добавила она.
Тем временем на хориновскую сцену вышел самодеятельный артист, одетый под Господина Радио: на нем была такая же красная водолазка и черный пиджак. Правда, пиджак был немного другого фасона, но общего впечатления это нисколько не нарушало, – сходство в одежде с Господином Радио было очевидным.
– В этот день в том самом аэропорту… – начал этот самодеятельный артист, но неожиданно запнулся. Похоже, он забыл разученный заранее текст и теперь пытался восстановить его в своей памяти, сымпровизировать на заданную тему. Господин Радио недовольно скривил лицо, но не сделал нерадивому артисту никакого режиссерского замечания.
Между тем тот продолжил:
– В тот день… В этот день в этом самом аэропорту было ужасно людно. Такого скопления народа этот аэропорт не знал за всю свою историю и, вероятно, не узнает никогда в будущем. Кроме хориновцев в аэропорту города Риги в тот момент оказалась блестящая компания, путешествовавшая транзитом через Ригу с одного престижного международного кинофестиваля на другой. Гвалт, шум, красивые одежды, красивые женщины, кажется, что и сами аэропортовские интерьеры в тот день принарядились. Ужас, что там творилось! Просто ужас! Такого количества разных блесков, сошедшихся в одном и том же месте в одно и то же время, этот аэропорт не знал за всю свою историю. Мало того, что сам по себе аэропорт был достаточно блестящий и красивый, так еще в нем находилось столько блестящих и красивых людей! Просто с ума можно было сойти от такого блеска!..
– Черт возьми! – выругался Журнал «Театр». – Мы говорили про действие, а блеск – это не действие! По-моему, я уже говорил про это. Для пьесы необходимо действие. А вы подменяете действие блеском.
– Блеск – это действие! – огрызнулся Господин Радио, который ужасно не любил, когда комментируют его режиссерскую работу.
– Ситуация с блеском была критической. Если бы существовал прибор, который бы измерял степень блеска, то в этот момент его стрелка бы зашкалила, – продолжал рассказывать второй, сценический Господин Радио. – Блеск был неимоверный. Блеск был такой, что просто слепило глаза! Великолепие доходило до самой крайней степени. От этого великолепия меня в тот момент заколотила дрожь. Сердце мое заколотилось, потому что кругом было просто море блеска, блестящих поверхностей, от которых невозможно было нигде укрыться. И куда бы я ни пошел – на площадку перед барами, в туалеты, к креслам, в магазины, – всюду – блеск, блеск, блеск…
Пока остальные артисты, игравшие хориновцев в рижском аэропорту, изображали, как они отдуваются, поставив на пол вещи, ненастоящий Господин Радио несколько раз прошелся туда-сюда по авансцене, то и дело останавливаясь и разглядывая стоявшие на сцене декорации.
– Я ловлю собственное отражение в стеклах витрин, в никеле поручней, – пояснил словами сценический Господин Радио. – Даже деревянная отделка поручней на перилах аэ-ропортовских лестниц – и та была настолько гладко отполирована, что в нее можно было смотреться как в зеркало. Жаль, что мы, к сожалению, не можем передать этой атмосферы блеска в наших декорациях, – посетовал сценический Господин Радио. – Тогда бы вы точно поняли, почему мое сердце билось учащенно.
– «Глупое сердце, не бейся!» – поиронизировала, обращаясь к настоящему Господину Радио стихами Есенина, женщина-шут. – Вот уж мы никогда не думали, что у вас такое глупое сердце! То-то вы так побледнели, когда попали в этот аэропорт и вокруг нас стали толпами ходить участники кинофестиваля! Я-то думала, что вам просто плохо, что вы переутомились во время хориновских выступлений. А оказывается, вас просто истерзал в тот момент комплекс неполноценности.
– Нет! Моя неполноценность здесь ни при чем! – воскликнул настоящий Господин Радио, по-прежнему сидевший за своим режиссерским столиком. – Я переживал не из-за этого. Я переживал из-за того, что опять со своей профессией радиоэлектронщика я чувствовал себя в том блестящем аэропорту среди ярких транзитных пассажиров, переезжавших с одного кинофестиваля на другой, человеком второго сорта. А может быть, даже и третьего. А может быть, даже и четвертого.
– И вот тут-то, поскольку этот мир блестящ, именно и важно отразить появление того безобразного и огромного человека, который представился нам как Совиньи и который, точнее, актер, изображающий которого сейчас переминается с ноги на ногу на нашей сцене и никак не может начать свою партию! – не выдержала женщина-шут и вклинилась в представление. – Между прочим, этот человек вовсе не переживал из-за этого блеска, который его окружал, хотя он тоже не был киноактером!
– Верно! Верно! – полностью согласился с женщиной-шутом настоящий Господин Радио. – Как я потом уже понял, он был истинным революционером. Он, может быть, был большим революционером в настроениях, чем даже мы, хориновские революционеры в настроениях.
– Это почему же? – удивился Журнал «Театр».
– Потому, что он был разбойником. А как говаривал вслед за террористом Нечаевым еще Томмазо Кампанелла, разбойничий люд – это самый первейший революционер в России. Добавлю от себя, и в настроениях блестящего аэропорта, полного блестящими пассажирами – тоже, – ответил Господин Радио.
– Послушайте, но раз разбойничий люд – самый первый в России революционер, то, получается, что нам, помешанным на революционном преобразовании собственной жизни, необходимо некоторым образом подражать разбойничьему люду?! Так, что ли?! – испуганно спросил Журнал «Театр». – Подражать, иными словами, уголовникам?! Но как?! В чем подражать?!. Это очень, знаете ли… Это даже немного страшно и пугающе… Это, знаете ли, до многого нас довести может. Особенно тех из нас, что являются людьми особенно впечатлительными и морально неустойчивыми.
– Нет!.. Тут надо сказать твердо, что наша область, наша сфера, наша епархия – это только эмоции… И никакой разбойничий люд нас ни в какой сфере, кроме как эмоциональной, не интересует! Это точно! – успокоил Журнал «Театр» режиссер самого необыкновенного в мире самодеятельного театра.
– Сердце мое учащенно колотилось, – продолжал со сцены ненастоящий Господин Радио. – Я не чувствовал себя и свою профессию подходящими к этому блеску. Опять в моей душе было щемящее, тоскливое чувство обиды, как тогда, в театре. Опять была ужасная, чудовищная боль, которую я совершенно не заслуживал. Ведь я честно трудился инженером-радиоэлектронщиком. Я добился в своей профессии, на своем рабочем месте значительных успехов. Меня несколько раз поощряли почетными грамотами. А уж сколько раз за свою хорошую работу я получал премии – и не сосчитать. Но все эти успехи, грамоты и премии были ничто, потому что они не добавляли мне блеска. Сама моя профессия была неяркой. И в этом я чувствовал несправедливость: почему моя профессия неяркая?! Сколько можно жить с этим чудовищным чувством несправедливости и болью в душе?! Яркие и неяркие профессии, зловещее разделение профессий на яркие и неяркие, – опять, как тогда, тысячу лет назад, в театре, мне грезилось, что люди разделены на ярких и неярких, и главное при этом разделении заключено в их профессиях, которые тоже зловеще разделяются на яркие и неяркие. Я бы приложил любые титанические усилия, чтобы встать вровень с этим блеском, я бы легко сделал нечто такое, после чего все бы поняли, что я мужчина – сильный и настойчивый, – и ведь это на самом деле правда, что я не слабак и не трус, я не размазня, но… У меня просто неяркая профессия, которая… – тут сценический Господин Радио запнулся при исполнении своей роли во второй раз. Опять он, видимо, забыл текст роли. А вспомнить его или сымпровизировать что-то ему подобное – не мог.
Тут настоящий Господин Радио поднял вверх свою дирижерскую палочку, видимо желая, чтобы актер, игравший Господина Радио, его послушал. Естественно, что актер, игравший Господина Радио, перестал судорожно вспоминать, что же надо было сказать дальше по сценарию эпизода, а приготовился слушать своего режиссера. Между тем Господин Радио, как это и положено настоящему режиссеру, принялся объяснять актеру его роль:
– Понимаете, ваш персонаж чувствует, что он со всей своей жизнью никак не соответствует блеску. Но тут я хочу обратить ваше внимание на два момента. Первый – ваш персонаж однозначно понимает, что если не будешь пытаться хоть каким-то образом соответствовать блеску, то и комфортно чувствовать себя не будешь. Второй – ваш персонаж также однозначно понимает, что попытки «соответствовать блеску» так же бредовы и противоестественны, как и мои утверждения в рассказе про случай в театре в одна тысяча семьдесят седьмом году, что артисты имеют преимущества перед зрителями и чуть ли не издеваются этим преимуществом над зрителем, а потому зрителям надо бороться с артистами. То есть они как бы с одной стороны и не бредовы, да только если начнешь эти попытки делать… Да и в чем будут заключаться эти попытки?! Тут если начнешь пытаться, то получится… – на этот раз уже настоящий Господин Радио запнулся, подыскивая подходящее слово.
– Получится «Хорин»! – воскликнул Журнал «Театр».
– Да, верно! – согласился Господин Радио. – Есть еще третий момент, который я оставляю за скобками: сценический Господин Радио совершенно не представлял, как он может вдруг на практике начать соответствовать этому блеску. Ведь «Хорина»-то, в который он мог бы пойти, у него нет. Есть «Хорин» старого формата. «Хорин», в котором командует руководительница самодеятельного хора старуха Юнникова. Но с другой стороны, как я уже отметил, он, этот наш сценический Господин Радио (не надо путать его со мной, настоящим Господином Радио, потому что все-таки сценический Господин Радио – это не копия настоящего Господина Радио), прекрасно понимал, что при таких обстоятельствах, при существовании вот такого вот блестящего аэропорта, при наличии в этом аэропорту вот таких вот блестящих пассажиров, бродящих здесь как поодиночке, так и группками, жить простой тихой жизнью становится совершенно невозможно. Впечатлительный человек, который при таких вот блесках живет простой тихой жизнью, ощутит такое собственное несоответствие этому блеску, что ему тут же захочется либо как-то переменить свою жизнь, либо повеситься… Ну что же вы замолчали? – спросил Господин Радио самодеятельного артиста. – Продолжайте!
– А блеск усиливался, – продолжил актер, что играл Господина Радио на маленькой хориновской сцене. – Тому виной было закатное солнце, что пронзало лучами-стрелами насквозь: залы, витрины, зеркала, любую поверхность, что могла отразить, рассыпаться тысячами блесток. Какие мучения я испытывал! Каким несчастным я себя ощущал. Задержавшись возле одной из витрин, я увидел… Я нарочно развернулся боком, словно высматривая кого-то там, в дали коридора, туманной, неясной, воображаемой, чарующей… Мимо – я преградил им дорогу – проходили, нет, шествовали, скользили, поражали… Три стюардессы «Эр…» Какой-то там «Эр…» Название какой-то там авиакомпании было на их кокардах. И я нарочно задержался, отразился вместе с ними. Но если их отражение побежало, засеребрилось, неправдоподобно увеличивая их и без того невероятную красоту, то мое… Пшик!.. Я вдруг увидел служку-уборщицу, протиравшую витрины… Пшик!.. Она тоже не имела яркого отражения, она просто… И жпросто… Мы просто… Простота… Убийственная простота… Как какие-то безликие серые пятна: два пятна, две тени… Не то, одним словом! Я – не «то», одним словом. Не бейся тупое сердце. Я обманут счастьем.
Между тем находившиеся в зале хориновцы были так увлечены сценкой, что никто не видел, как в зал вошел посторонний человек. Впрочем, в царившем в «Хорине» полусумраке и не такое могло остаться незамеченным.
– Ой!.. – взвизгнула на этом месте женщина-шут. – Вот тут вы пропустили еще один момент. – У вас уже стоит на сцене один персонаж, который не знает, что ему делать. Этот стоящий на сцене человек с чемоданом, я так понимаю, это – безобразный огромный человек, который представился Совиньи, – действительно, стоявший на сцене хориновский актер с чемоданами был достаточно крупным мужчиной – высоким и толстым. – А в этот момент должен выходить на сцену еще один персонаж. Про которого, я уверена, вы забыли. Это мальчик из хориновской группы детей. Ну-ка, мальчик, выходи-выходи! – позвала женщина-шут кого-то, кто, должно быть, стоял в этот момент за сценой.
На сцену действительно в этот момент вышел мальчик. Он должен был изображать одного из участников детской группы хора, что тоже ездила на выступления в Ригу.
– Ну что?! – спросил женщину-шута Господин Радио. – Вы думаете, что сделали что-то очень важное и оригинальное тем, что вытащили из-за кулис этого мальчика? Да он и так должен был выйти из-за кулис именно сейчас. Верно, мальчик?
Мальчик послушно кивнул головой.
– Продолжайте, пожалуйста! – попросил настоящий Господин Радио сценического Господина Радио. И потом, повернувшись к женщине-шуту. – Между прочим, чтобы вы знали. По сценарию этого отрывка этот мальчик – это никто иной, как сынок Господина Радио!.. Но это так, к вашему сведению…
– Как тебя зовут, мальчуган? – тихо спросил тем временем тот из матросов, что был постарше, – он как раз стоял почти у самой сцены и вынул из кармана шоколадную конфету в бумажном фантике. Но мальчик не ответил и даже не повернул в его сторону головы.
– Эй там, у сцены! – разозлился настоящий Господин Радио. – Попрошу не мешать нашей работе. Иначе я буду вынужден попросить вас покинуть театр. Его зовут Господин Радио-младший.
Мальчик кивнул.
Сценический Господин Радио продолжал:
– Да, блеск оказывал на меня ужасное воздействие. Я страшно мучался. «Неужели и мой сын мучается так же ужасно, когда попадает в блеск?!» – подумал я. Щемящая, искренняя жалость, та самая, про которую рассказывал нам учитель Воркута, охватила меня. Но в следующее мгновение я понял, что мне нечего жалеть своего сына. Потому что блеск вовсе не оказывает на него такого же убийственного воздействия, как на меня. Наоборот, как симпатичный и милый ребенок, он должен был бы чувствовать себя в этом блеске вполне хорошо. Он в этом блеске пришелся бы к месту. Дети в блеске всегда должны чувствовать себя к месту. Потому как они еще – никто. Они только начало. А у начала может быть любое продолжение. И значит, категории-то у маленького человечка еще нет! Ведь у маленького человечка еще нет профессии. Нет профессии, нет и категории. Так это понимаю я, Господин Радио.
Поскольку это было все-таки театральное представление, а не прямой слепок с того, что на самом деле происходило в аэропорту города Риги, то в этом месте в хориновской версии событий мальчонка сделал шаг вперед и проговорил:
– Я ничего не понимаю отчетливо, рассудочно. Я чувствую все только в виде каких-то неясных образов, настроений, как собачонка.
– Отлично! Кто-то там спрашивал, как его зовут? Назовем его Собачонка. Отныне мы будем упоминать его только как Собачонка. Это наиболее точно отражает суть происходящих в его голове процессов. Итак, Собачонка – сын сценического Господина Радио! – воскликнул Господин Радио – режиссер.
– А раз нет у маленького человечка категории, значит, он в мечтах своих с полным правом может присвоить себе, на будущее, любую категорию, – продолжал сценический Господин Радио. – Пусть даже и нет у него никакого, ни единого шанса, что в будущем у него, действительно, будет именно эта категория. Ведь это же мечта. А для того, чтобы верить мечте, шансы не нужны. И вот получается ситуация, когда мы с моим сынком Собачонкой оказываемся, так сказать, совершенно в противоположных положениях: я понимаю, насколько сильно не соответствую я этому блеску, а мой сынок Собачонка, напротив, чувствует, что он здесь вроде как свой… Но я не случайно упомянул это «вроде как». Сам по себе он свой. Но ведь он же со мной и, как каждый ребенок со своим отцом, связан со мной множеством невидимых пуповин. И все то ужасное, что относится ко мне, по этим пуповинам перетекает и к нему. А поскольку он это перетекание ужасного через пуповину не осознает головой, он только чувствует это ужасное перетекание в виде каких-то неясных образов и картинок так же, как чувствует и думает собачонка, то от этой неосознанности зла он должен испытывать особенно ужасные мучения. А еще он должен тяготиться мной, как человек, который попал не в свою компанию и только вынужденно в ней находится. Я со своей неяркой профессией и категорией тяну его на дно, в то время как он мог бы со своей мечтой воспарить к небесам. Но если из компании можно выйти, можно с ней не встречаться, то как и куда ему, мальчику, моему Собачонке, от меня деться?!
Тут мальчик шагнул ближе к краю сцены, тут же в него ударил луч прожектора, и, щурясь от его света, мальчик проговорил:
– Я хочу рассказать вам, о чем я все время думаю. Мальчик достал бумажку и принялся читать по ней… Сначала он прочел посвящение:
– Посвящается моим родителям. Нечто вроде школьного сочинения.
Потом он прочитал сам текст «сочинения»: «Знали бы вы, о чем я мечтаю! Я не мечтаю о новом велосипеде, компьютере или паре ботинок. Я не мечтаю о гоночном автомобиле. Я мечтаю о мире, в котором никого из вас уже не будет. Мире, в котором я наконец окажусь свободным от вас, породивших меня и так меня не устраивающих. Я не знаю, куда бы вы все могли деться, но, безусловно, куда-то вы должны были бы деться в том свободном мире без вас. Увы, я слишком сильно переплетен с вами. Каждая жилка, каждый нерв переплетен. Невозможно быть чьим-нибудь чадом и не зависеть от своих родителей всю жизнь. Каждую секунду, каждый миг, каждую долечку времени вторгается в голову это бесконечное унижение: ты порожден кем-то, кто сделал это без твоего разрешения, без твоего вердикта на это. Это чем-то сродни изнасилованию, когда женщина вынуждена рожать ребенка от мужчины, от которого она не хочет его рожать. А разве рождение тебя не устраивающим тебя родителем не есть такое же изнасилование?! О, несправедливость рождения! Какая боль для сильной, свободолюбивой личности все время ощущать это унижение невластностью над самым первым, самым главным фактом в своей жизни! Человек властен над всем в своей жизни, он даже может выбирать, убить или не убить себя, но над своим рождением он не властен никак. В этом корень моих бед, в этом подлое начало всех моих невзгод. Отчего я не имел права выбрать себе родителей? Отчего это гнусное изнасилование?! Добро бы вы хоть как-то пытались смягчить тот факт, что именно вы меня произвели на свет, покаянием, смирением, попытались бы сделать хоть что-нибудь, что бы облегчило мои страдания. Страдания от того, что именно вы мои родители. Так нет же! Вы словно постарались сделать все, чтобы я как можно больше ощутил то, в каком ужасном месте и от каких ужасных неярких родителей мне довелось родиться».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































