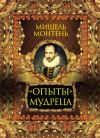Текст книги "Опыты теодицеи"

Автор книги: Готфрид Вильгельм Лейбниц
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Готфрид Вильгельм Лейбниц
Опыты теодицеи
© Марков А. В., вступительная статья, 2018
© Соколов В. В., наследники, примечания, 2018
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
Бог над судом
«Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла» – название обещает разговор о самых желанных предметах: все хотят считать Бога благим, человека – свободным, а зло – имеющим ясное начало, где и можно с ним покончить. Но слово «теодицея», иначе говоря, богооправдание, нас останавливает – неужели философ будет защищать Бога от обвинений в том, что мир зол? Или Бог будет вершить правду в мире, который впал в зло, и так исполнится правда Божия? Что делает философ, когда зло захлестывает его, и он видит, что даже мельчайшие движения его мысли не свободны до конца от зависти или мстительности; но при этом он знает, сколь много труда требуется, чтобы заговорить перед публикой от имени столь желанного всем добра?
Слово «теодицея», созданное Лейбницем, – одно из многих слов, сложенных из греческих корней, но невозможных в классическом греческом языке, в котором слишком чувствовалось, какому диалекту какое слово принадлежит. Таковы же слова «телескоп», созданное в 1611 г. итальянским греком Иоанном Димисианом, или «ностальгия», изобретенное швейцарским врачом Иоанном Хофером в 1688 г. В обоих словах первый корень из древнего гомеровского диалекта, а второй – из обычного классического греческого; но что для древнего грека выглядело бы «макаронизмом» языков, то в науке XVII в. оказывается единственным разумным употреблением языковых ресурсов. В изобретенном Лейбницем слове «теос», Бог, самое употребительное греческое слово, а «дике», правосудие или возмездие, напоминает о мифологической древности, впервые обосновавшей идею справедливости.
Название можно было бы переводить и как «оправдание Бога перед судом людей», как чаще всего его понимают, так и «правосудие Божие», «несомненность Бога», даже «возмездие Бога дурным мыслям о нем». Лучше всего объяснит замысел Лейбница живопись: фреска Амброджо Лоренцетти с изображением Премудрости в Палаццо Публико в Сиене и новгородская икона Софии Премудрости Божией. В вертикальной композиции выше всего мудрость (коронованный ангел с книгой у Лоренцетти или престол с книгой у новгородцев), в центре справедливость, правый суд Божий, и наконец, внизу гражданское согласие, concordia, огненный ангел единства Новгородской республики и само благополучие Сиенской республики. Это и есть кратчайшая графическая теодицея: осуществляя правосудие, Бог движим мудростью, которая и вызывает согласие и взаимопонимание людей лишь тогда, когда проверена справедливостью.
Теодицея – это всегда опыт, всегда вглядывание в уже совершенное тобой. Теодицею мы можем увидеть уже в библейской Книге Иова, хотя в ней Бог выступает как грозный судья, судья и собственных дел, и людей, и судеб. Философская теодицея исходит обычно из того, что Бог поддерживает порядок мира не только как судья. Бог философов – абсолютное начало; и теодицея исследует саму возможность такого начала как несомненного для человеческой воли, которая должна искать себе основание в абсолютном императиве, парадоксальном для разума.
Первым опытом теодицеи в истории философии можно считать диалог античного ритора Лукиана из Самосаты «Зевс обличаемый». Киниск (обобщенный образ философа-ироника, «песик», с отсылкой к философской школе киников) ловит Зевса на слове: Зевс, как блюститель мирового порядка, вынужден согласиться, что мировой порядок фатален, потому что иначе, без Мойр, он не будет выглядеть завершенным. Но фатализм, как лукаво показывает Киниск, приводит к падению общественной нравственности и сумятице среди богов: если все поступают по роковой необходимости, то нет смысла в наградах и наказаниях, и Зевсу только и остается признать свою немощь, невозможность не только действовать справедливо, но и являть знаки справедливости. В этой теодицее верховный бог пантеона проиграл судебный процесс над собой, но в других теодицеях Бог выигрывает.
В христианском богословии проблема зла решалась обычно указанием на зло как влечение к небытию, которому противостоят благодатные, благословленные Богом силы бытия. Некоторые христианские мистики, как мнимый Дионисий Ареопагит, просто отказывали злу в онтологическом статусе, считая его небытием добра, отсутствием добра, тенью, временным умственным помрачением. Другие богословы, более верные библейскому слову, признавали способность зла вредить, видя в этом нехватку бытия, неумение удержаться в его полноте. Бытие для средневековой мысли есть благо, и поэтому неумение быть в бытии и есть зло.
Но такой подход сразу ставит вопрос: а откуда берется это неумение, отвычка от благобытия? Если в средневековой мысли достаточно было указать на грехопадение как на безответственное решение Адама, то позднейшая мысль ставит неизбежный вопрос: с чего начинается решение воли? Как наш разум вообще приходит к тому, чтобы что-то решать? Одной ссылки на достоинство человека, состоящее в том числе в возможности свободного выбора, включая выбор зла, недостаточно; потому что достоинство – это уже совершенный выбор, выбор держаться с достоинством, выбор, придающий качество любому другому нравственному выбору, а не предварительное условие выбора, который как-то сам собой переходит от бескачественности разочарования или соблазна к качеству всеобщей известности.
Поэтому любая теодицея ставит под вопрос мнимую очевидность «свободного выбора». Оказывается, что свободному выбору предшествует многое: интуиция целого, отношение к вещам, первый порыв и первая удача, первая догадка и первый же ложный шаг, хотя бы мысленный. Эти вещи обсуждала христианская аскетика, а не христианское богословие; а в теодицее как в аскетике приходится говорить и о тех начальных колебаниях воли, которые мы не замечаем, слишком устремляясь умом к убедительности совершенного выбора. Разве что в западном учении о Чистилище как искуплении не злостных грехов, а таких начальных колебаний, и в учении православной Церкви о непрестанной молитве святого, которая сводит ум в постоянно пронизанное божественными энергиями сердце, возникло то смыкание богословия и аскетики, которое и следует назвать теодицеей. Именно на последнюю теодицею, теодицею сердечного оправдания, правды сердца, а не спора доводов, равнялась всегда русская мысль, даже если ставила себе Лейбница в пример.
Так, в России «опытом православной теодицеи» с оглядкой на философскую линию от Лейбница до Канта назвал свой огромный трактат-эссе «Столп и утверждение истины» священник Павел Флоренский. Эта теодицея мыслилась как первый том труда, вторым томом должна была стать антроподицея, оправдание человека как существа мыслящего, изобретающего и уподобляющегося Богу, потом эта антроподицея, по множеству охваченных в ней предметов, получила название «У водоразделов мысли». Во Вступительном слове перед защитой этого труда как магистерской диссертации Флоренский объяснял, в каком смысле его книга должна быть признана теодицеей. Теодицея – это способность созерцать Бога, не впадая в отчаяние от собственного несовершенства; но также это установление «относительного равновесия», спасающего «внутренний мир от таящегося в нем хаоса», как раз такое незримое и головокружительное правосудие, которое делает справедливым и оправданным весь трепет нашей жизни. «Спасение, в сфере теоретической, мыслится прежде всего как устойчивость ума, т. е. именно как ответ на вопрос: Как возможен разум? и если религия обещает эту устойчивость, то дело теодицеи – показать, что действительно эта устойчивость может быть дана, и как именно». В самом тексте «Столпа» Флоренский не объясняет, в каком смысле употреблено слово «Теодицея»: соотношение истины, справедливости и трепета жизни должны были передать лирические зарисовки, предшествующие каждому «письму»: «Я одинок, абсолютно одинок в целом свете. Но мое тоскливое одиночество сладко ноет в груди. Порою кажется, что я обратился в один из тех листов, которые кружатся ветром на дорожках». Суд свыше над всем миром застает жизнь в ее одиночестве, но ее трепет страха и благоговения уже слишком очевиден, чтобы быть одиноким.
Совсем иначе подходит к проблематике теодицеи Лев Шестов, философская позиция которого блестяще обобщена в стихотворении его внимательной читательницы Елены Шварц (1994):
Шестов мне говорит: не верь
Рассудку лгущему, верь яме,
Из коей Господу воззвах,
Сочти Ему – в чем Он виновен перед нами.
Я с Господом в суд не пойду,
Хотя бы Он… Наоборот —
Из ямы черной я кричу,
Земля мне сыплет в рот.
Но ты кричи, стучи, кричи,
Не слыша гласа своего —
Услышит Он в глухой ночи —
Ты в яме сердца у Него.
Совсем по-другому решил вопрос С.Л. Франк: опираясь на понятие Гуссерля о «жизненном мире», Франк заявил, что грех состоит из частных содержаний порока, тогда как общее содержание порока настолько вопиюще безобразно для добродетели, что она, как единственный жизненный мир Бога, обарывает порок только красотой Воскресения Христова.
В ХХ в. создавались и другие теодицеи, например, «Бог на скамье подсудимых: эссе по богословию и этике» (в русском переводе «Бог под судом») Клайва Стейплза Льюиса, сборник статей на случай, в котором он возвращается к лукиановской постановке вопроса. Сквозной вопрос этих статей – как возможно добро, когда множество других общественных идеалов, таких как Правда или Прогресс, и претендуют быть источником добра, а не религия. Льюис показывает, что добро Прогресса может быть прекрасным, но оно никогда не бывает до конца оправданным – оно слишком путается в своих показаниях, тогда как Бог всегда первым приходит на суд.
Но вернемся к Лейбницу. Его книга вышла в 1710 г. в Амстердаме, славившемся вольностью литературных нравов и готовностью обсуждать любые новинки мысли. Лейбниц, предназначая издание для голландских типографов, рассчитывал именно на общеевропейский резонанс: что книга попадет в самый нерв всеевропейских дискуссий. В Амстердаме были сильны традиции филологического стоицизма, восходящего к Юсту Липсию, – противопоставления христианскому конфессиональному многообразию тогдашней Европы, бесконечным выяснениям отношений между католиками и протестантами, единой этики честности. Новый стоик должен был блюсти спокойствие, добиваясь юридической ясностью своих поступков обезвреживания зарядов ненависти в окружающем его мире. Но именно филологический стоицизм, переходящий в методологический скептицизм, и стал первой мишенью Лейбница. Для Лейбница такой стоицизм мог помирить горожан в городе, но уже невозможно мерить цивилизацию городами, если мир тесен, если книга, вышедшая в Амстердаме, через несколько дней оказывается в Париже. Значит, механика большой политики сильнее любого ясного самоотчета, и нужна другая философия, не философия филологов, но философия изобретателей и стратегов, способных поразить весь мир.
Лейбниц противопоставлял стоической честности свою психологическую теорию «малых перцепций», тех незаметных для самого человека действий сознания, которые не позволяют говорить о нашем свободном выборе как области нашего контроля. Контролировать нас может лишь то, что над нами, те законы, которые не выводятся из наших временных договоренностей. Задача философа – понять, как недостаточность даже самых лучших законов раскрывает нам в разрыве бытия высшие, но столь же недостаточные законы, оправданные и тем самым исправленные только высшей волей Бога.
Первым поводом к написанию «Теодицеи» стал выход в 1697 г. «Исторического и критического словаря» Пьера Бейля. Бейль поставил вопрос: не будут ли честные атеисты, никому не чинящие обид и проповедующие терпимость, лучше пьяного Ноя, похитителя чужой жены Давида и грозящих казнями пророков? Конечно, среди атеистов много дурных людей, но беда в том, что мы не можем прославить героев веры: если лучшие верующие обманывают как Иаков, лукавят и доходят до отчаяния как Соломон, отрекаются как Петр, то что говорить об остальных верующих.
Лейбниц сразу же оспаривает этот аргумент: по-настоящему верующий человек бывает яростным и слабым, но он не бывает ленивым. Он может нырять в волну большого времени и кувыркаться на ее гребне, но он никогда не будет длить время так, что ему просто расхочется делать зло – зла в мире от прекращения злых желаний одного индивида намного меньше не станет. Честный атеист не совершит преступления, но запертый в тесных понятиях необходимости, он не научит окружающих той кротости, которая одна позволяет воздержаться от преступлений. Он не совершит сам убийства и даже обмана, – но кто знает, как сработает распространившаяся среди людей вера в необходимость, когда она вдруг отпустит на волю все человеческие страсти.
Для Лейбница в конце концов единственное настоящее преступление – леность ума. Ленивый ум не принимает Бога, потому что ему проще счесть все события происходящими сами собой, тогда как самоопределяться в свободной деятельности, подражая Богу, он не хочет. Природа ведет себя лучше: она подражает сама себе, раскрывая собственную щедрость любому непредвзятому наблюдателю. Художник, подражая природе, учит этой непредвзятости. А философ или богослов должен показать, как самая страстная мысль может найти в себе основание любви. Подражание всемогуществу Божию и называется словом любовь, подражание вечности Божией называется смирением, а подражание мудрости – терпением. Сам Бог мудр, и потому терпеливо ждет, чтобы вещи начали ему подражать. Вещи начинают это делать, и становятся «автоматами», иначе говоря, срабатывают: животные срабатывают своими инстинктами, своим желанием жить, растения – своей скромностью и яркостью, небо – ширью убедительного горизонта, земля – теплом, которого хватит на любое число семян, так что жизнь непременно пробудится в бездушной материи. Так из совокупности автоматизмов и возникает душа: то чудо щедрости, которое признает всякий, кто не признает ни одного другого чуда.
Вера бывает различной. Суеверие всегда проваливается в собственную неопределенность: думая объяснить мир, суеверный человек объясняет только свой страх перед миром. Вера, наоборот, прорывается в способность мира уже быть, в способность вещей уже оказаться вещами, прежде чем разум выдаст им об этом подтверждающий документ. Именно из такой веры и исходит Лейбниц, в канун трех стройных частей его опытов.
В первой части Лейбниц говорит о том, что как высшее доступное человеку созерцание – созерцание самого созерцания, так и высшее доступное Богу бытие – это предел всяческого бытия. Поэтому всесовершенство Бога вовсе не исключает его динамику, но это не динамика случайных изменений, а динамика уже заранее данного предела. Иначе каждое правосудное решение Бога просто ставило бы вещь на место, и вещи никак не смогли бы определиться друг по отношению к другу, так и оставшись в плену единожды осуществившейся справедливости. Посему Бог как будто медлит с судом, допуская зло, но на самом деле выводит природу из ее заснеженного плена.
Лейбниц различает три вида зла, каждое из которых настолько самонадеянно полагается на злобу двух других, что мы никогда до конца не узнаем его корень. Самое простое – метафизическое зло: наша ограниченность временем, пространством, чувствами и мыслями. Мы мало знаем, мы слабы, мы болезненны, легко устаем и вскорости ропщем. Но и окружающий нас мир слаб: растения вянут, планеты разделены огромностью расстояний, кристаллы не засияют, пока не вызреют, а солнечный луч не преломится в нашем зрении, пока не вспыхнет. Метафизическое зло – это дисгармония мира, который слишком одинок, чтобы доводить себя до совершенства. Это мир-холостяк, который может быть сколь угодно аккуратен или музыкален, но одышка которого даст о себе знать в его уютно обустроенном быту.
Ниже следует физическое зло, которое уже причиняет боль и страдание: его мы обычно называем «болезнью» или «болью». Это и физическое повреждение, и чрезмерное напряжение, и бессмысленное усилие. Физический мир тогда как измученная скрипка, в которой струны если не рвутся, то едва поддерживают правильную игру при таком напряжении. Боль – это «расстройство» во всех смыслах: расстроенность инструмента, от которой нам одно расстройство. Даже самая сильная, невыносимая боль – это срыв мысленного концерта, а не тупое бессмысленное мучение.
Наконец, ниже всего – моральное зло, оно же дурные поступки. Это уже неправильная, фальшивая игра, халтура в делах. Злодей – прежде всего халтурщик, не способный совладать с собственными силами и желаниями, а потом эти силы убивают одного соседа и ранят другого. Моральное зло – это уже музыка, которая настолько ужасна, настолько фальшива, что после нее может только торжествовать злодейство. Злодейство упивается злом, как фальшь упивается всякой новой фальшью, и только лишь ограниченность человеческих сил полагает ему предел.
Три этажа зла больше всего напоминают схему Боэция: музыка небесных сфер – человеческая музыка гармонии организма – инструментальная музыка сладостных звуков. Но у Боэция низшая область подражает более высокой, тогда как у Лейбница такое подражание оказывается невозможно: зло превращает любые разрывы, любые расстояния между вещами и событиями, в поводы для ярости или лености. Но Бог оправдан как учитель подражания, не дающий нам слишком доверять расстояниям. Бог, во всяком случае, всегда незримо убеждает нас не видеть в них последнюю правду.
Во второй части Лейбниц не оставляет камня на камне от системы наук, разработанной Бейлем. Бейль пытается найти корни зла в первоначальных обычаях народов, в их исторических притязаниях или же в изъянах языка, не умеющего называть вещи своими именами. Лейбниц раздражен подходом Бейля: как можно обижать историю или язык, столь постаравшиеся ради нашего благополучия. Да, конечно, утверждает Лейбниц, каждая совокупность вещей несовершенна, – хотя бы потому, что не может впустить в себя все остальные вещи. Но эта частная совокупность, о которой Бог и не знал, что она будет именно такой, дарит Ему знак почтения своим свободным выбором. Если зло происходит здесь и сейчас, то оно вредит путям, по которым идут другие вещи, на которых развертываются физические и интеллектуальные процессы. Но большая часть вещей с самого начала умеет подражать прямым путям Бога, и только поэтому зло оборачивается во благо.
Бог Лейбница прост: но это не та простота прямой линии, оставляющая зло в стороне, на обочине созерцания. Напротив, это простота взгляда, прямота того удивления, с которым Бог встречает неспособность вещи быть ближе к нему всех остальных вещей, ближе любой точки на прямой. Если Бог и проводит расстояния, то от точки до точки. Удивляясь несовершенству вещи, Бог одобряет само умение вещей быть, хотя бы не расставаясь друг с другом, раз вещи уже сдружились; раз уже пространства и времена побывали друг с другом накоротке. Крест, кратчайшее расстояние от эпохи к эпохе, и есть краткость истинного воскресения.
Наконец, в третьей части философ говорит о том, как не принять разгул зла за действие причин, забывших о себе, и потому продолжающих навязывать себя следствиям. Человек должен вспомнить, что воля его не только в том, чтобы отвергнуть какое-то злое решение или злое побуждение, ощущая веяние гармонии. Человек гораздо гармоничнее, чем он сам о себе думает; и разочарование в себе от немощей, болезней и страхов не должно вытеснять из мысли торжественные трубы этой вдохновляющей гармонии.
Гармоничность человека в том, что он в уме может создавать идеальные вещи, о которых и не подозревал, но которым радуется, потому что они избавили его от подозрительности. Создавая идеальные вещи в уме, человек создает и идеальный план их существования, – а значит, и свою способность выбрать такую программу, в которой зла будет меньше, чем раньше. Обыграв случайность, и при этом обманув необходимость, человек становится настолько душевным животным, что всякое действие его души вдохновенно; и тогда автоматическое производство мысли впервые становится вдумчивым философским ее производством.
Итак, «Теодицея» Лейбница – важное чтение и для того, кто занимается современной философией, и для тех, кто просто интересуется вопросами нравственного выбора. Значительная часть экспериментов современной философии, такие как «проблема вагонетки», – это именно экперименты, останавливающие автоматизм якобы полностью свободного выбора. Лейбниц подсказывает, куда двигаться дальше после этой остановки: к сердечному переживанию того блага, которое убеждает сердце не только чувствовать, но и мыслить.
Александр Марков, Профессор РГГУ и ВлГУ
Москва, 9 декабря 2017 г.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?