Текст книги "Пашка из медвежьего лога. Таежные встречи"
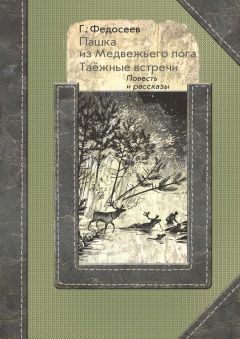
Автор книги: Григорий Федосеев
Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Ярче и сильнее разгорается костёр, заполняя синим светом всё большее и большее пространство вокруг. А дальше, за освещенными елями, ещё гуще, ещё плотнее встаёт тьма и пеленает мраком оживший после долгой зимней спячки лес.
Холодный ветер пробежал по ельнику, тревожа тёмные кудри старых сосен. Пробежал и смолк. А деревья ещё долго качаются над нами.
Гурьяныч прислушивается.
– Неправда, что лес шумит одинаково, – неожиданно говорит он. – У каждой породы – своя песня. К примеру сказать, сосны – они не любят тесноты, вот и шумят разноголосо. Ты только прислушайся. Налетит ураган, ну и запоют каждая в свою дудку. Жутко бывает в ветреную ночь в бору… – И старик опасливо окидывает ночной сумрак. – Другое дело ельник, ничего плохого не скажешь. В нём ветру тесно – нет разгона, ни свиста, ни воя у него не получается. Шумит ельник всегда ровно, что слаженная песня… Любо спать в нём в непогоду, за моё почтенье убаюкает.
– А у осины тоже своя песня? – спрашивает Пашка, внимательно слушая деда.
– Как же, внучек, совсем отменная. Осина больше растёт на лесных кладбищах, на старых гарях. Она первая непогоду чует. И уж как залепечет листва, будто ребёнок ручонками захлопает, так и знай – к ненастью. В бурю такого наплетёт, такого нагородит, что и лешему не придумать, а ночью того пуще, до смерти напугает, адово дерево, будь оно проклято! Лучше не связываться с ней.
Опять ветерок растревожил сонный покой ельника. И опять долго прислушивается к шелесту крон старик. А я думал о том, как велик и разнообразен мир природы, окружающий человека, как плохо мы знаем его и как мало используем на благо своё, чтобы богаче, прекраснее было жить на земле…
Спать устраиваемся у костра, подостлав пахучие и мягкие ветки ели. Пашку сразу не стало слышно, будто провалился в пустоту. Гурьяныч положил на огонь концы толстых брёвен, высушил портянки и уже хотел забраться под однорядку, как послышался шелест сухой травы под чьими-то осторожными шагами.
Мы оба разом поворачиваемся на звук. Две яркие фары смотрят на нас из густого мрака ночи. Они приближаются вместе с шорохом, то гаснут за стволами елей, то снова упрямо надвигаются на нас. Это Жулик крадётся к стоянке. Пламя огня отражается в его глазах пучком синего света.
Жулик осторожно появляется из-за толстой валежины, весь освещённый костром. Морда виноватая, спина провисла под тяжестью переполненного брюха, на губах гусиный пух, мокрый хвост висит обрубком.
– Обжабиться, лопнуть бы тебе на месте! – строго кричит старик и зло толкает ногою головёшку в огонь.
Собака в испуге отскакивает за пень, уходит в темноту и оттуда долго смотрит на нас двумя синими глазами…
Лопаются почки берёз
Тихо плывёт звёздная ночь над уснувшими озёрами. Деревья у стоянки теперь кажутся выше и стройнее. Всё больше синеют потёмки лесной чащи. Я забираюсь в спальный мешок и с твёрдой надеждой на завтрашний день засыпаю. Но это необыкновенно короткий сон.
Внезапно просыпаюсь. Лежу с открытыми глазами. Темные вершины елей озарены фосфорическим светом луны. До слуха доносятся едва уловимые звуки тёплой ночи. Тут и шёпот, и вздохи, и ласковый бег ветерка. Сон не идёт. Не уснуть в эту первую для меня весеннюю ночь в тайге.
Встаю, подновляю костер. Вспыхнувшее пламя отбрасывает прочь от стоянки тьму, освещает ельник.
А где же Пашка? Его постель уже занята Жуликом. Куда он мог уйти? Неужели на озеро? Нет, сейчас первый час – самое глухое время ночи. Нечего ему там делать в это время.
Шарю глазами по просветам – нигде его не видно.
– Пашка!.. – сдержанно зову парнишку.
– Тсс!.. – слышу его предупреждение.
Тихо шагаю на звук. Пашка стоит, прислонившись спиною к толстому стволу лиственницы, щедро залитой лунным светом.
Он предупреждает меня пальцем, дескать, иди осторожнее! И я безропотно подчиняюсь ему. Унимаю шаги, бесшумно переставляю ноги. Подхожу к лиственнице, прислоняюсь рядом.
Пашка не оглядывается, не слышит моего приближения – он весь поглощён каким-то ожиданием. Я внимательно осматриваю открытую марь, болото за перелеском, прислушиваюсь и ничего не могу понять: чего он ждёт тут в полночь один?
У меня под ногою сучок, стоять на нём неудобно. Надо бы сдвинуть сапог вправо, но боюсь нарушить тишину.
А Пашка касается своей горячей ладонью моей руки, крепко сжимает её.
Чуть слышный короткий звук раздаётся где-то близко, будто ребёнок во сне чмокнул губами.
– О!.. – вскрикивает обрадованный Пашка и показывает на берёзку. Затем медленно поворачивает голову ко мне, смотрит удивленно в глаза. – Почка лопнула! – шепчет он.
Я улыбаюсь.
Теперь мы вдвоём, прижавшись друг к другу, караулим дразнящую тишину. Оба молчим. Нужна огромная напряжённость слуха, чтобы в этой ночной тишине обнаружить жизнь.
Какой-то странный звук возник и растаял: птичка ли отозвалась во сне, пискнула ли жертва в лапах хищника или кто-то народился? Слышно, как облегчённо вздыхает земля, обласканная тёплыми ветрами, как поднимаются первые ростки зелени под прошлогодними листьями, как дышит лес – старый великан, и невольно чувствуешь, как он весь молодеет, наливается соком, будто хмельной брагой.
Где-то в стороне поёт вода. Чего только она вам не нашепчет, не наобещает ночью!
И вдруг справа доносится какой-то загадочный звук – должно быть, эхо. Оно зародилось где-то у кромки тенистого перелеска. Мы смотрим туда, ждём, не обнаружится ли там ещё что-нибудь. Ждём долго. Но вот что-то бесформенное появилось в ночном сумраке под елями, шагнуло вперёд, и сразу обозначилась рогастая голова, широкая грудь и приземисто-длинное туловище.
– Сокжой! – шепчу я Пашке.
Чуткий зверь уловил мой шёпот. Он замирает в полушаге, весь напрягается, точно стальная пружина, и, раздувая ноздри, шумно втягивает в себя воздух. А мы, забыв про всё, смотрим на него привороженными глазами. В лунном свете на фоне сумрачных лиственниц сокжой кажется каким-то сказочным видением, явившимся порадовать нас своею красотой.
Зверь так и не разгадал, насколько опасен был донесшийся до него короткий звук. Он медленно шагнул передней ногою, вытащил из тины заднюю, переставил её и подал вперёд весь корпус. Ещё постоял, будто испытывая терпение врага.
Ничто не выдаёт нашего присутствия.
Сокжой смелеет, не спеша обходит кочки, всё ближе вышагивает к нам. Пашку всего трясёт. Плечом прижимаю его к стволу. Глушу в себе дыхание. Ничего не остаётся на земле, кроме этого рогача в посеребрённой шубе.
У лужи с луной на дне он останавливается, наклоняется, сосёт сквозь сжатые губы воду. Вдруг нога его поскользнулась, раздался громкий всплеск. Зверь вскидывает высоко голову, ворочает тяжёлыми рогами. А кругом непостижимое спокойствие, в котором малейший шорох покажется рёвом трубы. И только тяжёлая вода, стекающая с губ в болото, булькает, будто кто-то полощет горло.
Налетевший ветерок погнал настывший за ночь воздух, одушил болота. Сокжой, точно ужаленный, перемахнул лужу и, широко разбрасывая задние ноги, метнулся в ельник, налетел на лесину и исчез в потревоженной тишине.
Пашка облегчённо вздыхает. Я выгибаю уставшую спину.
Где-то вода из почвы просочилась на поверхность, мятежно зажурчала и смолкла, точно устыдившись. Кто-то на болоте вскрикнул во сне. С лиственницы упала шишка.
Пашка уходит в свои мечты. Я думаю о лучшем, о будущем, о вечной весне жизни. Мне кажется, что сегодня я открыл что-то новое для себя, а Пашка, вероятно – целый мир, огромный, непостижимый и прекрасный…
Странная ночь… Какое поистине чудесное ощущение природы оставила она в моей душе! Сколько очарования! Сколько раздумий! И как дорога стала жизнь, будто прошёл строгое чистилище и освободился от всех земных грехов…
Табун невидимых птиц со свистом прорезал воздух сверху вниз и с криком, с хлопаньем крыльев упал на воду.
Неужели этот слишком откровенный для ночи звук – предутренний сигнал?
Ещё темно. На небе не заметно перемен. Но уже чувствуется, что недолго до рассвета, что скоро победно блеснёт румяная зорька.
Луна так и не показалась из-за туч, но в ельнике чуточку посветлело – ночь тронулась.
Первыми догадываются лыски.
«Кю-ке-ке… Кю-ке-ке…» – дают сигнал к подъёму.
Пробуждаются нырки:
«Ка-го… Ка-го…»
За ними кроншнепы:
«Ку-ли… Ку-ли…»
На наших глазах бледнеет сумрак. В розовой мгле раскрывается сонная земля. Прорезаются чаши настывших озёр. А небо ширится, всё больше голубеет, и в нём чистой каплей дрожит последняя звезда.
«Дзинь!.. Дзинь!.. Дзинь!..» – точно в жесть, бьёт ворон в перелеске, и, как по сигналу, всё сразу оживает.
Пернатый мир пробуждается тысячами голосов. Стонут чибисы. На отмелях дразнятся кулики. Кричат растерявшиеся кряковые. И какая-то лесная пташка настойчиво пытается вставить в этот разноголосый гомон свой однообразный мотив.
– Вот и кончилась ночь, – сожалея говорит Пашка, сойдя с места и потягиваясь, как от сладкого сна.
Мы оба, приятно уставшие, идём к стоянке.
– Куда вас спозаранку носило? – спрашивает обеспокоенный нашим отсутствием Гурьяныч и строгим взглядом осматривает внука. – Без ружей како дело тут?..
– Дедушка! – радостно перебивает его Пашка. – Ты слышал когда-нибудь, как во сне разговаривают птицы?.. Нет? А как лопаются почки на берёзе? «Пак, пак…» Не слышал?
– Вот я те сейчас пакну! Ишь чего выдумал, баламут! Сам не спишь и других смущаешь. За дровами бы сходил.
Но как ни старается Гурьяныч придать своему голосу строгость, это у него не выходит. На Пашку смотрят ласковые глаза, и в них столько доброты, что, кажется, хватит на то, чтобы согреть весь мир.
Парнишка улыбается, берет топор и, легко перепрыгивая через валежник, скрывается в ельнике.
Гурьяныч снимает с огня вскипевший чайник, садится около меня. Сидит мрачно, нахохлив сомкнутые брови.
– Странный у нас Пашка, – начинает он грустно. – Пойдешь с ним в лес, всё прислушивается, чего-то соображает, а то вдруг ни с чего развеселится, запоёт или начнёт бормотать – птиц передразнивать… Иной раз ему невтерпёж станет в зимовье, уйдёт в тайгу и всю ночь один по сопкам мается… Чего его несёт туда, иногда в непогоду – не знаю. Мы со старухой было поперёк пошли, да где там!.. Вот я и думаю: растёт без отца, без матери – завалило их обвалом на прииске – а мы со старухой что можем дать ему? Сами малограмотные, кроме земли да леса ничего не видели, жили трудно, а теперь старость ложится на плечи. Он к тому же не одетый, не обутый, не как другие. Ума не приложим, что делать с ним?
– А я, Гурьяныч, думаю: хороший растет Пашка, За него вам скажут спасибо. – Я осторожно кладу ему на плечо руку. – Вы привили ему любовь к труду, открыли мир природы. У многих ли есть такие воспитатели? Ну и что же из того, что донашивает вашу телогрейку, ходит в латаных сапогах? Это не главное. И уж сознайтесь, Гурьяныч, довольны вы внуком?!
– Оно-то конечно, но жизнь другая, не та что в наше время была. Отстанет он в лесу. Да и кому нужна теперь природа? – горестно заканчивает старик.
Но тут появляется Пашка с дровами, и наш разговор обрывается.
Мы наскоро завтракаем, вьючим Кудряшку, гасим костёр – и снова в путь…
Неведомой тайгою
Озёра остаются левее. Гурьяныч ведёт нас лиственничным перелеском на северо-восток, к плоскому водоразделу, напоминающему спину лежащего зверя. За ним в необозримой дали рисуется хребет Усмун с зубчатыми гольцами. Где-то там, на одной из главных вершин, инженер Макарова ждёт паутину.
За озерами начинается дикий край. Слева – безрадостные мари, они заворачивают на запад, уходят в голубые туманы. Летом на них комариное царство и глушь. Впереди же, по широким падям, по холмам и отрогам, лежит в синеве бархат весенней тайги. Она всегда загадочная, опасная…
Пашка забыл, что идёт по земле, он весь устремился вперёд, не смотрит под ноги. Широко открытыми глазами парнишка пожирает горы со снежными вершинами и чёрными провалами, появившиеся на далеком горизонте, а сам весь во власти детских несбыточных желаний. Да кто из нас в тринадцать лет не завидовал путешественникам, не мечтал об охоте на тигров, медведей? Кому не казалось, что за родным селом, за знакомым контуром горизонта лежит таинственная страна, где тебя ждут подвиги и великие открытия?! И Пашке сейчас представляется, что именно за марью, по которой мы идём, раскинулась эта загадочная страна, вся в холмах, в синеве лесов, теперь доступная, реальная…
Идём молча. Гурьяныч не спешит, бережёт силы. Путь долго вьётся по равнине. С болота сорвалась вспугнутая нашим появлением стая чёрных уток. Тотчас с лиственницы живой ракетой взвился в небо сапсан и на миг замер в высоте, будто рассчитывая кратчайший путь для нападения. Затем рывок вперёд – и под сапсаном в паническом страхе забилась стая удирающих уток. Какая дьявольская стремительность у этого пернатого хищника! Утки бросаются из стороны в сторону, уносятся со страшной быстротой, но… сапсан бьёт точно, и жертва, кувыркаясь в воздухе, летит вниз.
За болотом – кочки, залитые водою. Идём напрямик. Ветер, сырой и ершистый, сечёт лицо. Старик останавливается, пугливо смотрит на свинцовые с огненными краями тучи, неизвестно откуда появившиеся над нами, и начинает забирать вправо – торопится к лесу.
– Должно, дождь будет, – говорит Пашка и кивает на деда. – У него насчёт погоды осечки не бывает.
Тучи гасят свет солнца. Ещё мрачнее и неприветливее становится на топкой равнине. Болота вздымаются, темнеют. Неприветливо шумит на них прошлогодняя осока. Смолкают птичьи голоса. Всё замирает, приглушённое надвигающейся непогодой.
– Пашка, вытаскивай из вьюка топор, айда вперёд, руби стойки, колышки для палатки. А вы, – обращается ко мне Гурьяныч, – накиньте плащ, не промочить бы паутину: она, может, не привычна к сырости.
– Паутина в непромокаемой упаковке, – успокаиваю я старика.
Откуда-то налетает чайка. Ветер качает её на скошенных крыльях.
– Ки-и-е… Ки-и-е…
Каким-то зловещим кажется этот печальный крик среди кочковатых марей.
А вот и гуси беспорядочным табуном летят, послушные ветру. За ними – две чёрные цапли.
Все спешат укрыться от ненастья. А небо молчит, темнеет, дышит холодом.
Гурьяныч тоже спешит, отмеряет широкими шагами целину. Одну Кудряшку, обременённую старостью, кажется, ничто не волнует. Она еле тянется на поводу.
– Уж ты, голубушка, не упрямься, прибавь шагу, – уговаривает её старик. – Путь далёк, поторапливаться надо.
С неба всё чаще доносится рокот, будто ворчание потревоженного зверя.
Вдруг потрясающей силы удар над головой… И сразу хлынул дождь. Запахло мокрой травою. Одежда на плечах отяжелела, липнет холодным пластырем к телу.
Пока добрались до ельника, сняли вьюки и поставили палатку, промокли до нитки. Наконец забрались под полотняную крышу.
– Теперь пусть льёт сколько хочет, – послышался из угла голос Пашки.
– Чего мелешь! Не в гости направились, тебе же говорено – работа сорвётся. А по дождю куда пойдёшь?! – упрекнул его Гурьяныч.
– Весенний дождь долго не задержится, – успокоил я старика…
Приятно слушать, как водяной шквал налетает на разлохмаченный лес, барабанит по палатке. Не успели мы ещё расположиться, как ветер стих, смолкла гроза, и дождь перестал.
Выбираемся наружу. Солнце ещё в тучах, а без него вокруг холодно и скучно. Быстро разводим костёр, стаскиваем с себя мокрую одежду, развешиваем её вокруг огня.
Гурьяныч оголяет и греет волосатую грудь.
– Главное – сердце оживить, – говорит он, с наслаждением глотая горячий от костра воздух.
Пашка в восторге, он готов горы свернуть: натаскал целый ворох дров, сбегал за водой, вырубил таган и теперь накладывает в котелок картошку, вешает на огонь.
На небе заголубели проталины. Выглянуло солнце. Радостным гулом ожила природа. Всё ярко запестрело. Воздух наполнился тяжёлым смоляным ароматом.
Пашка подвигает к жару чайник, отходит от костра и неожиданно смеётся, хлопает в ладоши.
– Чему радуешься? – спрашиваю его.
– Так просто, не знаю чему… Гляньте, бабочка! – Он вдруг бросается за нею, но тотчас останавливается: какая-то серенькая птичка на лету схватила бабочку и исчезла в чаще.
Лицо парнишки омрачается. Он долго стоит на месте: не то прислушиваясь к бурной, но скрытой жизни леса, не то смутно догадываясь о законах, которые правят таёжным миром – о праве сильного.
Гурьяныч тоже замечает настроение Пашки. На лицо старика набегает тревога. Он подходит к внуку, кладёт ему руку на плечо:
– Что с тобой, внучек?
– Ничего, так просто. – И парнишка снова оживает. Старик успокаивается.
Мокрая земля парит, возвращая небу влагу. В логах темнеет хвойный лес. Над холмами в промытом дождем воздухе кружатся коршуны.
Гурьяныч потыкал прутиком картошку, достал одну, откусил бочок, погонял языком во рту горячий ком, проглотил.
– Готова, снимай, Пашка. Маленько заправимся и дальше пойдём. Теперь всё тайгою – в гору.
Пашка сливает из котелка воду, ставит его в круг. Старик режет большими ломтями хлеб.
До чего же вкусна горячая картошка в мундире! Мне вспоминается детство, поездки с мальчишками в ночное, костры. Бывало, раздавишь обугленную, испечённую в золе картофелину, тебя обдаст горячим ароматом, и не знаешь, что приятнее – этот аромат или сама картошка?!
Пока сворачиваем лагерь, вьючим Кудряшку, гаснет пламя костра. Но на стоянке всё ещё держится запах горячей картошки.
– Дедушка, а зачем переставил таган? – спрашивает Пашка.
– Заметил! – довольно говорит старик, кивая на парнишку, и, повернувшись к нему, поясняет: – Уходишь с табора – установи таган так, чтобы его тонкий конец был обращён в сторону твоего пути.
– Зачем?
– Если кто-нибудь сюда придёт, то по нему догадается, куда мы ушли. Да и если случится что с нами, скорее найдут.
– Кто такое придумал?
– Жизнь. В тайге свои неписаные законы… А ты пошто костёр не залил? Сколько раз говорил тебе: привычку надо иметь не бросать огонь в лесу даже зимою, – строго напутствует старик. – Он может уйти в глубину и в торфе жить годами, а потом вдруг выплеснет на поверхность и пошёл гулять по тайге.
Пашка приносит котелок воды, заливает огонь.
– Ещё принеси, не жалей, чтобы надёжно было.
Пашка старается.
– Теперь, внучек, твой черед вести нас по тайге. Пойдем маленько левее, как шли сюда. Вон на ту седловину. – И старик указывает заскорузлым пальцем на водораздел. – Учись, Пашка, враз, с одного взгляда находить проход в лесу, не теряя направления. По пути заломки делай, чтобы тебя леший не попутал, когда обратно вести будешь.
Пашка и удивлён таким решением деда, и бесконечно рад неожиданному доверию. Он заряжает «ижевку», бросает сосредоточенный взгляд на просветы в лесу.
– Пошли, – важно басит он и подаёт Жулику знак следовать за ним.
Нас проглатывает чаща первобытной тайги. Лес после дождя поблескивает на солнце. Пахнет свежим папоротником. Под ногами зелёный ковёр из векового мха. Деревья-великаны заполняют весь мир, и кажется, что вся земля обросла зелёной щетиной. В таком лесу мало птиц и не бывает зверя: их всех пугает застойная тишина и вечный сумрак. Эта тишина и сумрак навевают уныние и на человека, когда он попадает в таёжные дебри. И мы тоже вступаем в эту загадочную лесную чащу и непробудные дебри с чувством необъяснимой тревоги.
Порой Пашка забредает в непроходимою топь, заваленную упавшими деревьями.
– Не слепой, смотри, куда ведёшь! – сердится Гурьяныч.
Он выходит вперёд, поправляет ошибку внука и вновь уступает ему дорогу. Или кричит:
– Опять закружал! Держи солнце на затылке к левому уху… Об чём думаешь?!
Пашка «ловит» солнце, и мы идём всё дальше и дальше в лесное царство.
Неожиданно сумрачное и тёмное, как джунгли, сыролесье обрывается. Дальше старая гарь перехватила наш путь. Огонь уничтожил высокоствольный лес на огромном пространстве: на склонах гор, на холмах, на равнине, перед нами – лесное кладбище. Часть погибших деревьев ещё стоит без вершин, с обломленными сучьями, удерживаясь на обнажённых корнях. Остальные лежат на земле в чудовищном сплетении, точно после битвы. Кое-где видны темнохвойные кедры, чудом уцелевшие от пожара.
Мы останавливаемся, потрясённые картиной мёртвого леса.
Гурьяныч подходит к Пашке, кладёт ему руку на плечо.
– Это тебе, внучек, пример, что огонь может натворить в лесу, ежели халатно с ним обращаться. Какой-то ротозей не залил костёр, – в его голосе вспыхивает гнев, – или бросил спичку наземь в жаркий день, пустил пал по лесу. Глянь, какую тайгу погубил!
– Может, дедушка, от грозы лес сгорел? – Пашка смотрит ему в глаза.
– Не знаю. Век прожил – не видывал такого пожара от грозы, а всё от людей, от нас, внучек. Вот и давеча, ты не залил огонь, так и пускают пал. Говорю, привычку надо иметь, бережливость должна быть в человеке ко всему.
Гурьяныч сбрасывает с плеч однорядку, накидывает её поверх вьюка, достает топор. Окинул нащупывающим взглядом передний край гари.
– Держись за мною, Пашка, хорошо смотри, не запороть бы Кудряшку, – и старик шагнул в завал.
Стук топора будит могильный покой бурелома. Старик, выискивая проход, обходит колючие стволы, преграждающие путь в этом чудовищном завале.
Нас нагоняют чёрные тучи, внезапно появившиеся и уже прикрывшие полнеба. Гурьяныч косится на них, прибавляет шаг.
Тучи сомкнулись, гасят свет солнечного дня. На землю ложится бесприютная тень. В вышине поднимается ветер. Там с ним спорят два беркута.
– Гроза! – кричит Пашка.
Небо лопнуло витиеватой полоской огня. Сухой, тяжёлый грохот разряда потряс всю гарь.
Старик оглянулся, что-то крикнул нам, показывая рукою на огромный тёмно-зелёный кедр. Стал напрямик ломиться к нему, руша на пути топором и ногами вершины и сучья.
Мы с Пашкой не отстаём. Даже Кудряшка прибавила шаг. С нами Жулик. Он чует беду: то бросается вперёд, то крутится у нас под ногами. А небо всё больше чернеет, нависает над нами неотвратимой угрозой.
Вдруг ветер с разбойничьим посвистом падает на гарь, бьёт сбоку. Ожили мёртвые стволы, закачались великаны в попытке усмирить ураган. Впечатление такое, будто у мёртвого леса свои давнишние счёты с ураганом.
Я вырываюсь вперёд. Отбираю у Гурьяныча топор. Рублюсь к кедру. Остаётся метров двадцать завала. Небо распахивается бездной света. Вздрагивает ужаленная земля. Наваливается шквальный ветер.
В воздухе повисает предупреждающий треск. Он множится, доносится справа, слева, сливается в один общий стон. Вокруг творится что-то невообразимое: с грохотом падают скелеты деревьев, бьют раз за разом, не смолкая, разряды. И кажется, ничего нет страшнее на земле, чем схватка бури с мёртвым лесом.
Делаем последние усилия, вырываемся из плена бурелома под защиту кедра. Пашка липнет к Гурьянычу. В детских глазах страх.
Ураган усиливается. Хлещет дождь. Качается развесистый кедр, принявший нас под защиту. Он толстый, со старческими наростами, живой свидетель пожара, уцелевший будто для того, чтобы рассказать потомству многовековую историю тайги и эту жуткую лесную трагедию.
Все молчим. А битва продолжается. Нет слов описать это чудовищное зрелище, как, падая, ещё раз умирают мёртвые стволы, На земле уже нет места для могил, обугленные великаны ложатся тесно друг на друга, точно сцепившись в предсмертной агонии.
Ураган наваливается на кедр, давит грудью, качает непокорную вершину, ломает сучья. Жутко смотреть, как, сопротивляясь, старый кедр поднимает корнями податливую землю, как всё труднее ему одному удержаться стоя.
А ветер ещё пуще ревёт. Кедр качнулся больше, чем следовало, и в испуге замер – будто увидел под собою бездонную пропасть. И всё же устоял. Но у него уже не осталось прежней твёрдости, что-то внутри молча надломилось.
Все всполошились. Первым выскочил Жулик. Гурьяныч схватил повод, стал тянуть Кудряшку из-под кедра. Мы с Пашкой подталкивали её сзади.
Ещё один, второй, третий напор урагана, его последний безудержный порыв, и у кедра подломилась воля. В глубине земных пластов лопнули корни.
Мы замерли, ошеломлённые случившимся.
Видим, кедр неестественно качнулся, пытаясь найти опору, удержаться стоя. Но ветер беспощаден в последнем напоре, и живой, многовековой кедр сдался… Он стал медленно клониться к земле, как бы выбирая место для могилы. Потом вздрогнул от корней до вершины и, отбросив кверху, словно руки, сучья, старик, казалось, прощался с небом и жизнью. Со стоном рухнул он на «пол», подняв огрызками корней гигантский пласт земли и разломившись пополам.
Пашка весь сжался. Огромными круглыми глазами парнишка смотрел на распластавшегося великана. Картина гибели старого кедра потрясла его.
Тучи, будто выполнив свой долг, стали молча отступать к хребтам. За ними уходил и ветер.
И опять в могильную тишину погрузилась старая гарь. Всюду следы только что закончившейся битвы. Весенний луч солнца, прорвавшийся из поредевших туч, освежил старую гарь.
Гурьяныч стащил с головы шапку, стряхнул с неё дождевую влагу, сказал, обращаясь к Пашке:
– Видишь, три кедра стоят вместе, – он показал шапкой на группу зелёных деревьев, видневшихся справа, поодаль от нас. – Их не свалил ураган, а этот упал… Ты понимаешь, к чему я говорю?
– Это старый кедр, вот и не устоял, – отвечает тот.
– Не в том дело, что старый. Одному завсегда труднее, а те вместе, артелью, их не возьмёшь. Так и в жизни – одному никуда не годится.
Пашка закивал головою.
Через час мы благополучно выбрались из лесного кладбища. На минутку остановились, поправили вьюк на Кудряшке, себя привели в порядок и тронулись дальше.
После дождя в горячем солнце посвежела тайга. В птичьем гомоне, в полёте букашек, в аромате трав и листвы – жизнь. Как-то особенно её чувствуешь после мёртвого леса и радуешься вместе с нею весеннему дню.
На пути начинают попадаться поляны. Впереди отрог. За ним – ночёвка.
Вдруг бегущий далеко впереди Жулик поднялся на задние лапы, пугливо вытянул морду и опрометью бросился назад. Даже не задержавшись возле нас, он промчался мимо.
– Где-то зверь, – таинственно шепчет Гурьяныч и грозит пальцем: дескать, осторожнее.
Я хочу вырваться вперёд, но Пашка опережает меня, уже крадётся к широкому просвету. Ловлю его за штанину, останавливаю.
– Не стрелять! Слышишь? – показываю ему кулак и отталкиваю назад, а сам шагаю вперёд неслышно, мягко.
За просветом поляна. Снимаю накомарник – так лучше видно.
Пашка всё время пытается обойти меня.
– Только посмей высунуться!
Но угрозы не помогают: хватаю его за руку, веду рядом, как собачонку.
У толстой пихты задерживаемся. Нам хорошо видна вся поляна, протянувшаяся вдоль шумливого ручья.
– Медведь! – дрожащим шёпотом выдыхает Пашка.
Вижу, на противоположной стороне поляны под одиноким кедром чёрное пятно. Медведь. Он шевелится: то поднимется, то приляжет, то повернётся к нам головою, то задом.
Хорошо, что рядом ручей и зверь не слышит нашей возни и не догадывается, что два человека, два его врага, стоят с ружьями всего в ста метрах, наблюдают за ним.
Не могу рассмотреть, чем он занят. Вытягиваюсь во весь рост и едва удерживаю смех. Ну и хитрец мишка, ну и выдумщик – что вытворяет!
– Пашка, медведь муравьями лакомится. Встань повыше, посмотри, – шепчу ему.
А медведь хоть бы повернул свою лобастую голову в нашу сторону, хоть бы осмотрелся вокруг!.. Но зачем ему беспокоиться? Ведь у него, кроме человека, нет врагов в лесу, а человек сюда заходит редко. Медведь тут полновластный хозяин, владыка. Все его смертельно боятся. Поэтому он спокоен, уверен. Видим, как зверь кладёт на слегка разворошенный муравейник лапу, держит её с полминуты и затем с наслаждением облизывает. Потом кладёт другую.
Потревоженные муравьи полчищами выползают из своих подземных убежищ, липнут к его обслюнявленной лапе и прямёхонько попадают в медвежью пасть.
Пашка дотягивается до моего уха.
– Пальнуть по нему? – шепчет он азартно. Я угрожаю кулаком.
Но тут слышится треск сучка: подходит Гурьяныч с Кудряшкой. Этот ломкий звук тревожит зверя. Мгновенье – и он, мелькнув между стволами чёрной тенью, исчезает в лесу.
– Почему не дали мне стрельнуть? – обиженно спрашивает Пашка.
– Зачем?
– Шкуру бы показал ребятам.
– Она ещё мишке пригодится. Слышите, Гурьяныч, охотник нашёлся.
– Слышу. – Старик укоризненно качает головой. – До шкуры тебе, внучек, как до неба. Дробью медведя не сшибёшь, а шуток он не любит: враз задерёт. Ему это как плюнуть. Ну убил бы его – что с мясом, со шкурой делать? На Кудряшку ни одного куска больше класть нельзя, с собой – не унести. Значит, убить и бросить?! Куда годится зря истреблять?! Чему я учил тебя?
Пашка отворачивается, молчит.
Я помогаю Гурьянычу перевьючить Кудряшку. Пока поправляем сумы на спине лошади, привязываем их, старик жалуется:
– Года три назад повёл я геологов в их лагерь на Большое озеро. Было это в июле, гусь линял. Подходим к стоянке, душным воздухом нас окатило. Начальник спрашивает у прораба: опять лошадь пала? Он молчит. Я за палатку прошел, вижу: куча гусей, не соврать бы – поболее пяти десятков, уже провоняли. Ах, думаю, анафема вас раздери, беззаконники! Гусь во время линьки летать не может, так они их палками всех порешили, а съели-то всего двух, остальные сгнили. Верите, пришлось на километр лагерь перенести, дышать нечем было… Уж как я их стыдил, мерзавцев, говорю: «Росомаха – хищник, и то меру знает: убьёт, что может, съест, остальное припрячет, зря не бросит. А вы же люди!» – «Это, – говорит один из них, – у нас получилось сгоряча». Ишь какое оправдание! И откуда у человека такая безрассудная жадность?
– И вы отступились? – спросил я.
– Председателю сельсовета всё обсказал, а он сам малость баловался браконьерством… На том и присохло.
– Надо было в район писать.
– Беда, грамоты нет, а то бы не попустился. Запёк бы их, охальников, в тюрьму… В тайге с человека положено больше спрашивать. С тех пор перевелись гуси на Большом озере. Разве птица устоит!
– А где же Жулик? – спохватывается Пашка.
– Его, видать, далеко швырнуло, считай, уже до посёлка добегает. Какая сила у медвежьего духа! – смеётся Гурьяныч.
– Жулик!.. Жулик!.. – кричит мальчишка. «Жулик!.. Жулик!..» – повторяет эхо в глубине леса.
– Обойдёмся и без него. Айда вперёд, да смотри в оба, ворон не лови.
Мы тронулись.
Скоро под ногами появился пунктир звериной тропки. Тропа переводит нас через ручей, и мы шагаем вверх по его травянистому берегу.
Впереди Пашка. Гурьяныч идёт позади всех. Я поражаюсь и завидую его наблюдательности: в лесу он – как в своей избе, зорко ухватывает вокруг всё, что нужно.
– Пашка, глянь! – кричит старик, останавливаясь у толстой и ровной берёзы. Он любовно ощупывает её, измеряет на глаз.
– Чего тут смотреть? – спрашивает внук.
– Место приметь: на обратном пути кору сдерём, дома берестяную лодку смастерим для рыбалки. Уж и легка будет, за моё почтенье!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































