Текст книги "Люди среди деревьев"
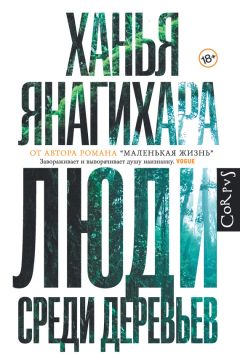
Автор книги: Ханья Янагихара
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Они все знали Еву. Того, кого я схватил за руку, звали Муа – похоже, он возглавлял группу; как и остальные, на вид он был примерно Евиного возраста, может быть, чуть постарше. Но он – опять-таки как и остальные – разительно отличался от Евы одним свойством: он разговаривал. Они все разговаривали, разговаривали связно, некоторые разумно, другие не очень. Но к этому я еще вернусь. Важно же было то, что они искали Еву (на самом деле, как выяснилось, ее звали Пу’у, «цветок») – она отбилась от их группы.
Казалось, в целом они удовлетворены тем, что Муа их всех представляет, но потом некоторые заговорили, их голоса стали волнами переливаться друг через друга, а потом проводники – которые поначалу сидели молча, глядели напряженно и испуганно, крепко сжимали в руках свои копья – стали им отвечать или переговариваться между собой, и бедный Фа’а мотал головой, глядя то на одного, то на другого, пытаясь отследить разные ветви разговора.
Наконец, наконец мы заставили их улечься, и скоро все заснули, даже Таллент, и лес вернулся к своей бесстрастной тишине. Только мы с Фа’а остались бодрствовать, мы были на страже той ночью и сидели друг напротив друга, остальные же – теперь восемь человек, а не одна – раскинулись между нами неаккуратным эллипсом. Спали они удивительно неэлегантно, разинув рты, дергая, как собаки, толстыми бедрами, и во сне казались странными гибридами с телами крепких детишек и лицами стариков: ведьм, магов, колдунов. Один раз я взглянул в сторону Фа’а, который не проронил ни слова с того момента, как мы заступили на стражу. Я едва мог разглядеть его в почти абсолютной темноте, но он, видимо, почувствовал, что я на него смотрю, потому что оскалился скорее ободряюще, чем злобно, и я увидел мимолетный блеск грязновато-белых зубов – доказательство, что он здесь, со мной, что он видит то же самое и живет в том же сновидении, каким бы невероятным оно ни казалось.
Следующий день был мой, поэтому, когда Таллент и Эсме начали с помощью Фа’а опрашивать кое-кого из наших испытуемых, я подверг остальных базовым неврологическим тестам – это были простые и грубые исследования, но все равно интересные (к тому же ничего более тщательного я в тех условиях обеспечить не мог). Я попросил Ту, чуть-чуть говорившего по-английски, собрать три вещи, названия которых я знал, и по очереди выкладывать их перед каждым испытуемым.
– Как зовут? – спрашивал я, устраиваясь на торфянистой земле перед одним из этих сидевших на корточках сновидцев и пытаясь разобраться с блокнотом и нелепой перьевой ручкой (ну почему, думал я, глядя, как чернила пачкают влажные страницы и оставляют разводы на оборотной стороне листа, почему я взял с собой перьевую ручку?).
– Ко’окина? – спрашивал Ту.
– Муа.
Их звали Муа, Вану, Ика’ана, Ви’иу (это были мужчины) и Иваива, Ва’ана и Укави (женщины). Иваива и Ва’ана были сестры, видимо, разнояйцовые близнецы: Иваива потолще, с более веселым лицом, а Ва’ана скорее степенная, насколько это возможно в ее состоянии.
Я показал им первый объект:
– Что это?
– Эва? – перевел Ту[30]30
У’ивцы и иву’ивцы говорят на одном языке, но лингвисты теперь считают, что иву’ивцы говорят на «чистом у’ивском», изначальном языке, неиспорченном и нетронутом, скажем, западным влиянием. Хороший пример – это слово, обозначающее хижину: на Иву’иву хижина называлась малэ’э, но на У’иву это слово превратилось просто в малэ, видимо, после длительных и сосредоточенных усилий педанта-миссионера XIX века по имени Дэниел Мейкпис, который решил избавить язык от всяких отвлекающих гортанных смычек и, как он выражался, «избыточных слогов». Язык иву’ивцев отражал быт людей, не просто незнакомых с остальным миром, но решительно ничего не желающих знать о технологии, занятости и даже, в значительной степени, о времени. Например, не было никаких слов, обозначающих лекаря (о беременных и больных заботились деревенская повитуха и деревенский травник), свет (электрический) или любую страну, кроме их собственной. Каким бы изолированным ни казался гостям остров У’иву, его жители, по крайней мере, имели какое-то представление о людях, нововведениях и культурах за пределами их собственного мира, даже если и не проявляли почти никакого интереса к знакомству с ними.
[Закрыть].
– Манама.
Следующий объект:
– Эва?
– Хуноно.
Следующий: копье, найденное Фа’а. Когда я его вытащил, Ту на мгновение отпрянул, но потом взял себя в руки и храбро спросил:
– Эва?
– Ма’аламакина.
– Э, ма’аламакина, – согласился Ту. (Позже я узнал, что копье называется просто «аламакина», но оба произнесли это слово с почтительной приставкой «ма».)
Потом я перешел к следующему испытуемому. Опросив всех – Ва’ана, несмотря на свой пристальный, умный взгляд, сочла манаму чем-то, что назвала словом «понона» (Ту нарисовал передо мной на земле существо вроде акулы и ударил в него палкой несколько раз, повторяя «Понона, понона»), а Вану и Ви’иу не смогли назвать ни один из предметов, – я снова сел перед Муа и попросил его назвать предметы, которые я ему показал (чтобы объяснить Муа, что мне нужно, потребовалась совместная помощь Таллента и Фа’а).
Он вспомнил хуноно и аламакину, но манаму не вспомнил. То же самое было с остальными: они не могли запомнить предметы, которые я показывал меньше часа назад; только Укави назвала все три слова правильно, но это заняло у нее целых пять минут, и большую часть этого времени она таращилась на ствол дерева, как будто показанные вещи должны были вдруг появиться перед ней. Результаты вышли такие плохие, что мне снова пришлось призвать на помощь Фа’а, которому я поручил провести испытание еще раз. У него был мягкий, низкий голос, у Фа’а, и хотя я не понимал слов, его тон подсказывал мне, что он их ласково уговаривает, ободряет: «Что ты видела? Ты же помнишь. Ну скажи».
Но результаты у него получились не лучше, чем у Ту, да я и сам видел, что некоторые из испытуемых уже устали и отводили взгляд от Фа’а, прежде чем он успевал открыть рот.
Очень многое я проверить не мог. Я не мог попросить их прочесть предложение и повторить его на память, потому что читать они не умели. (Некоторым у’ивцам, сказал мне Таллент, до сих пор известна ола’алу, их древняя иероглифическая письменность, но когда я попросил Ту нарисовать простые символы на листе бумаги – «мужчина», «женщина», «море», «солнце», – они уставились на них, ничего не понимая.) Я не мог спросить их, какой сегодня день, потому что, к стыду своему, сам уже не помнил. Кроме того, проблема заключалась не только в их плохой памяти, но и в очень недолгой концентрации внимания.
Но хотя интеллектуальные параметры у них у всех были снижены, их физическое состояние, как и Евино, впечатляло: отличные рефлексы, равновесие и координация на высоте. Я без предупреждения швырнул манаму (с лопнувшей от частого использования кожурой, всю покрытую червями) Муа, тот выставил руку и спокойно ее поймал, а потом бросил мне обратно по ровной, элегантной дуге. И слух у них был такой же острый, как у Евы: стоя в двух футах от Укави, я протянул пальцы к ее правому уху и потер их друг о друга, после чего остальные семеро – и Ту – моментально обернулись в сторону звука, который был, на мой слух, не громче шепота. Они были восприимчивы к запахам, к прикосновениям – я проводил листом папоротника по подошве их левой ноги, и они отдергивались, как будто я полоснул их лезвием, – но, как и у прочих, зрение у них было плохое. Отдаляясь от Муа во время игры в мяч-манаму, я в какой-то момент заметил, что его глаза закрыты, и понял, что он слушает, как плод рассекает воздух, вообще на него не глядя. В последнюю секунду он выставлял в нужную сторону руку, и манама плюхалась ему в ладонь, плоть ударялась о плоть.
Не слишком удивительно, что и выглядели они очень здоровыми, во многих отношениях здоровее, чем шестидесятилетние американцы. Да, груди женщин были сморщены и явно опустошены, но лица у них были гладкие, а волосы у мужчин в основном все еще черные – как и наши проводники, они закручивали их в узел у основания черепа, – и у всех были невероятные заросли лобковых волос, такие густые, что с некоторого расстояния это вызывало изумление, словно какой-то крот прицепился к их коже. Как и проводники, они были мускулистые и ловкие, хотя скоростью не отличались: все они безвольно сутулились, как Ева, что придавало им до странности покорный вид – они шаркали, как люди, покидающие фабрику после долгого дня отупляющей работы, как заключенные, бредущие по тюремному коридору к своей камере.
День выдался напряженный, и только когда воздух снова затуманился и сгустился предвечерней темнотой, мы смогли поговорить с Муа. Стоило увидеть его с остальными, чтобы безошибочно опознать в нем предводителя: он смотрел на тебя прямо, в отличие от прочих, чей взгляд незаинтересованно уходил в сторону почти сразу же, он был чище всех и, хотя это вроде бы не имело значения, был одет лучше и разумнее всех. У Ика’аны, Укави и Иваивы тоже было что-то вроде одежды, хотя они сами, кажется, относились к ней скорее как к украшению: Ика’ана носил вокруг талии ожерелье, связанное из каких-то лиан, с которого свисало пять острых зубов (интересно, человеческих?), а Укави – короткую повязку из жесткой, волокнистой, лягушачье-зеленой материи, обмотанную бесполезным шарфом вокруг шеи. У Иваивы кусок такой же материи – позже, потрогав ее, я понял, что она не такая ломкая, как кажется на вид, а наоборот, мягкая и гибкая, – был завязан странным узлом на правом бедре. Но Муа носил свой кусок ткани вокруг бедер, и хотя ткань ничего толком не прикрывала (его лобковые волосы выбивались сверху щетинистым ежиком), это больше прочего походило на что-то осмысленное.
– Я сейчас буду задавать ему вопросы, – сказал мне Таллент. – и переводить его ответы, а вам нужно записать то, что я говорю, как можно точнее. – Он посмотрел на меня с непроницаемым лицом. Таллент избрал меня себе в помощь; Эсме вместе с проводниками надлежало следить за остальными на поляне чуть выше по холму, и она уже была занята – вела их к ручью, чтобы напоить. – Хорошо?
– Хорошо, – ответил я. Я почему-то испугался – и того, что услышу, и того, что не смогу это правильно зафиксировать. Казалось – хотя Таллент ничего такого не говорил, – что этот опрос чем-то важен и неповторим, и передо мной вдруг возник образ туманного седого будущего, в котором я стою перед зачарованной аудиторией и говорю: «Вот когда все началось. Вот когда я узнал великую тайну», – хотя, разумеется, я представления не имел, к раскрытию какой тайны должен стремиться.
– Ну, начнем, – сказал Таллент, вздохнул и повернулся к Муа, который в знак внимания склонил голову, готовясь к тому, что сейчас последует. А я приготовился записывать.
– Моя семья была не такая, как другие, – рассказывал Муа. – В других семьях на Иву’иву все рождаются на Иву’иву и здесь же умирают, и таковы же их родители, бабки и деды и все остальные родичи. Иву’иву – это их мир, и ничего другого не существует.
Но мой отец не был с Иву’иву. Он был с У’иву, и там жила его семья, семья земледельцев. Они сажали деревья макавы – знаете, что это? Она похожа на манаму, только плод у нее меньше, более розовый, и мякоть слаще. Но в ней не заводятся хуноно, поэтому здешний народ к ней равнодушен.
Однажды, в тот год, когда умер великий король, мать моего отца тяжело заболела. Она стонала и ворочалась из стороны в сторону. Боль, видимо, была у нее в животе, большом и затвердевшем. Весь день и всю ночь она металась и кричала, и мой отец – ему тогда было двенадцать о’ан – не знал, что делать. Его отец находился в роще макавы, где проводил каждую лили’аку, собирая урожай. Роща была не слишком далеко, отец мог бы добраться туда за день, если бы поторопился, но это значило, что придется оставить пять младших братьев и сестер, а мать сквозь стоны взяла с него слово, что он будет за ними следить. Что же ему оставалось? Ничего. Ему пришлось остаться и смотреть, как мать бьется на своей циновке, словно задыхающаяся рыба.
На вторую ночь крики матери моего отца стали еще громче, и соседи, которые приходили подержать ее за руки и побить по щекам, позвать ее по имени, чтобы она пришла в себя и избавилась от того, что у нее внутри, решили, что тут нужна ка’ака’а и, значит, кто-то, кто ее проведет. Это очень старая традиция, согласно которой надо отрезать то, что вызывает болезнь, и закопать эту плоть. Отец отца моего отца был знахарь, и ка’ака’а была одним из способов лечения, которые он знал, и в детстве отец мне рассказывал, как однажды тот на его глазах раскроил череп женщины, словно кокос, тупым куском дерева, приложив его к голове и много раз ударив по нему камнем. Содержимое выползло наружу, и тогда отец отца моего отца снова зашил ее нитью тавы, и после этого у нее больше никогда не болела голова.
К тому времени в деревне моего отца остался только один знахарь, умевший проводить ка’ака’а. Когда-то их было много, но потом приехали хо’оалы, и их стало меньше. Знахарь пришел и пел над матерью моего отца заклинания, и соседки удерживали ее, пока она билась и кричала. Моему отцу и его сестрам и братьям велели ждать у хижины, но там было маленькое окошко, а мой отец был самый высокий из них и мог дотянуться до края и заглянуть внутрь. И вот он увидел, как знахарь взял длинную палку, возможно, палку из рощи макавы, где работал отец моего отца, потому что тогда как раз была лили’ака, палку с заостренным концом. И отец смотрел и видел, как знахарь поднимает палку над головой, а потом вонзает в живот матери моего отца, которая закричала так громко, что, по уверениям отца, крыша дома затряслась и задрожала.
Знаток ка’ака’а вырезал большой шмат плоти из живота матери моего отца и поднял его высоко над головой, песнопениями призывая А’аку и Иву’иву спасти мать моего отца, исцелить и утешить ее. Потом он завернул кусок плоти в ткань из тавы, которую разминал, должно быть, этим утром и велел одной из соседок закопать сверток под стволом канавы. Мать моего отца все кричала и кричала.
Как раз когда соседские женщины выходили из хижины – а к этому времени вокруг собралась вся деревня, и все пели для больной, а некоторые собирались отправиться за отцом моего отца в рощи, до которых был день пути, если поторопиться, в те рощи, где он собирал плоды макавы, – крики матери моего отца стали громче, такие громкие, что деревенские животные, свиньи, куры, лошади, тоже все закричали, и мой отец рассказывал, что весь мир как будто превратился в сплошной звук. Он устал стоять на цыпочках, глядя в окно, но снова подтянулся и заглянул и увидел, как знаток ка’ака’а запустил руку в живот матери моего отца и что-то оттуда вынул. С места, где стоял мой отец, казалось, что это большой сверкающий комок бледного жира, вроде того, какой женщины вырезают из лошадиного тела, чтобы готовить на нем еду. Но тут он выскользнул из рук знатока ка’ака’а и упал на пол, где, к ужасу моего отца, раскололся, как камень, разлетелся на множество осколков.
Тут поднялся страшный шум, знаток ка’ака’а указывал пальцем на мать моего отца и говорил, что она хранила у себя внутри опа’иву’экэ, что она все это время носила в себе бога. Когда жители деревни это услышали, они бросились в маленькую хижину, чтобы увидеть своими глазами опа’иву’экэ, а увидев, что от нее осталось, увидев расколовшийся панцирь, они подняли вой, и мужчины бросились по домам за копьями. Неясно было, сказал мой отец, что они собирались делать. Была ли его мать демоном, как решили некоторые, раз она носила в себе бога, или за это ей следовало поклоняться? Почему она ничего никому не сказала? Что это значит – что она носила в себе опа’иву’экэ? Ничего похожего раньше не случалось, и поэтому они не знали, добрый это знак или дурной, убить ее, мать моего отца, или вылечить. Во всем этом знахарь как-то потерялся – он уж конечно был виноват в том, что разбил божество, но сумел улизнуть, только прежде убедил остальных (знатоки ка’ака’а славятся своей способностью убеждать, своей могучей речью), что после случившегося он заслуживает всяческой хвалы, а вовсе не осуждения.
Жители деревни еще не успели решить, что делать с матерью моего отца, когда она умерла, и люди, разозлившись, что она решила свою судьбу прежде, чем это сделали они, подожгли дом, а потом погнались за моим отцом и его братьями и сестрами, и женщины выпрыгивали из-за деревьев, голося злобно, как женщины умеют, чтобы напугать моего отца и его сестер и братьев, заставить их бежать в одном направлении, потом в другом, а там мужья женщин выпрыгнут и проколют их копьями. Но мой отец, старший из детей, бегал быстрее младших, и когда его вторая сестра погибла, он со всех ног помчался к роще макав, где собирал урожай его отец.
Он бежал и бежал, пока не заметил огромного вепря, лежавшего возле тропинки. Это было странно: вепри обычно не выходили из джунглей и всегда передвигались стаей. Больной вепрь мог отбиться и уйти один, но такое случалось очень редко.
Вепрь выглядел мертвым, но мой отец все-таки осторожничал. Уже случилось много удивительных вещей, и вид одинокого вепря не казался добрым предзнаменованием. Он замедлил шаг и осторожно приблизился к зверю. Но, подойдя ближе, он закричал, потому что это был вовсе не вепрь, это был его отец, сожженный до черноты, так что мой отец принял мелкие высохшие чешуйки кожи, трепещущие на ветру, за вздыбленную шерсть. Отец говорил, что потом ему ярче всего вспоминалось именно это: как лежал его отец, подобравшись, поджав под себя руки и ноги, будто огонь полностью поглотил его ноги и спек их в один большой ствол. Он понял, что отец направлялся домой, когда на него напали деревенские мужчины, видевшие черепаху внутри матери моего отца.
Теперь мой отец остался сиротой, остался совсем один. Когда начался день, он был старшим из шести детей, с отцом, собирающим урожай макавы, с матерью, сестрами и братьями. Но теперь у него ничего не было. Он не мог вернуться в свою деревню, он не знал никого, кто мог бы ему помочь, – братья и сестры родителей давно умерли, а больше он не знал никого на свете.
Мой отец забрался в ствол канавы неподалеку от обугленного отцовского тела. В ту ночь ему приснилось, будто ему явился Опа’иву’экэ и сказал, что мать моего отца проклята, ибо носила в чреве одного из потомков божества, но он может снять проклятие – если оставит все, что знает, и отправится на Иву’иву, и останется там навсегда.
На следующее утро мой отец проснулся одновременно в страхе и решимости. У’ивцы никогда не бывали на Иву’иву – Иву’иву, объяснил мой отец, это земля, где живут только боги, духи и чудовища. Иногда он слушал, как взрослые в деревне по ночам рассказывают истории об Иву’иву, о том, как в темноте остров оживает и плывет по морям, разрезая волны гигантским телом и нарушая черед прибоев, а под утро возвращается на прежнее место. Он слышал истории о том, как деревья разговаривают шуршащим шепотом, как камни безмолвно катятся по земле, как некоторые тамошние растения питаются плотью. Каждый утверждал, что знал некогда какого-нибудь дурака, который некогда отправился посмотреть на этот остров и больше не возвращался.
Но мой отец понимал, что у него нет выбора, и в любом случае судьба его отца ясно говорила: на Иву’иву ему, может быть, и грозит смертельная опасность, но на У’иву он уже, считай, мертв.
Мой отец отправился к берегу. Он не мог ничего продать, ничего предложить, но даже если бы и мог, из тамошних рыбаков очень немногие осмелились бы отправиться в такую даль, на Иву’иву – путешествие заняло бы почти целый день, да они и боялись туда плыть, а значит, он никого не сможет уговорить, чтобы его перевезли на лодке. «Если бы я умел летать! – подумал мой отец. – Если бы я умел плавать, как дельфин!» А потом он вспомнил черепаху из своего сна и разозлился, а потом отчаялся. Как можно выполнить такое невозможное повеление?
Стоя у берега в глубокой печали, мой отец вдруг увидел, как что-то темное проплывает под поверхностью воды. Он решил, что это косяк тонких, серебристых рыб, которых кто угодно может выловить самодельным сачком и затем пожарить на открытом огне, а кости у них такие мягкие, что их можно есть целиком. Но потом, к изумлению отца, оно поднялось из воды, и он увидел, что это огромная черепаха, больше которой он никогда не видел, выше и шире его самого; ногами широкими, как листья лава’а, она быстро и сильно гребла и смотрела на отца задумчивыми желтыми глазами. Отец был так изумлен, что не мог даже двинуться, но тут черепаха наполовину вылезла на берег, и он понял, что должен сесть ей на спину и черепаха отвезет его на Иву’иву.
Никогда мой отец не испытывал такого восторга, как тогда, на черепашьей спине. Черепаха ловко огибала мели, заботясь о том, чтобы не оцарапать ноги в обширных коралловых зарослях, но в открытой воде ее движения стали быстрыми и мощными, и они проплывали мимо акульих косяков, китовых стай, а один раз – мимо могущественной флотилии других опа’иву’экэ, их были сотни, каждый размером не меньше того, на котором сидел отец, и они подняли головы из воды и уставились на него, словно бы приветствуя, множеством сверкающих глаз.
Совсем скоро они доплыли до Иву’иву, и когда отец слезал с черепашьей спины, он какое-то мгновение не сомневался, что черепаха, наблюдая за ним большими глазами, широкими и желтыми как плод манго, сейчас с ним заговорит. Но этого не произошло – черепаха только мигнула отцу, повернулась и уплыла в океан, а отец стоял спиной к суше, почтительно склонив голову, пока плеск от движений черепахи не растворился в шуме волн.
Много дней мой отец шел и шел вперед. Он прислушивался изо всех сил, но ни разу не слышал, чтобы деревья разговаривали друг с другом, и старался не засыпать как можно дольше, но ни разу не почувствовал, что остров пускается в свои ночные прогулки. Но он видел странных птиц, сверкающих ярко-синим, желтым и красным оперением на фоне леса, порхающих с дерева на дерево пестрыми крикливыми стаями; видел ветви, проседающие под тяжестью бесчисленных щебечущих вуак; видел заросли макавы, такие пышные и так густо усеянные плодами, что его отец заплакал бы, если бы их увидел.
Прошло очень много времени, и мой отец достиг деревни, и там, хотя это было непросто – люди относились к нему с опаской и считали призраком, – его в конце концов признали своим и на четырнадцатилетие вручили копье. А потом он завел семью.
Но даже по прошествии стольких лет никто не верил, что мой отец родом откуда-то еще. Они не верили в У’иву. Да и с чего бы им верить? Они его не видели. Мой отец говорил, что этот остров – один из трех, из которых складывается страна под названием У’иву, но таких слов они раньше никогда не слышали, и верить в это у них не было причин. Для нас, иву’ивцев, Иву’иву – наш мир, не больше и не меньше. Многие годы я сам не верил рассказам отца – я считал, что он выдумывает такие сказки, чтобы развлечь нас. Но потом я стал задумываться, а не говорит ли он все-таки правду. Почему? Ну, во-первых, мой отец – очень правдивый человек. Я никогда не слышал, чтобы он настаивал на истинности чего-то ложного. А во-вторых, он рассказывал одну и ту же историю много лет подряд, так что уж можно было и поверить, вот я и верю, это ведь мой отец.
Не забывайте, на протяжении всего рассказа Муа я смотрел только на Таллента. Я, конечно, не понимал, что Муа говорит, поэтому пытался понять, как на этот рассказ реагирует Таллент, наблюдая за выражением его лица. Получалось не очень вразумительно. Я предполагаю, что Таллент менял какие-то слова по ходу повествования, отчего фразы Муа звучали красивее и сложнее, но отследить, что он чувствует, было невозможно – его голос вел историю за собой, тон оставался ровным и неизменным, даже когда голос Муа то выдавал возбужденное восклицание, то слегка утихал. Позже, когда мы читали мои записи вместе с Таллентом и Эсме, когда мне объясняли разные детали, помещая их в нужный контекст, я изумлялся тому, как Таллент сохранял спокойствие, как безупречно владел собой, хотя каждая фраза Муа подвигала его все ближе и ближе к открытию, какого он еще даже вообразить себе не мог.
Только один раз я услышал, как голос Таллента изменился, и много позже пожалел, что не следил за ним в тот момент более пристально, что не запечатлел этот образ у себя в голове и не сберег его в виде восковой фигуры, чтобы всегда иметь возможность потом взглянуть на одно из тех редких мгновений, когда под тобой колеблются основания мира и жизнь меняется навсегда: по одну сторону вздыбливающейся земли – прошлое, по другую – настоящее, и больше их никак и никогда не соединить.
– Я сейчас спрошу Муа, когда умер его отец, – прошептал мне на ухо Таллент, по-прежнему не сводя глаз с Муа. – Муа, э коа хуата ку’оку макэ’э?
Муа ответил сразу, выставив ладонь в сторону своих спутников, и тут я увидел, что Таллент замер, и в это мгновение – как бы странно это ни прозвучало – мне показалось, что он пытается укрыться в самом себе, провалиться сквозь мягкую землю джунглей, которая раскроется, словно пасть огромного зверя, и безболезненно поглотит его целиком.
– Он жив, – сказал Таллент, а потом посмотрел на меня, и в ночном свете – мы опрашивали Муа уже не меньше часа – его лицо под медным загаром побелело до бледного цвета кости. – Вану – его отец. Муа говорит, если мы хотим, с ним можно поговорить.
Целый день прошел в разговорах Эсме и Таллента – друг с другом и со мной, – прежде чем я вполне понял смысл рассказа Муа. К этому моменту мы снова двигались вперед, сновидцы (как я стал их про себя называть за сомнамбулический вид, за осоловелый, мутный взгляд, как будто просачивающийся из-под толстого слоя сна) были поделены на три группы, их запястья обвязаны длинным прутом лианы, другой конец которого крепился на поясе у одного из проводников. Мы шли наверх – опять, – но без ясного ориентира, потому что Муа не мог или, может быть, не хотел объяснить нам, где его деревня. Но больше идти было и некуда; справа и слева лес снова сгустился, стволы подступали друг к другу так близко, что сквозь остающиеся миллиметры едва могли пробиться крошечные колечки папоротников.
Разумеется, как только Таллент закончил переводить, я вытащил из группы Вану (он спал и несколько раз недовольно отталкивал мою руку, пока я пытался его разбудить) и подвел его к Муа. Я не спускал с него глаз, пока Таллент пытался втянуть их обоих в разговор. Выглядел ли он – даже в тот момент, думая об этом, я не мог поверить, что вообще задаюсь таким вопросом, – старше, чем Муа? Возможно, думал я; если Муа выглядит лет на шестьдесят, Вану кажется, пожалуй, на пять-шесть лет постарше. А сходство есть? Может быть – у обоих одинаково плоские скулы, одинаково выступающие нижние челюсти, одинаковый низкий лоб, расчерченный горизонтальными морщинами, как кусок коры. Но с другой стороны, они все выглядели на одно лицо в моих глазах, и если бы я привел Ика’ану вместо Вану, разве не смог бы разглядеть такое же сходство?
Но позже, разговаривая с Таллентом – пытаясь, по крайней мере; Эсме, которая по большей части шла вверх очень неторопливо, теперь семенила за нами, как болонка, – и докладывая ему свои наблюдения, я понял, что пропустил более важную информацию, смысла которой, как не без удовольствия сообщила мне Эсме, я просто не мог осознать.
Во-первых, речь шла о короле.
– Помните, Муа сказал, что его отцу было двенадцать в год смерти короля? – спросил Таллент.
– Конечно, – ответил я. – Но это же мог быть любой король, да? Может быть, отец нынешнего?
– Мог, если бы он просто сказал «король». А он так не сказал. Он употребил особую почтительную форму, «ма», а она используется только при упоминании конкретного короля – Ваки I, который объединил острова. А когда умер король Вака I?
Я промолчал. Разумеется, я этого не знал.
– В 1831 году, – чирикнула откуда-то Эсме.
– Да, – сказал Таллент. У меня было отчетливое ощущение, что они с Эсме репетировали этот обмен репликами накануне вечером, и я сразу же решил, что в их театральном представлении участвовать не буду. – А помните, Нортон, что Муа упомянул знахаря, который практиковал ка’ака’а?
– Да, – ответил я и снова увидел, как знахарь поднимает на ладонях каменного младенца, как его песнопения и женские крики заполняют тесную, крошечную хижину.
– Ка’ака’а была запрещена сыном короля Ваки I, королем Маку, в 1850 году под страхом смертной казни. Так что…
– Даже в 1849-м, – подсказала Эсме, едва не задыхаясь от возбуждения.
– Да, прошу прощения, в 1849-м. Так что это значит…
– Да, но наверняка находились непослушные. Если это традиция…
– Вы не понимаете, Нортон, – сказала Эсме, и усилие, которое потребовалось мне, чтобы удержаться и не ударить ее, было так велико, что меня замутило. – У’ивцы не ослушиваются короля. Никогда.
– Так к чему вы ведете? – торопливо спросил я, не дожидаясь, пока Таллент согласится с ней и они снова напомнят мне, какой я недотепа. – Что Вану родился в 1831 году?
– На самом деле он родился в 1819 году, – миролюбиво сказал Таллент.
Тут я остановился и посмотрел на них.
– Умоляю, – сказал я, – умоляю, не говорите только, что вы ему верите.
– Почему? – спросил Таллент тем же спокойным, рассудительным голосом.
Некоторое время я не решался произнести ни слова. «Боже мой, – понял я, – это была чудовищная ошибка». Я вспомнил Серени, его настойчивость и благодушие, его печальный и отрешенный взгляд, каким он встретил мои слова – бездумные слова! – что я буду рад улететь на остров, о котором никогда не слышал, с антропологом, о котором никогда не слышал, почти на полгода. Я почувствовал, как меня охватило страстное желание убраться с острова, почти сразу сменившееся тупой, ноющей болью: побег невозможен. В это мгновение я понял, как я одинок здесь, где рядом со мной – сновидцы, следопыты, Таллент, до которого я, как ни досадно, не могу дотянуться, и уродливая, неприятная Эсме с круглым лоснящимся лицом, в шортах цвета хаки, бугрящихся в паху.
– Ну, – сказал я, стараясь говорить очень тихо, – например, из-за черепахи.
– Ой, – отмахнулся Таллент, как будто я официант, предложивший ему нежеланное блюдо. – Забудьте пока про черепаху. Тут важно то…
– Каменный младенец, – продолжил я.
– Но такие бывают, – перебила Эсме.
– Очень, очень редко[31]31
Литопедион – «каменный ребенок» – это патология, при которой плод умирает в утробе и, будучи слишком большим, чтобы реабсорбироваться в организм (поскольку речь идет о смерти после первого триместра), он кальцифицируется, чтобы уберечь носителя от инфекции. При этом женщина может ничего не замечать на протяжении десятилетий, может прожить так всю жизнь, может даже родить других детей. Это явление, как отмечает Нортон, возникает крайне редко, остается чем-то вроде зловещего медицинского курьеза и в наши дни в цивилизованном мире практически не встречается.
[Закрыть], – сказал я. – Но, Таллент, – продолжил я умоляюще, – я должен был это знать и страшился его ответа, – вы же не хотите сказать, что верите Вану, верите, что ему сто тридцать один год, правда ведь?
Таллент посмотрел на меня и долго не отводил взгляда, прежде чем ответить, и когда он заговорил, его голос снова звучал мягко.
– Я понимаю, что это кажется невероятным и даже невозможным, Нортон, – сказал он. – Но к другому выводу я прийти не могу. И потом, – тут он взмахнул рукой, указывая на все, что нас окружало: на деревья с крошечными мартышками и огромными ленивцами, на камни с зелеными бородами и валуны, поросшие мхом, на Еву и прочих людей впереди, которые шли наверх за проводниками медленной, неровной шеренгой, – что в этих краях не невозможно?
На это, увы, у меня ответа не было. Молчала даже Эсме. Вскоре стало ясно, что надо идти дальше, и довольно долго ни один из нас не произносил ни слова, и звуки джунглей заполнили пустоту вместо того разговора, который мы не могли вести.
Вот в какой ситуации оказался я, ученый (вероятно), врач (предположительно) и коллега (к сожалению) двух человек, уверенных, что человеку, которому на вид шестьдесят пять, на самом деле сто тридцать один год.
Я понимал, что они считают меня негибким, не склонным к интеллектуальным изысканиям, утомительно консервативным, и понимал, что они понимают, что я считаю их выводы смехотворной, беспочвенной и рискованной фантазией. Разница была в том, что только одну сторону это беспокоило. Эсме вообще по всем признакам пребывала в восторге и липла к Талленту, как грибок к влажному побегу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































