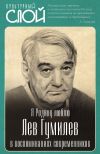Текст книги "Восстание масс"
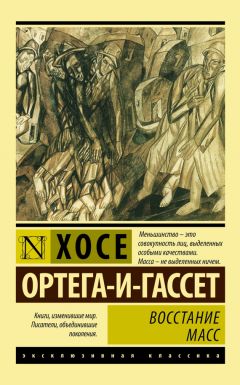
Автор книги: Хосе Ортега-и-Гассет
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Хосе Ортега-и-Гассет
Восстание масс
José Ortega y Gasset
LA REBELIÓN DE LAS MASAS
© Herederos de José Ortega y Gasset, 1930
© Перевод. А. Гелескул, наследники, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
Часть первая
I. Феномен стадности
Происходит явление, которое, к счастью или к несчастью, определяет современную европейскую жизнь. Этот феномен – полный захват массами общественной власти. Поскольку масса, по определению, не должна и не способна управлять собой, а тем более обществом, речь идет о серьезном кризисе европейских народов и культур, самом серьезном из возможных. В истории подобный кризис разражался не однажды. Его характер и последствия известны. Известно и его название. Он именуется восстанием масс.
Чтобы понять это грандиозное явление, надо стараться не вкладывать в такие слова, как «восстание», «масса», «власть» и т. д., смысл исключительно или преимущественно политический. Общественная жизнь – процесс не только политический, но вместе с тем, и даже прежде того, интеллектуальный, нравственный, экономический, духовный, включающий в себя обычаи и всевозможные правила и условности, вплоть до манеры одеваться и развлекаться.
Быть может, лучший способ подойти к этому историческому феномену – довериться зрению, выделив ту черту современного мира, которая первой бросается в глаза.
Назвать ее легко, хоть и не так легко объяснить, – я говорю о растущем столпотворении, стадности, всеобщей переполненности. Города переполнены. Дома переполнены. Отели переполнены. Поезда переполнены. Кафе уже не вмещают посетителей. Улицы – прохожих. Приемные медицинских светил – больных. Театры, какими бы посредственными ни были спектакли, ломятся от публики. Пляжи не вмещают купальщиков. Становится вечной проблемой то, что прежде не составляло труда, – найти место.
Всего-навсего. Есть ли что проще, привычней и очевидней? Стоит, однако, вспороть будничную оболочку этой очевидности – и брызнет нежданная струя, в которой дневной свет, бесцветный свет нашего, сегодняшнего дня распахнет все многоцветие своего спектра.
Что же мы, в сущности, видим и чему так удивляемся? Перед нами – толпа как таковая, в чьем распоряжении сегодня все, что создано цивилизацией. Слегка поразмыслив, удивляешься своему удивлению. Да что же здесь не так? Театральные кресла для того и ставятся, чтобы их занимали, чтобы зал был полон. С поездами и гостиницами обстоит так же. Это ясно. Но ясно и другое – прежде места были, а теперь их не хватает для всех жаждущих ими завладеть. Признав сам факт естественным и закономерным, нельзя не признать его непривычным; следовательно, что-то в мире изменилось, и перемены оправдывают, по крайней мере на первых порах, наше удивление.
Удивление – залог понимания. Это сила и богатство мыслящего человека. Поэтому его отличительный, корпоративный знак – глаза, изумленно распахнутые в мир. Все на свете незнакомо и удивительно для широко раскрытых глаз. Изумление – радость, недоступная футболисту, но она-то и пьянит философа на земных дорогах. Его примета – завороженные зрачки. Недаром же древние снабдили Минерву совой, птицей с ослепленным навеки взглядом.
Столпотворение, переполненность раньше не были повседневностью. Что же произошло?
Толпы не возникли из пустоты. Население было примерно таким же пятнадцать лет назад. С войной оно могло лишь уменьшиться. Тем не менее напрашивается первый важный вывод. Люди, составляющие эти толпы, существовали и до них, но не были толпой. Рассеянные по миру маленькими группами или поодиночке, они жили, казалось, разбросанно и разобщенно. Каждый был на месте, и порой действительно на своем: в поле, в сельской глуши, на хуторе, на городских окраинах.
Внезапно они сгрудились, и вот мы повсеместно видим столпотворение. Повсеместно? Как бы не так! Не повсеместно, а в первом ряду, на лучших местах, облюбованных человеческой культурой и отведенных когда-то для узкого круга – для меньшинства.
Толпа, возникшая на авансцене общества, внезапно стала зримой. Прежде она, возникая, оставалась незаметной, теснилась где-то в глубине сцены; теперь она вышла к рампе – и сегодня это главный персонаж. Солистов больше нет – один хор.
Толпа – понятие количественное и визуальное: множество. Переведем его, не искажая, на язык социологии. И получим «массу». Общество всегда было подвижным единством меньшинства и массы. Меньшинство – это совокупность лиц, выделенных особыми качествами; масса – не выделенных ничем. Речь, следовательно, идет не только и не столько о «рабочей массе». Масса – это «средний человек». Таким образом, чисто количественное определение – множество – переходит в качественное. Это – совместное качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип. Какой смысл в этом переводе количества в качество? Простейший – так понятней происхождение массы. До банальности очевидно, что стихийный рост ее предполагает совпадение мыслей, целей, образа жизни. Но не так ли обстоит дело и с любым сообществом, каким бы избранным оно себя ни считало? В общем, да. Но есть существенная разница.
В сообществах, чуждых массовости, совместная цель, идея или идеал служат единственной связью, что само по себе исключает многочисленность. Для создания меньшинства – какого угодно – сначала надо, чтобы каждый по причинам особым, более или менее личным, отпал от толпы. Его совпадение с теми, кто образует меньшинство, – это позднейший, вторичный результат особости каждого, и, таким образом, это во многом совпадение несовпадений. Порой печать отъединенности бросается в глаза: именующие себя «нонконформистами» англичане – союз согласных лишь в несогласии с обществом. Но сама установка – объединение как можно меньшего числа для отъединения от как можно большего – входит составной частью в структуру каждого меньшинства. Говоря об избранной публике на концерте изысканного музыканта, Малларме тонко заметил, что этот узкий круг своим присутствием демонстрировал отсутствие толпы.
В сущности, чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По одному-единственному человеку можно определить, масса это или нет. Масса – всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как и все», и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью. Представим себе, что самый обычный человек, пытаясь мерить себя особой мерой – задаваясь вопросом, есть ли у него какое-то дарование, умение, достоинство, – убеждается, что нет никакого. Этот человек почувствует себя заурядностью, бездарностью, серостью. Но не «массой».
Обычно, говоря об «избранном меньшинстве», передергивают смысл этого выражения, притворно забывая, что избранные не те, кто кичливо ставит себя выше, но те, кто требует от себя больше, даже если требование к себе непосильно. И конечно, радикальней всего делить человечество на два класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и обязательства, и на тех, кто не требует ничего и для кого жить – это плыть по течению, оставаясь таким, каков ни на есть, и не силясь перерасти себя.
Это напоминает мне две ветви ортодоксального буддизма: более трудную и требовательную Махаяну – «большую колесницу», или «большой путь», – и более будничную и блеклую Хинаяну – «малую колесницу», «малый путь». Главное и решающее – какой колеснице мы вверим нашу жизнь.
Таким образом, деление общества на массы и избранные меньшинства типологическое и не совпадает ни с делением на социальные классы, ни с их иерархией. Разумеется, высшему классу, когда он становится высшим и пока действительно им остается, легче выдвинуть человека «большой колесницы», чем низшему, обычно и состоящему из людей обычных. Но на самом деле внутри любого класса есть собственные массы и меньшинства. Нам еще предстоит убедиться, что плебейство и гнет массы даже в кругах традиционно элитарных – характерный признак нашего времени. Так, интеллектуальная жизнь, казалось бы, взыскательная к мысли, становится триумфальной дорогой псевдоинтеллигентов, не мыслящих, немыслимых и ни в каком виде неприемлемых. Ничем не лучше останки «аристократии», как мужские, так и женские. И напротив, в рабочей среде, которая прежде считалась эталоном массы, не редкость сегодня встретить души высочайшего закала.
Далее. Во всех сферах общественной жизни есть обязанности и занятия особого рода, и способностей они требуют тоже особых. Это касается и зрелищных или увеселительных программ, и программ политических и правительственных. Подобными делами всегда занималось опытное, искусное или хотя бы претендующее на искусность меньшинство. Масса ни на что не претендовала, прекрасно сознавая, что если она хочет участвовать, то должна обрести необходимое умение и перестать быть массой. Она знала свою роль в целительной общественной динамике.
Если вернуться теперь к изложенным выше фактам, они предстанут безошибочными признаками того, что роль массы изменилась. Все подтверждает, что она решила выйти на авансцену, занять места и получить удовольствия и блага, прежде адресованные немногим. Заметно, в частности, что места эти не предназначались толпе, и вот она постоянно переполняет их, выплескиваясь наружу и являя глазам новое красноречивое зрелище – массу, которая, не перестав быть массой, упраздняет меньшинство.
Никто, надеюсь, не огорчится, что люди сегодня развлекаются с большим размахом и в большем числе, – пусть развлекаются, раз есть желание и средства. Беда в том, что эта решимость массы взять на себя функции меньшинства не ограничивается и не может ограничиться только сферой развлечений, но становится стержнем нашего времени. Забегая вперед, скажу, что новоявленные политические режимы, недавно возникшие, представляются мне не чем иным, как политическим диктатом масс. Прежде народовластие было разбавлено изрядной порцией либерализма и преклонения перед законом. Служение этим двум началам требовало от каждого большой внутренней дисциплины. Благодаря либеральным основам и юридическим нормам могли существовать и действовать меньшинства. Закон и демократия, узаконенное существование, были синонимами. Сегодня мы видим торжество гипердемократии, при которой масса действует непосредственно, вне всякого закона, и с помощью грубого давления навязывает свои желания и вкусы. Толковать эти перемены так, будто масса, устав от политики, препоручила ее профессионалам, неверно. Ничего подобного. Так делалось раньше, это и была демократия. Масса догадывалась, что в конце концов при всех своих изъянах и просчетах политики в общественных проблемах разбираются несколько лучше ее. Сегодня, напротив, она убеждена, что вправе давать ход и силу закона своим трактирным фантазиям. Сомневаюсь, что когда-либо в истории большинству удавалось править так непосредственно, напрямую. Потому и говорю о гипердемократии.
То же самое творится и в других сферах, особенно в интеллектуальной. Возможно, я заблуждаюсь, но все же те, кто берется за перо, не могут не сознавать, что рядовой читатель, далекий от проблем, над которыми они бились годами, если и прочтет их, то не для того, чтобы чему-то научиться, а только для того, чтоб осудить прочитанное как несообразное с его куцыми мыслями. Масса – это посредственность, и поверь она в свою одаренность, имел бы место не крах социологии, а всего-навсего самообман. Особенность нашего времени в том и состоит, что заурядные уши, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду. Как говорят американцы, выделяться неприлично. Масса сминает непохожее, недюжинное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать изгоем. И ясно, что «все» – это отнюдь не все. Мир обычно был неоднородным единством массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир стал массой.
Такова жестокая реальность наших дней, и такой я вижу ее, не закрывая глаз на жестокость.
II. Исторический подъем
Такова жестокая реальность, увиденная во всей ее жестокости. И кроме того, невиданная прежде. Никогда еще наша цивилизация не переживала ничего похожего. Какое-то подобие можно найти только вне нашей истории, погружаясь в иную жизненную среду, во всем отличную от нашей, – в античный мир накануне упадка. История Римской империи тоже была историей ниспровержения, господства массы, которая поглотила правящее меньшинство, встала на его место. Возник феномен такой же стадности и скученности. Поэтому, как тонко подметил Шпенглер, здания стали гигантскими, наподобие наших. Эпоха масс – эпоха гигантомании[1]1
Трагично то, что с ростом этой скученности пустели села, и результатом было общее снижение численности имперского населения. – Примеч. авт.
[Закрыть].
Мы живем под жестокой властью масс. Итак, я уже дважды назвал ее жестокой, отдал дань риторике, и теперь, расплатившись, можно с билетом в руке и с легким сердцем вторгаться в сюжет и видеть действие изнутри. Да и мог ли бы я довольствоваться такой прописью, пусть и верной, но беглой, лишь одной стороной медали, где настоящее искажено обратной перспективой? Застрянь я на этом в ущерб моему исследованию, читатель решил бы – и с полным основанием, – что небывалое извержение масс на поверхность истории вдохновило меня лишь на пару враждебных и высокомерных фраз, частью брезгливых, частью возмущенных, – меня, известного своим сугубо аристократическим толкованием истории[2]2
См.: Espaca invertebrada, 1920. – Примеч. авт.
[Закрыть].
Подчеркиваю, что я никогда не призывал общество стать аристократичным. Я утверждал нечто большее и продолжаю твердить, день ото дня убежденней, что человеческое общество всегда, хочет оно того или нет, аристократично по самой своей сути, чем оно аристократичней, тем в большей степени оно общество, как и наоборот. Само собой, я говорю об обществе, а не о государстве. В немыслимом водовороте масс никого не обманет и не сойдет за аристократизм легкая гримаска версальского щеголя. Версаль – речь именно о таком, жеманном Версале – это не аристократия, а полный ее антипод: это смерть и разложение прославленного аристократизма. Оттого-то единственно аристократическим у этих господ было то пленительное достоинство, с которым они склоняли голову перед гильотиной – они смирялись с ней, как смиряется опухоль с ланцетом. Нет, того, кто ощутил исконное призвание аристократа, зрелище масс будит и воспламеняет, как девственный мрамор – скульптора. У такой аристократии нет ничего общего с тем узким и замкнутым кланом, который называет себя всеобъемлющим словом «общество», присвоив его как имя, и живет единственной заботой – быть или не быть туда принятым. У этого «изысканного мирка» есть и свои сподвижники в мире внешнем, есть у него, как у всего на свете, и свои достоинства, и свое назначение, но назначение второстепенное и несопоставимое с титаническим призванием подлинной аристократии. Я не считаю предосудительным говорить о смысле этой изысканной жизни, отнюдь не бессмысленной, но сейчас предмет разговора у нас иной и совсем иных масштабов. Да, кстати, и само это «избранное общество» следует духу времени. Я невольно задумался, когда одна юная и сверхсовременная дама, звезда первой величины в светском небе Мадрида, призналась мне: «Я не терплю балов, где меньше восьмисот приглашенных». Эта фраза удостоверила меня, что массовый вкус торжествует во всех сферах жизни и утверждается даже в таких ее заповедных углах, которые предназначены, казалось бы, для happy few[3]3
Немногих счастливцев (англ.).
[Закрыть].
В общем, я отвергаю и такой взгляд на современность, когда в господстве масс не видят ни единого доброго знака, и противоположный, когда блаженно потирают руки, умудряясь не вздрагивать от страха. Судьба всегда драматична, и в ее глубинах вечно зреет трагедия. Кто не испытывал озноба перед угрозой времени, тот не проникал никогда в глубь судьбы и лишь касался ее нежной оболочки. Что же до нас, то эту тень угрозы несет нам сокрушительный и свирепый бунт массовой морали, неотвратимый, неодолимый и темный, как сама судьба. Куда он заведет? На беду он или на благо? Вот он, огромный, изначально двойственный, нависший над веком, как гигантский, космический вопросительный знак, в котором действительно что-то есть от гильотины или виселицы, но и что-то еще, готовое стать триумфальной аркой!
В том процессе, который предстоит анализировать, можно выделить два момента: во-первых, сегодня массы достигли жизненного уровня, подобного тому, который прежде казался предназначенным лишь для немногих; во-вторых, массы вышли из повиновения, не подчиняются никакому меньшинству, не следуют за ним и не только не считаются с ним, но и вытесняют его и сами его замещают.
Начнем с первого утверждения. В нем говорится, что массы наслаждаются теми благами и пользуются теми достижениями, которые созданы избранным меньшинством и прежде принадлежали только ему. Стали массовыми те запросы и потребности, которые прежде считались утонченными, поскольку были достоянием немногих. Простой пример – в 1820 году в Париже не насчитывалось и десяти ванных комнат (см. мемуары графини де Буань). Больше того, сегодня массы довольно успешно овладевают и пользуются техникой, которая прежде требовала специалистов. И техникой, что особенно важно, не только материальной, но также юридической и социальной.
В XVIII веке определенные узкие круги открыли, что каждому человеку, без каких-либо оценок, один уже факт его появления на свет дает основные политические права, названные правами человека и гражданина, и что в действительности лишь эти всеобщие права и существуют. Все иные права, связанные с личными заслугами, осуждались как привилегии. Вначале это было идеей немногих и чистой теорией, но вскоре эти немногие, лучшие из немногих, стали воплощать свою идею в жизнь, утверждать и отстаивать ее. Однако в течение всего XIX века масса, вдохновляясь идеей всеобщих прав как идеалом, за собой этих прав не чувствовала, не пользовалась и не дорожила ими, а продолжала жить и ощущать себя в условиях демократии так же, как и до нее. «Народ» – так теперь в духе времени именовали массу, – «народ» уже знал, что он властитель, но сам в это не верил. Лишь сегодня идеал осуществился – и не в законодательстве, в этом поверхностном чертеже общественной жизни, а в сердце каждого человека независимо от убеждений, включая убежденных реакционеров; другими словами – включая тех, кто крушит и вдребезги разносит устои, обеспечившие ему всеобщие права. Этот моральный настрой массы крайне любопытен, и, по-моему, не разобравшись в нем, нельзя понять происходящего. Приоритет человека вообще, без примет и отличий, человека как такового, превратился из общей идеи или правового идеала в массовое мироощущение, во всеобщую психологическую установку. Заметим, что идеал, осуществляясь, перестает быть идеалом. Притягательность и магическая власть над человеком, присущие идеалу, исчезают. Уравнительные права, рожденные благородным демократическим порывом, из надежд и чаяний превращаются в вожделения и бессознательные домогательства.
Все так, но ведь смысл равноправия в том и состоял, чтобы вызволить человеческие души из внутреннего рабства и уверить их в собственном достоинстве и могуществе. Чего добивались? Чтобы простой человек ощутил себя господином своей судьбы? Цель достигнута. На что же так сетуют уже третье десятилетие либералы, демократы, прогрессисты? Или они, как дети, любят резвиться и не любят ушибаться? Хотелось, чтобы рядовой человек стал господином? Нечего тогда удивляться, что он живет для себя и в свое удовольствие, что он твердо навязывает свою волю, что он не терпит подчинения и не подчиняется никому, что он поглощен собой и своим досугом, что он кичится своей экипировкой. Все это исконно господские черты. Сегодня мы распознаем их в рядовом человеке, в массе.
Итак, в жизнь рядового человека вошло все то, что прежде отличало лишь самые верхи общества. Но рядовой человек и есть та поверхность, над которой зыблется история каждой эпохи; в истории он – то же самое, что уровень моря в географии. И если сегодня средний уровень достиг отметки, которой прежде касались лишь аристократы, надо честно признать, что уровень истории внезапно поднялся – подземный процесс был долгим, но итог его стремительный, не дольше жизни одного поколения. Человеческая жизнь, вся разом, пошла в гору. У рядовых современности много, так сказать, командирского; человеческое войско сегодня – сплошь офицеры. Достаточно видеть, как решительно, ловко и лихо каждый из них добивается успеха, срывает удовольствия и гнет свое.
Все блага и все беды настоящего и ближайшего будущего берут истоки в этом общем подъеме исторического уровня.
Невольно напрашивается одна мысль. То, что средний уровень жизни – уровень некогда элитарный, ново для Европы, но исконно для Америки. Чтобы ясней понять меня, обратитесь к осознанию своего равноправия. То психологическое состояние, когда человек сам себе хозяин и равен любому другому, в Европе обретали немногие и лишь особо выдающиеся натуры, но в Америке оно бытовало с XVIII века – по сути, изначально. И любопытное совпадение! Едва этот психологический настрой появился у рядового европейца, едва вырос общий его жизненный уровень, как тут же стиль и облик европейской жизни повсеместно приобрели черты, заставившие многих говорить: «Европа американизируется». Говорившие так не придавали переменам особого значения – они думали, что дело сводится к легкому подражанию чужим модам и нравам, и, обманутые внешним сходством, приписывали это бог весть какому американскому влиянию. И, на мой взгляд, упрощали проблему, которая гораздо глубже, тоньше и неординарней.
Из вежливости я мог бы сказать заокеанским гостям, что Европа действительно американизировалась и что причиной тому американское влияние. Но вежливость, увы, сталкивается с истиной и должна уступить. Европа не американизировалась. И даже не испытала заметного влияния Америки. То и другое, возможно, происходит сегодня, но отсутствовало в недавнем прошлом, из которого это «сегодня» возникло. Досадный груз ложных представлений мешает нам разглядеть и американцев, и европейцев. Торжеством масс и последующим сказочным подъемом жизненного уровня Европа обязана двухвековому внутреннему процессу – материальному обогащению общества, воспитанного прогрессистами. Но результат совпал с первостепенной чертой американского развития, и лишь по той причине, что моральное самочувствие рядового европейца совпало с американским, европейцу впервые стал понятен американский образ жизни, прежде для него темный и загадочный. Суть, таким образом, не в постороннем влиянии, не в чем-то отраженном, а гораздо неожиданней – суть в уравнивании.
Европейцы всегда смутно чувствовали, что средний уровень жизни в Америке выше, чем у них. Чувство, не слишком отчетливое, но очевидное, приводило к мысли, общепринятой и не подлежащей сомнению, что Америка – это будущее. Понятно, что столь расхожее и упорное мнение не занесено ветром, подобно орхидее, способной, по слухам, расти без корней. Его укрепляло именно это чувство превосходства среднего уровня заокеанской жизни, особенно ощутимое при большей состоятельности европейской элиты сравнительно с американской. Но история, как земледелие, зависит от долин, а не от пиков, от средних отметок общественной жизни, а не от перепада высот.
Мы живем в эпоху уравнивания – уравниваются богатства, уравнивается культура, уравнивается слабый и сильный пол. И точно так же уравниваются континенты. А поскольку европеец жизненно обретался ниже, от этой нивелировки он только выиграл. Под таким углом зрения нашествие масс выглядит как небывалый прилив жизненных сил и возможностей – вопреки всему, что твердят нам о закате Европы. Само это выражение темно и топорно, да и неясно, что имеется в виду – европейские государства, европейская культура или то, что подспудней и бесконечно важней, а именно – европейская жизненная сила. Что до государственности и культуры, о них еще зайдет речь – и, возможно, упомянутое выражение вполне пригодится, – но что касается жизненной энергии, то налицо грубейшая ошибка. Быть может, изложенное иначе, мое утверждение покажется более убедительным или хотя бы менее неправдоподобным: я утверждаю, что сегодня рядовой итальянец, рядовой испанец, рядовой немец по своему жизненному тонусу меньше отличаются от янки или аргентинца, чем тридцать лет назад. И американцам не следует забывать это обстоятельство.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?