Читать книгу "Книга Мануэля"
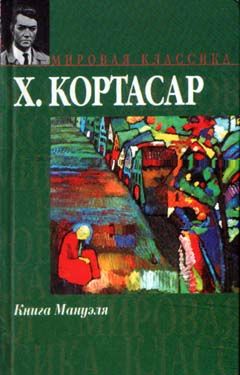
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Хулио Кортасар
Книга Мануэля
По вполне понятным причинам я, вероятно, первый заметил, что эта книга не только кажется не тем, чем она хочет быть, но часто кажется тем, чем быть не хочет, – поборники реализма в литературе сочтут ее скорее фантастической, тогда как помешанные на литературе вымысла посетуют на ее нарочитое сожительство с историей наших дней. Происходящие в ней события, без сомнения, не могли бы происходить столь невероятным образом, и вместе с тем элементам чистого вымысла наносится ущерб частыми ссылками на будничные, конкретные обстоятельства. Меня-то эта разнородность не смущает – она, к счастью, перестала казаться мне таковой в итоге долгого процесса конвергенции: если многие годы я писал произведения, связанные с латиноамериканскими проблемами, а также романы и рассказы, в которых эти проблемы отсутствуют или затронуты лишь косвенно, то «здесь и теперь» эти два потока соединились, хотя их слияние оказалось отнюдь не легким делом, что порой заметно по путаному и мучительному пути кое-каких персонажей. Персонажу грезится примерно то, что грезилось мне в дни, когда я начинал писать, и, как не раз бывало в малопонятной моей профессии писателя, я лишь много спустя осознал, что сон – это тоже часть книги и что в нем таится ключ к конвергенции двух потоков человеческой активности, прежде разнородных. Посему да не удивят читателя частые включения сообщений прессы, читавшихся по ходу становления книги: разительные совпадения и аналогии побудили меня с самого начала принять очень простое правило игры – заставить моих персонажей участвовать в повседневном чтении латиноамериканских и французских газет. По наивности я рассчитывал, что это участие окажет более явное влияние на их поступки; постепенно я убеждался, что для хода повествования эти случайные вторжения не всегда были на благо – видимо, для них требовался более искусный экспериментатор. Как бы то ни было, эти извне пришедшие материалы я не отбирал – новости, опубликованные в понедельник или в четверг и оказавшиеся в кругу мимолетного интереса моих персонажей, включались в книгу в процессе работы именно в понедельник или в четверг, лишь некоторые сообщения оставлены для финала книги – благодаря этому исключению принятое правило стало менее стесняющим.
Книги должны сами себя защищать, так и эта, подобно кошке, где только может, опрокидывается на спину и выпускает когти. Известное изображение латиноамериканской девушки, которая дарит розу солдатам, стоящим с примкнутыми штыками, – это образ того, чем мы отличаемся от нашего врага. Роза как символ утверждения жизни вопреки лавине презрения и ужаса – вот то важное, о чем я попытался рассказать. И это утверждение должно быть самым благородным, самым стойким в человеке: жажда эротики и игры, освобождение от всяческих табу, требование достойного совместного существования на земле, свободной от вечно маячащих на горизонте клыков и долларов.
* * *
В общем, дело выглядело так, словно мой друг, о котором я тебе говорил, имел намерение что-то написать, так как он хранил уйму карточек и листочков, вероятно, ожидая, что в конце концов они сами без большого урона склеятся. Однако ожидал он, по-видимому, неосмотрительно долго, и теперь Андресу пришлось в этом убедиться и посетовать, – но, помимо этой оплошности, моего друга, я думаю, более всего удерживала разнородность сфер, в которых происходили события, уж не говоря о крайне нелепом и отнюдь не конструктивном желании не слишком вмешиваться в них. Этот нейтралитет побудил его с самого начала стать к ним как бы в профиль – положение в повествовательном жанре – и еще более в историческом, что то же самое, – всегда рискованное, тем паче, что мой друг не был ни глуп, ни чересчур скромен, однако трудно было бы требовать от него некой позиции, о чем он не любил распространяться. Напротив – хоть это и было нелегко, – он предпочитал сразу же выкладывать различные данные, которые позволили бы смотреть с различных точек зрения на бурную историю Бучи [1]1
В оригинале испанское слово la joda, русский аналог которого – слово нецензурное и в печатном тексте невозможное, кроме как в виде многоточия. Словом этим, однако, автор обозначает понятие (вернее, целый.комплекс понятий), весьма важное для идейного и сюжетного планов романа, даже мировозренчески важное, и встречается оно в тексте очень часто. Столкнувшись с перспективой испещрить текст многоточиями, переводчик решается на передачу этого ключевого слова вполне цензурной «бучей», что, разумеется, ослабляет остроту эпатажа, но в большей или в меньшей степени соответствует эмоционально-идейной установке автора Здесь и далее в тексте, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчика.
[Закрыть] и людей вроде Маркоса, Патрисио, Людмилы и меня (которого мой друг, не погрешая пролив истины, именовал Андресом), возможно, ожидая, что эта отрывочная информация прольет когда-либо свет на внутреннюю кухню Бучи. Разумеется, если вся эта масса карточек и листочков соединится в нечто вразумительное, чего в действительности не случилось по причинам, отчасти понятным из самих этих документов. Доказательством его намерения с налету включиться в тему (и, возможно, показать, сколь трудно это сделать) было inter alia [2]2
Между прочим (лат.).
[Закрыть] то, что мой друг прислушивался, когда Людмила, подвигав руками, как бы выполняя некое эзотерическое упражнение, уставилась на меня своим зрительным аппаратом глубочайшего зеленого цвета и сказала:
– Андрее, у меня в желудке такое впечатление, словно то, что происходит, или происходит с нами, это какая-то страшная путаница.
– Путаница, милая моя полечка, понятие относительное, – заметил я поучающе, – разбираемся мы в нем или не разбираемся, но то, что ты называешь путаницей, никак за это не отвечает нив том, ни в другом случае. Понимание, я считаю, зависит лишь от нас самих, и для этого недостаточно измерять действительность в терминах путаницы или порядка. Тут нужны другие силы, другие, как ныне говорят, критерии, другие векторы, как ныне архиговорят. Когда говорят о путанице, то почти всегда тут присутствуют путаники; но иногда достаточно внезапной любви, или какого-то решения, или одного внерутинного часа, чтобы случай и воля вдруг остановили стеклышки в калейдоскопе. И так далее.
– Блуп! – сказала Людмила, которая пользовалась этим междометием, дабы мысленно удалиться на противоположный тротуар, а там поди догони ее.
– Понятно, – замечает мой друг, – что, несмотря на все эти субъективные нагромождения, скрытая под ними тема весьма проста: 1) действительность либо существует, либо не существует, во всяком случае, сущность ее непостижима, равно как любые сущности в действительности непостижимы, а постижение – это еще одно зеркальце-приманка для жаворонков, а жаворонок это птичка, а «птичка» это уменьшительное от «птица», а в слове «птица» два слога, и в слогах этих три и две буквы, откуда явствует, что действительность существует (хотя бы жаворонок и слоги), но что она непостижима, ибо, кстати, что означает «обозначать» или, например, «говорить», что действительность существует; 2) пусть действительность непостижима, но она существует, или, по крайней мере, она есть нечто такое, что с нами происходит или что каждый из нас в ней производит, вследствие чего нечаянная радость или элементарная потребность заставляет нас забывать все сказанное в 1) и перейти к 3). В конце концов, мы принимаем действительность во 2), какая она ни есть, и, следовательно, принимаем наше пребывание в ней, но тут же мы узнаем, что, абсурдна ли она, или лжива, или фальшива, действительность – это полный крах для человека, хотя и не для птички, каковая порхает, не задаваясь вопросами, и умирает, не сознавая этого. Итак, фатальным образом, ежели мы окончательно приняли сказанное в 3), надо перейти к 4). Действительность, о которой речь в 3), есть надувательство, и ее следует изменить. Здесь развилка: 5а) и 5б):
– Уф! – говорит Маркос.
5а) – Изменить действительность для меня одного, – продолжает мой друг, – это старо и выполнимо: Майстер Экхарт, Майстер Дзэн, Майстер Веданта. Обнаружить, что «я» – это иллюзия, возделывать свой сад, быть святым, по одежке протягивать ножки и так далее. Нет.
Правильно, – говорит Маркос.
56) – Изменить действительность для всех, – продолжает мой друг, – значит, считать, что все люди суть (или должны быть) то, что и я, и в какой-то мере рассматривать действительность как человечество. Сие означает считать историю, то есть путь человечества, путем ложным, как действительность, доныне принимавшуюся за реальность, и так мы и поступаем. Вывод: имеется один-единственный долг, а именно найти правильный путь. Метод – революция. Вот так.
– Ну, че, – говорит Маркос, – мастак ты по части упрощений и тавтологий, мой мальчик! – Это моя ежеутренняя красная книжечка, – говорит мой друг, – и признай, что, кабы все люди верили в эти упрощения, «Шелл Мекс» было бы труднее украсить твой мотор тигром.
– У меня «эссо», – говорит Людмила, у нее «ситроен» с двумя лошадками, которых, видимо, парализует страх перед тигром, ибо на каждом углу они останавливаются, и моему другу, или мне, или кому иному приходится их подгонять руганью.
Моему другу нравится Людмила, нравится своим безумным взглядом на все, и, вероятно, поэтому Людмиле сразу как бы дается право нарушать всякую хронологию; если ее диалог со мною достоверен («Андрее, у меня в желудке такое впечатление…»), то мой друг, пожалуй, умышленно перемешивает свои листочки, когда у него Людмила что-то говорит в присутствии Маркоса, ведь Маркос и Лонштейн еще находятся в метро, которое их везет, это уж точно, ко мне, между тем как Людмила исполняет свою роль в третьем акте драматической комедии в театре «Вьё Коломбье» [3]3
«Старая голубятня» (франц.).
[Закрыть]. Для моего друга это совершенно не важно, ибо два часа спустя упомянутые особы должны собраться в моей квартире; я даже думаю, что он решился на это ex professo [4]4
Намеренно (лат.).
[Закрыть], дабы никто – включая нас и, главное, возможных адресатов его похвальных усилий – не строил иллюзий насчет его манеры обращаться со временем и пространством: моему другу было бы приятно прибегнуть к синхронности – показать, как Патрисио и Сусана купают своего ребенка, в то время как панамец Гомес с явным удовольствием пополняет свою серию бельгийских марок, а некий Оскар в Буэнос-Айресе звонит своей подруге Гладис, дабы посвятить ее в важное дело. Что до Маркоса и Лонштейна, они как раз появились, выходя из метро в Пятнадцатом округе Парижа, и прикуривают от одной спички, Сусана завернула сына в голубое полотенце, Патрисио потягивает мате, люди читают вечерние газеты, и так далее в том же духе.
* * *

Дабы сократить представление персонажей, мой друг как бы усаживает их всех примерно в одном ряду партера перед чем-то, что, если угодно, можно считать кирпичной стеной; нетрудно сделать вывод, что зрелище будет далеко не привлекательное. Каждый, кто заплатил за входной билет, имеет право увидеть сцену, где что-то происходит, а кирпичная стена, по которой разве что случайно проползет таракан или тень кого-то, движущегося по проходу в поисках своего места, мало чем может порадовать. Посему согласимся – ответственность за это несут мой друг, Патрисио, Людмила или я сам, не говоря об остальных, постепенно усаживающихся в задних рядах подобно персонажам романа, которые один за другим появляются на последующих страницах, хотя кто разберет, где в романе страницы последующие, а где предыдущие, ибо чтение есть движение вперед по книге, но каждое появление в ней можно счесть предыдущим относительно появляющихся потом – маловажные формалистические детали, – итак, согласимся, что тут царит тотальный абсурд и, однако, эти люди находятся здесь, каждый на своем месте перед кирпичной стеной, по разным причинам, ибо речь идет об индивидуумах, но находятся они здесь как бы вопреки абсурду, сколь бы ни показалось это нелогичным жителям их района, которые в этот момент, сидя в кинотеатре другого района, заворожено следят за нашумевшим фильмом made in USSR «Война и мир», цветным, в двух частях и на широком экране, если предположить, что они могли бы заподозрить, что мой друг и пр. сидят на своих местах перед кирпичной стеной, и для Сусаны, Патрисио, Людмилы и пр. находиться там, где они находятся, это и есть действовать вопреки абсурду, ибо этот род метафоры, в которую все они преднамеренно включились, каждый на свой лад, состоит, между прочим, в неприсутствии на демонстрации «Войны и мира» (я просто развиваю метафору, на самом-то деле по крайней мере двое из них уже этот фильм видели),
отчетливо сознавая, где они находятся,
еще отчетливей сознавая, что это абсурдно,
и сверх всего сознавая, что абсурд не способен их одолеть в той мере, в какой они не только действуют ему вопреки (усаживаясь перед кирпичной стеной – сие метафора), но сам этот абсурд устремления к абсурду и есть то, отчего обрушились стены Иерихона,
о которых еще неизвестно, были ли они из кирпича или из прессованного вольфрама, что решает дело. Или же они находятся здесь вопреки абсурду, ибо знают, что он, абсурд, уязвим, немощен, и что, по сути, достаточно ему крикнуть в лицо (кирпичное – продолжая метафору), что он всего лишь предыстория человека, его смутный проект (здесь возникают бессчетные возможности описания теологического, феноменологического, онтологического, социологического, диалектико-материалистического, поп, хиппи)
и что он кончился, на сей раз кончился, пусть не очень понятно как, но на этом этапе нашего века что-то, братец ты мой, кончилось, и теперь посмотрим, что будет, и именно поэтому
в этот вечер,
в том, что делают
и что говорят,
в том, что скажут или сделают все те, кто продолжает входить и усаживаться перед кирпичной стеной и ожидает, словно кирпичная стена это разрисованный занавес, который поднимется, как только погасят
свет, и свет, конечно, гасят,
и занавес, архиконечно, не поднимается,
ибо-кирпичные-стены-не-поднимаются.
Абсурд,
но не для них, потому что они знают, что это предыстория человека, и они смотрят на стену, гадая, что может находиться по ту сторону; поэты вроде Лонштейна будут толковать о тысячелетнем царстве, Патрисио рассмеется Лон-К тейну в лицо, Сусана смутно подумает о счастье, которое не придется покупать ценой несправедливости и слез. Людмиле, невесть почему, вспомнится белый песик, о котором она в десять лет мечтала и которого ей никто не подарил. Что до Маркоса, то он вытащит сигарету (это запрещено) и медленно ее закурит, а я с большим напряжением попробую вообразить, как мог бы человек пройти сквозь эти кирпичи, и, естественно, не смогу это вообразить, ибо научно-фантастические экстраполяции меня чертовски утомляют. В заключение мы все пойдем пить пиво или потягивать мате у Патрисио и Сусаны, и тут наконец начнется что-то настоящее, что-то желтое свежее зеленое жидкое горячее в полулитровых тыквочках с разложенными по кругу бомбильями и как бы венчающая все внушительная горка сандвичей, приготовленных Сусаной и Людмилой и Моникой, этими безумными менадами, которые, выходя из кинотеатра, всегда умирают с голоду.
* * *

– Переводи, – приказал Патрисио, – разве ты не понимаешь, что Фернандо только недавно прибыл, а эти чилийцы, они, знаешь, с французским не в ладах.
– Вы думаете, что я Святой Иероним, – сказала Сусана. – Ну ладно. В Клермон-Ферране Временный совет факультета заявил о жестоком обращении полиции с адъюнкт-профессором. От нашего собственного корреспондента.
– Я согласен на краткое изложение, – сказал Фернандо.
– Ша. Клермон-Ферран. Временный административный совет факультета литературы и гуманитарных наук в Клермон-Ферране опубликовал сообщение, где заявляет, что, кавычки, с возмущением узнал о жестокостях полиции, жертвой которой стал в Париже господин Пьер Пешу, адъюнкт-профессор истории данного факультета, кавычки закрываются. В сообщении сказано, что, кавычки, 28 мая около 22 часов господин Пешу был застигнут полицейской облавой, когда проходил по бульвару Сен-Мишель после проведенного в библиотеке трудового дня. На господина Пешу, пятидесяти пяти лет, вдруг накинулись с дубинками, повалили наземь, затем повели в комиссариат, откуда перевели в следственную тюрьму в Божоне. На рассвете, обнаружив, что господин Пешу не в состоянии ходить, его перевели в госпиталь Божона, а затем, через неделю, отвезли на его квартиру в этом же городе. У господина Пешу тройной перелом коленной чашечки и другие травмы, из-за которых ему придется несколько недель пролежать без движения. Кавычки закрываются. Временный административный совет избрал делегацию, которой поручено добиться аудиенции у ректора университета в Клермон-Ферране и выразить возмущение всего факультета.
– Стало быть, у них госпиталь недалеко от следственной тюрьмы, – сказал Фернандо. – Ох эти французы, у них все так хорошо организовано, а в Сантьяго эти два заведения находятся одно от другого в двадцати кварталах.
– Теперь ты видишь, как полезно, что ты ему перевела эту заметку? – сказал Патрисио.
– Что за вопрос! – согласилась Сусана. – В общем, ты понял, что тебя ждет в стране «Марсельезы», особенно в районе бульвара Сен-Мишель.
– А мой отель как раз там и находится, – сказал Фернандо. – Правда, я не адъюнкт-профессор. Значит, здесь колотят дубинками профов? Это все же некоторое утешение, хотя, конечно, очень жестоко, бедняга Пешу!
Зазвонил телефон. Это я сообщал Патрисио, что Маркос и Лонштейн только что прибыли и нельзя ли нам с Людмилой и с ними приехать и поболтать, надо же иногда поддерживать дружбу, не так ли?
– Сейчас не время для визитов, че, – сказал Патрисио. – У нас тут важнейшее совещание. Да нет, идиот, ты же по голосу слышишь, в таких случаях всегда немного задыхаешься.
– Он, конечно, сказал тебе какое-нибудь свинство? – спросила Сусана.
– Точно, ты угадала, малышка. Что? Я разговаривал с Сусаной и с одним чилийцем, который приехал неделю тому назад, мы его просвещаем насчет environnement [5]5
Окружение, обстановка (франц.).
[Закрыть], ты меня слышишь, парень еще совсем дикарь.
– Пошли вы оба к чертям, ты и твой собеседник, – припечатал Фернандо.
– Правильно, – сказала Сусана. – Пока эти двое эксплуатируют телефон, мы с тобой попьем мате, я заварила травку, которую Моника украла в магазине Фошона.
– Ну ладно, приезжайте, – уступил Патрисио, – мои возражения имели воспитательную цель, не забудь, что я в этой стране уже пятнадцать лет, а это, куманек, тебе не шуточка. Они аргентинцы, – объяснил он Фернандо, который уже и сам догадался об этом. – Пусть они приезжают, qu'ils s'amиnent, как мы говорим тут во Франции, я уверен, что у Маркоса есть свежие новости из Гренобля и из Марселя, где вчера была драка гошистов с полицией.
– Гаучистов? – переспросил Фернандо, у которого были проблемы с произношением. – В Марселе есть гаучо?
– Ты понимаешь, если бы я перевел «гошисты» как «леваки», это бы дало тебе неточное представление, потому что в твоей стране и в моей это означает весьма различные вещи.
– Уже начинаешь с ним спорить? – сказала Сусана. – А по-моему, такой уж большой разницы нет, просто для тебя слово «левак» противно, как разбавленный мате, из-за того, что ты провел юность в Народном доме, вот и все, возьми этот мате, он только заварен.
– Ты права, – сказал Патрисио, размышляя с бомбильей во рту, как Мартин Фьерро в сходных обстоятельствах. – Левак, или перонист, или что там еще, в этих словах уже ряд лет нет ясности, это факт, и ты, кстати, переведи-ка парню еще другую заметку на той же странице.
– Еще переводить? Ты что, не слышишь, Мануэль уже проснулся и требует от меня гигиенических процедур? Погоди, вот приедут Андрес и Людмила, они будут переводить, а заодно кое-что узнают из современной истории.
– Согласен, займись своим сыночком; ребенок просто голоден, старушка, принеси его сюда, да, кстати, бутылку виноградной водки, чтобы утрамбовать мате.
Фернандо, напрягаясь, расшифровывал заголовки в газете, а Патрисио смотрел на него с ворчливым сочувствием, спрашивая себя, не придумать ли предлог, чтобы его выпроводить до прихода Маркоса и остальных, – эти дни гайки в Буче завинчивались все туже, а ему об этом чилийце мало что было известно. «Но ведь наверняка придут еще и Андрее с Людмилой, – подумал он. – Речь пойдет о чем угодно, но не о Буче». В ожидании звонка он передал гостю еще один мате без идеологического содержимого.
* * *
Да, конечно, механизм есть, но как это объяснить и, в конце концов, зачем объяснять, кому нужно объяснение – такие вопросы задает себе мой друг всякий раз, когда люди вроде Гомеса или Люсьена Вернея глядят на него, удивленно округлив брови, а однажды вечером я сам осмелился сказать ему, что нетерпение – родная мать всех, кто встает и уходит прочь, захлопнув дверь или книгу, а между тем мой друг медленно потягивает винцо, смотрит на нас минуту-другую и как бы соизволит сказать или только подумать, что этот механизм есть в некотором роде лампа, которую зажигают в саду перед тем, как люди придут, чтобы ужинать, наслаждаясь прохладой и ароматом жасмина, тем ароматом, с которым мой друг впервые познакомился в деревне в провинции Буэнос-Айрес давным-давно, когда бабушка доставала белую скатерть и накрывала ею стол в увитой виноградом беседке среди кустов жасмина, и кто-нибудь зажигал лампу, и слышался стук столовых приборов и тарелок о подносы, разговоры на кухне, шаги тетушки, которая шла к проулку за белыми воротами позвать детей, игравших с друзьями в соседнем саду или на улице, и стояла теплая январская ночь, а из сада и огорода, которые бабушка под вечер поливала, доносились запахи влажной земли, цепкой бирючины да жимолости, усыпанной прозрачными капельками, в которых огонек лампы множился для глаз мальчика, рожденного, чтобы это видеть. Все это не так уж важно теперь, после стольких прожитых, хорошо или плохо, лет, а все же как приятно дать волю нахлынувшей ассоциации, которая связала описание механизма с лампой летних вечеров в саду твоего детства, и получится так, что мой друг с особым удовольствием заговорит о лампе и о механизме, чувствуя, что теперь-то его не упрекнут в чрезмерном теоретизировании, просто каждый нынешний день ему все ярче вспоминается прошлое – по причине склероза или обратимого времени, – и иногда ему удается показать, как то, что ныне для кого-то, обуреваемого нетерпением, начинается, это некая лампа в летнем саду, которую зажигают на столе среди цветущих растений. Пройдут двадцать, сорок секунд, пройдет минута мой друг вспоминает комаров, мамборета, ночных бабочек фаленас, жуков каскарудос; подобие может уловить всякий: сперва лампа, голый, одинокий свет, затем она обрастает другими элементами, лоскутами, клочками – зеленые туфли Людмилы, курчавые волосы Маркоса, белоснежные трусики Франсины, некий Оскар, который привез двух королевских броненосцев, не считая пингвина, Патрисио и Сусана, муравьи, их скопленья, и танцы, и эллипсы, и скрещиванья, и столкновенья, и внезапные падения на тарелку со сливочным маслом или на блюдо с кукурузной мукой, и крики матери, которая вопрошает, почему еду не прикрыли салфеткой, неужели не знаете, что в эти ночи полно всяких козявок, а Андрес однажды обозвал Франсину «козявкой», но, возможно, механизм уже становится понятен и уже нет причин прежде времени предаваться во власть энтомологической круговерти; да только так сладко, так томительно сладко перед уходом оглянуться на секунду назад, на стол и на лампу, увидеть седую голову бабушки, подающей ужин, а во дворе лает сука, потому что наступило новолуние, и между жасмином и бирючиной все зыблется, а мой друг оборачивается к нам спиной и нажимает указательным пальцем правой руки на клавишу, которая отпечатает нечеткую, робкую точку, рубеж того, что начинается, того, что следует сказать.
* * *
Со своей стороны и на свой лад Андрес также искал объяснения чего-то, что от него ускользало при слушании «Prozession» [6]6
«Процессия» (нем.).
[Закрыть]; моему другу в конце концов становилось забавно это смутное почтение к науке, к эллинскому наследию, к назойливому «почему» относительно всего, какой-то возврат к сократизму, боязнь тайны, того, что некие вещи происходят и воспринимаются как таковые, без всяких «почему»; он подозревал влияние всемогущей техники, требующей более рационального видения мира при пособничестве правых и левых философских теорий, и тогда мой друг оборонялся, пуская в ход мамборета и свежеполитый жасмин, но отчасти уступая требованию показать часовой механизм происходящего, правда, давая объяснение, которое мало кто счел бы удовлетворительным. В моем случае вопрос стоял менее остро, моя проблема в тот вечер, перед тем как должны были прийти Маркос и Лонштейн и нарушить все мои планы, – вот треклятые кордовцы! – состояла в том, чтобы понять, почему, слушая запись «Prozession», я поочередно то отвлекаюсь, то сосредотачиваюсь, и прошло немало времени, прежде чем я сообразил, что все дело в фортепиано. В общем, я понял: достаточно повторить один пассаж на пластинке, чтобы в этом удостовериться; среди звуков электронных или традиционных, но измененных из-за применяемых Штокхаузеном фильтров и микрофонов, время от времени совершенно четко слышится натуральный звук фортепиано. По сути, все очень просто: в человеке, сидящем в стратегически замыкающей точке стереофонического треугольника, есть человек старый и человек новый, тут имеет место разрыв мнимого единства, обнажаемый немецким музыкантом в полночный час в одном из парижских департаментов. Да, это так, вопреки многим годам музыки электронной или экспериментальной, free jazz [7]7
Свободный джаз (англ.).
[Закрыть] (прости-прощай. мелодия, прощайте, четкие старые ритмы, завершенные формы, прощайте, сонаты, прощайте, концертные ансамбли, прощайте, парики, атмосфера tone poems [8]8
Музыкальные поэмы (англ.).
[Закрыть], прощай, предсказуемое, прощай, самое любимое в привычном), все равно старый человек продолжает жить и помнить, в самых головокружительных духовных перипетиях всегда звучит некая постоянная дорожка и трио эрцгерцога, и вдруг становится так легко понять: в звуке фортепиано сгущен этот неистребимый пережиток, посреди звучащего комплекса, где сплошные новации, где проглядывают, как старинные фотографии, его колорит и тембр, из фортепиано могут рождаться ряды менее пианистических звуков или аккордов, но сам инструмент здесь, его сразу узнаешь – фортепиано иной музыки, ушедшая эпоха, звуковая Атлантида посреди расцвета юного нового мира. И еще легче понять, сколь неизбежно влияние истории, условий времени и культуры, ибо в любом пассаже, где господствует фортепиано, оно звучит для меня как узнавание, и тогда сосредотачивается внимание, острее становится восприятие того, что доныне связано во мне с этим инструментом, мостом между прошлым и будущим. Конфронтация человека старого и человека нового, отнюдь не дружественная встреча в музыке, литературе, политике и мировоззрении, включающем их все. Для современников клавикорда первые звуки фортепиано, вероятно, пробуждали постепенно этого мутанта, ставшего ныне традиционным сравнительно с фильтрами, которыми манипулирует немец, дабы заполнить мне уши свистящими и воющими звуками, целыми блоками звуков, никогда еще не слышанных в подлунной. Вывод и мораль: все дело в том, чтобы выровнять внимание, нейтрализовать вред от этих вторжений прошлого в новую манеру наслаждения музыкой. Да, в новую манеру бытия, стремящуюся охватить все – уборку сахарного тростника на Кубе, телесную любовь, живопись, и семью, и деколонизацию, и одежду. Естественно, что я еще раз спрашиваю себя, как же надо наводить мосты, искать новые правильные контакты, помимо любовного согласия между поколениями и различными мировоззрениями, между фортепиано и электронной обработкой звука, помимо коллоквиумов католиков, буддистов и протестантов, помимо разрядки между политическими блоками и мирного сосуществования; ибо речь идет не о сосуществовании, старый человек не может жить в человеке новом, хотя этот новый есть виток той же спирали, новый поворот в бесконечном балете; теперь нельзя говорить о терпимости, все ускоряется до тошноты, дистанция между поколениями растет в геометрической прогрессии, уже ничего нет общего ни с двадцатыми годами, ни с сороковыми, а скоро так будет и с восьмидесятыми. Когда пианист в первый раз прервал исполнение, чтобы провести пальцами по струнам, как по арфе, или ударил по корпусу инструмента, чтобы отметить ритм или паузу, на подмостки полетели башмаки; ныне молодежь была бы удивлена, если бы при извлечении звука из фортепиано ограничились одними клавишами. А книги, эти ископаемые, нуждающиеся в неуклонной тяге к старому, и эти левацкие идеологи, упорствующие в почти монашеском идеале жизни частной и общественной, и идеологи правые, непробиваемые в своем презрении к миллионам неимущих и отчужденных от собственности? Новый человек, да, это он: как далеко ты ушел, Карл-Хайнц Штокхаузен, супермодерновый музыкант, вставляющий ностальгическое фортепиано в радужное электронное многоцветье; это не упрек, я это говорю о себе самом, с дорожки твоего попутчика. Выходит, и у тебя есть проблема моста, и тебе приходится находить способ говорить понятно, даже когда вся твоя техника и великолепно оборудованная среда требуют от тебя сжечь фортепиано и заменить его еще одним электронным фильтром (это просто рабочая гипотеза, речь идет не об уничтожении ради уничтожения, фортепиано, пожалуй, служит Штокхаузену не хуже, а то и лучше, чем электронные средства, но, думаю, мы друг друга понимаем). Итак, мост, ну ясно! Как навести мост и в какой мере принесет пользу его наведение? Интеллектуальная практика (sic!) закоснелых социалистов требует моста полноценного; я пишу, а читатель читает, то есть предполагается, что я пишу и тем самым навожу мост на уровне чтения. А ежели я нечитабельный, старина, ежели нет читателя и, следовательно, нет моста? Потому что мост – при всем желании его навести и при том, что всякое произведение – это мост от чего-то к чему-то, – не будет настоящим мостом, пока по нему не ходят люди. Мост – это человек, идущий по мосту, че.
Одно из решений: поставить на мост фортепиано, и тогда по нему будет движение. Второе: навести мост, как уж придется, и оставить его, глядишь, эта малышка, что сегодня на руках у матери сосет грудь, вырастет когда-нибудь в женщину, которая пойдет по мосту одна, а быть может, держа на руках малышку, которая сосет грудь. И тогда уже не понадобится фортепиано, мост все равно будет, будут идущие по нему люди. Но попробуйте сказать это самодовольным строителям мостов, и дорог, и пятилетних планов!
* * *
– Кто звонил? – спросил Фернандо.
– А, это тот самый, чем меньше о нем упоминать, тем лучше, – высказался Патрисио с явной нежностью. – Через десять минут ты его увидишь, это Андрес, один из многих аргентинцев, которые невесть почему живут в Париже, хотя у него есть своя теория об избранных местах, и во всяком случае он себе заработал право на квартиру, Сусана была с ним знакома еще до меня, она может тебе о нем рассказать, возможно даже, что она с ним спала.
– В его квартире, раз уж ты говоришь, что он заработал право на нее, – сказала Сусана. – Не обращай внимания, Фернандо, он настоящий турок – каждого латиноамериканца, который встречался на моем пути до этого чудовища, он автоматически заносит в список своей ретроспективной ревности. Еще, слава Богу, он верит, что Мануэль его сын, не то бедное дитя было бы все в синяках.









































