Текст книги "Девочки Гарсиа"
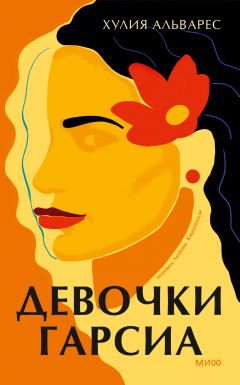
Автор книги: Хулия Альварес
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Мать выглядела слегка обеспокоенной, как если бы надкусила что-то кислое, приняв его за сладость.
– Что случилось, Йо? – чуть позже спросила мать у ее ладони, которую поглаживала. – Мы думали, что вы с Джоном так счастливы.
– Мы просто говорили на разных языках, – не вдаваясь в подробности, ответила Йо.
– Ох, Йоланда, – мать произнесла ее имя по-испански: чистое, насыщенное, полнокровное имя – Йоланда. Но потом – и это было неизбежно, как гравитация, как ночь и день, как маленькие укусы яблока за спиной у Господа, – это имя было изуродовано и упало, разбившись на полдюжины прозвищ – pobiecita[33]33
Бедняжка (исп.).
[Закрыть] Йосита – очередное прозвище. – Мы тебя любим, – мать произнесла это слишком громко для двоих. – Правда, папи?
– Что правда, мами? – Отец обернулся.
– Мы ее любим, – отрезала его жена.
– Без всяких сомнений. – Папи подошел к мами или к Йо.
– Что такое любовь? – спрашивает Йо доктора Бола; кожа на ее шее зудит и краснеет. У нее развилась атопическая аллергия на определенные слова. Не угадаешь какие, пока они не оказываются на кончике ее языка и не становится слишком поздно: ее губы распухают, кожа чешется, глаза слезятся от аллергической реакции.
Врач испытующе смотрит на нее и нюхает тыльную сторону пальцев.
– А как вы сами думаете, Джо? Что такое любовь?
– Не знаю. – Она пытается посмотреть ему в глаза, но боится, что если сделает это, то он узнает, все узнает.
– Ох, Джо, – утешает ее врач, – нам постоянно приходится переосмысливать все, что для нас важно. Не знать – это нормально. Когда вы снова влюбитесь, то поймете, что это.
– Любовь, – бормочет Йо ради эксперимента. Как и следовало ожидать, кожа на ее руке покрывается уродливой сыпью. – Наверное, вы правы. – Она почесывается. – Просто страшно не знать значения самого важного слова в моем лексиконе!
– Вам не кажется, что это вызов самой жизни?
– Жизни, – эхом откликается она, словно возвращается к былым дням беспрестанной цитации. Ее губы горят. Жизнь, любовь – отныне за использование этих слов приходится платить.
Палец Йо обводит тело дока на металлической оконной сетке, как если бы она его выдумывала. Возможно, она снова попытается писать – что-нибудь не слишком амбициозное, забавный стишок типа лимерика. Она назовет его «Дэннисная ракета», обыграв имя дока.
Глубоко внутри у нее что-то шевелится, словно зуд, до которого она не может добраться.
– Несварение, – бормочет она, похлопывая себя по животу. А может, и нет, думается ей; возможно, это личностный феномен: настоящая Йоланда, воскресающая августовским днем над ухоженными зелеными лужайками частной клиники.
У нее болит живот. Она рисует широкие круги с надписью «Я голодна» на своем больничном халате. Но биение внутри неистовее голода – это мечущийся в абажуре мотылек.
Хлопая крыльями, оно поднимается по ее трахее, пока тело Йоланды не начинают содрогать рвотные спазмы. Какая трагедия – в ее возрасте умереть от приступа разбитого сердца! Она пытается засмеяться, но вместо смеха чувствует, как в основании горла веером раскрываются щекочущие крылья. Они широко раскрывают ей рот, как если бы она выкрикивала чье-то имя издалека. Огромная черная птица вылетает наружу и садится на комод – точь-в-точь копия гравюры с изображением ворона в ее первом сборнике английской поэзии.
Она протягивает руки, чтобы подружиться с темной птицей.
Птица не обращает на нее внимания и задумчиво смотрит в окно на темнеющее небо. Ее крылья медленно поднимаются и опадают, огромные дуги взмывают и опускаются, взмывают и опускаются, вверх и вниз, вверх и вниз. Волосы Йоланды развеваются вокруг лица. Пыль разносится по углам. Парусами вздуваются оконные занавески.
Птица летит к окну.
– О господи! Сетка!
В следующую секунду Йо вспоминает об утрате веры.
– Поверь хоть немного, – уговаривает она себя, и темная тень легко пролетает сквозь сеть, словно дым, облака или другая эфемерная субстанция. Тень выпархивает наружу, наслаждаясь обретенной свободой, ее темный крючковатый клюв и крошечная головка свисают, словно половой орган, между изогнутыми крыльями.
Внезапно птица останавливается – в воздухе. Восторг и удивление написаны в оскале ее крыла. Она стремительно падает на потрясенного мужчину на лужайке. Выставив вперед клюв, этот темный и скрытый комплекс, натравленное на мир расстройство личности, птица камнем летит вниз!
– О нет, – стонет Йо. – Нет, только не он!
Ей казалось, что, стоя в одиночестве у окна этим августовским днем, она не сможет причинить никому вред. Но теперь птица летит вниз на мужчину, которого она больше всего хочет уберечь от своих слов.
Йо кричит, глядя, как загнутый клюв рвет рубашку и грудь мужчины; белая фигура на лужайке превращается в мокрые красные ошметки.
Насытившись, темная птица взлетает и присоединяется к клубящемуся скоплению туч в северном небе.
Йо стучит по сетке. Мужчина поднимает взгляд, пытаясь угадать окно.
– Кто это?
– Вы в порядке? – кричит она, получая удовольствие от своей роли неведомого голоса с небес.
– Кто это? – Он встает, поднимает пляжное полотенце. Кровь сворачивается в длинный красный махровый прямоугольник. – Кто это? – Он раздражен затянувшейся игрой в угадайку.
– Тайная поклонница, – щебечет она. – Бог.
– Хезер? – пытается угадать он.
– Йоланда, – бормочет она про себя. – Йо, – кричит она ему. «Кто, черт возьми, эта Хезер?» – спрашивает она себя.
– А, Джо! – Он смеется, махая своей ракеткой.
Ее губы зудят и морщатся. «О нет, – думает она, узнавая первые признаки аллергии, – только не мое собственное имя!»
* * *
Зеленая, чистая и тихая лужайка.
– Любовь, – провозглашает Йо, вкладывая в это слово всю свойственную ему силу. Она твердо намерена победить аллергию. Она выработает иммунитет к оскорбляющим словам. Она собирается с духом перед двойной дозой. – Любовь, любовь, – быстро произносит она. Ее лицо – сплошная зудящая валентинка. – Amor. – Даже от испанской версии тыльную сторону ее ладоней покрывает сыпь.
Сердце внутри ее ребер – пустое гнездо.
– Любовь, – она округляет его звучание, словно яйцо, которое нужно туда положить. – Йоланда. – Она кладет в гнездо еще одно яйцо.
Она смотрит вверх, на грозовые тучи. Его теннисный турнир будет отменен, всё в порядке. В вышине нет ни одного синего оттенка, который напомнил бы ей о небе. Поэтому она говорит:
– Синева.
Она ищет подходящее слово, которое могло бы последовать за синим унынием.
– Неправа… Истлевать… Небеса…
С каждым словом она наполняется уверенностью и идет дальше:
– Мир… Белка… Лихорадить… Спятить… Хватит…
Слова извергаются наружу со звуком, похожим на раскаты далекого грома, и обретают форму, глубину и содержание. Йо продолжает:
– Док, рок, рывок, помог.
Столько слов. О мире можно говорить бесконечно.
Рассказ о Руди Элменхерсте
Йоланда
Мы по очереди изощрялись в распущенности. По ночам во время каникул то одна, то другая из нас исповедовалась в своих прегрешениях, после того как родители ложились спать и мы проверяли коридор на отсутствие «мавров на берегу» – это островное выражение значило, что горизонт чист. Младшая Фифи удерживала титул дольше всех, хотя красавица Сэнди, перед которой было открыто множество возможностей, составляла ей серьезную конкуренцию. Даже ответственная старшая сестра Карла несколько раз выкидывала коленце. Но она всегда утверждала, что делала это, чтобы укрепить наши общие позиции. Именно поэтому ее грехи отдавали добрыми намерениями и никогда не могли сравниться в пикантности с выходками Фифи. На наше «Ужас, Фифи, как ты могла?!» Фифи отвечала хулиганскими усмешками и слоганом из рекламы «Алка-Зельтцера»: «Попробуйте, вам понравится!»
В течение нескольких коротких головокружительных лет я считалась главной распутницей среди сестер. Полагаю, все началось в школе-пансионе, когда мне стали оказывать внимание разные молодые люди, и, хотя ни с одним из них дело не дошло до настоящих отношений, сестры ошибочно приписывали количество ухажеров моим роковым чарам. По выражению одной из учительниц, тогда у меня был «сангвинический темперамент». Заглянув в словарь, я, к своему облегчению, узнала, что это не означает, что я какая-то проблемная. Тогда английский язык еще преподносил мне сюрпризы: заглянув в словарь, я выясняла, оскорбили меня сейчас, похвалили, отругали или раскритиковали. На вечеринках мне удавалось рассмешить застенчивых, краснеющих парней из подготовительной школы с трогательными длинными ладонями. Я умела внушить им, что они действительно способны увлечь девушку разговором. Не проходило ни одного субботнего вечера или воскресенья после утренней службы, чтобы ко мне кто-нибудь не приходил. Кучка парней из нашей братской школы спускалась с холма и околачивалась у нас в приемной, лишь бы не сидеть у себя в дортуарах[34]34
Дортуар – общая спальня для воспитанников в закрытых учебных заведениях.
[Закрыть]. По пути они могли украдкой выкурить сигаретку или хлебнуть из фляжки. При входе надо было назвать имя одной из пансионерок, и многие называли мое. Мои роковые чары были тут совершенно ни при чем. Только чистой воды сангвиничность.
В конце концов после отъезда в университет эта особенность моего характера сработала против меня. Я знакомилась с кем-нибудь, завязывался разговор, поклонники заходили ко мне, но едва мое сердце пускало первые ростки привязанности, как они пропадали. Я не умела удержать интерес. Причина была довольно проста: я отказывалась с ними спать. Ко времени моего поступления в университет заканчивались шестидесятые, и все спали с кем попало из принципиальных соображений. Я на тот момент была отошедшей от церкви католичкой, и за десять лет, прошедших с нашего приезда в эту страну, мы с сестрами изрядно американизировались, поэтому достойного оправдания у меня не было. Причина, по которой я не переспала с таким настойчивым парнем, как Руди Элменхерст, была тайной, покрытой мраком, которую я попытаюсь разобрать здесь, как когда-то мы разбирали стихотворения и рассказы друг друга на занятиях по английскому языку, где я и познакомилась с Рудольфом Бродерманом Элменхерстом Третьим.
Рудольф Бродерман Элменхерст Третий явился на урок спустя десять минут после начала занятия. Я же, напротив, пришла первой и выбрала место за семинарским столом поближе к двери; к сожалению, оно ничем не отличалось от прочих, потому что стол был круглый. Следом аудиторию заполнили другие студенты – университетские знатоки филологии. Я поняла, что они особенные, по их джинсам, футболкам и искушенным ироничным взглядам при упоминании малоизвестных литературных произведений. В отличие от студенток социологического профиля, не все наши девушки вязали во время занятий. К тому моменту я уже кое-что пыталась писать, но это было мое первое занятие по английскому с тех пор, как прошлой осенью я уговорила родителей разрешить мне перевестись в университет с совместным обучением.
Я выложила на семинарский стол свою тетрадь и все до последнего обязательные и рекомендованные тексты, уже купленные мною, и окружила себя ими, как верительными грамотами. Большинство других студентов считали себя слишком крутыми, чтобы покупать книги к курсу. Вошел преподаватель – парень, одетый в водолазку и пиджак на манер всех передовых педагогов тех времен; в нем чувствовалось усердие внештатника: чрезмерное рвение, избыток раздаточных материалов, повторяющиеся «пожалуйста, обращайтесь» в учебном плане, домашний номер телефона в придачу к рабочему. Он сделал перекличку, приветствуя большинство студентов прозвищами, подколами и замечаниями, запнулся на моем имени и фальшиво улыбнулся мне такой улыбкой, какой, по моему опыту, одаряли «иностранных студентов», чтобы показать им, как местные дружелюбны. Я почувствовала себя не в своей тарелке. Единственной родственной душой мне показался отсутствующий Рудольф Бродерман Элменхерст Третий, который тоже отличался необычным именем и, наверное, был не на своем месте хотя бы потому, что попросту отсутствовал на нем.
Мы разбирались в логистике снятия копий для семинаров, когда вошел опоздавший парень. Он был одним из тех, кто из недавней схватки с подростковыми прыщами вышел обладателем мужественного, покрытого рубцами хулиганского лица. Такого обойдут вниманием красотки-однокурсницы, ищущие возлюбленных. На его губах играла ироническая улыбочка, а еще у него были – давно не слышала это выражение – томные глаза. Парень, который разобьет вам сердце. Но вы бы не поняли этого, если бы руководствовались звучанием его имени, как поступила я ввиду присущего многим иммигрантам буквализма. Я предположила, что он опоздал потому, что только что примчался из своего маленького баронства где-то в Австрии.
Преподаватель остановил занятие.
– Рудольф Бродерман Элменхерст Третий, я полагаю?
Все засмеялись, парень тоже. Я восхитилась этой его особенностью с самого начала: как он мог эффектно появиться, не покраснев, не споткнувшись и не рассыпав по полу свои книги и содержимое пенала. Он понимал шутки и напускал на себя столь ироничный и самоуверенный вид, что никому не было неловко подшучивать над ним. Парень огляделся и заметил свободное место рядом со мной и стопкой моих книг. Он подошел и сел. Я чувствовала, как он разглядывает меня, вероятно гадая, что это, черт возьми, за незваная гостья, вторгшаяся в святая святых студентов-филологов.
Занятие продолжилось. Преподаватель снова начал объяснять, чего ожидает от нас на своем курсе. Позже он раздал нам распечатки с коротким стихотворением и попросил написать отклик. Парень с именем, похожим на титул, наклонился ко мне и спросил, не одолжу ли я ему бумагу и ручку. Мне льстило, что он обратился именно ко мне. Я вырвала несколько страниц из тетрадки, потом порылась в пенале в поисках еще одной ручки и подняла виноватые глаза.
– У меня нет запасной, – прошептала я. Шушуканье полными предложениями выдавало во мне новичка.
Парень глянул на меня так, будто ему было плевать на ручку и только дура могла посчитать иначе. Под его пристальным взглядом я ощутила, что краснею.
– Ничего страшного, – произнес он так тихо, что мне пришлось читать по губам. Его полные губы морщились, как будто он посылал мне поцелуйчики. Если бы я знала, что такое сексуальное влечение, то опознала бы дрожь, пробежавшую по моему позвоночнику к ногам. Он повернулся к другому соседу, у которого тоже не оказалось ручки. Пошел шепоток. У кого-нибудь есть лишняя? Ни у кого. В тот день в аудитории был дефицит ручек.
Я снова сунула руку в свой пенал. У таких сверхподготовленных студенток, как я, не могло не заваляться запасной письменной принадлежности. На дне пенала прощупывалось что-то многообещающее, и я достала его: это был крохотный карандашик из подаренного на Рождество персонализированного набора – коробки карандашей «моего» (красного) цвета с золотой надписью: «Джолинда». (Мать искала оригинальное написание моего имени, Йоланда, но компания заменила его на американизированную, переиначенную на южный манер Джолинду.) «Джолинда» – так когда-то было написано на моем карандаше. Собственно, от карандаша остался один огрызок, а от имени – первая буква. В моей семье было не принято что-либо выкидывать. Я использовала обе стороны листа. И как ни в чем не бывало протянула свою находку этому парню. Он взял ее и подержал перед собой, как бы говоря: «Что у нас тут?» Его приятели поблизости усмехнулись. Я почувствовала себя нищебродкой из-за того, что сберегла карандаш после множества заточек. И в конце занятия сбежала, прежде чем он успел вернуть мне его.
Тем вечером в мою дверь постучали. Я была уже в ночной сорочке, делала наше домашнее задание – любовное стихотворение в форме сонета. Я довольно выразительно читала его вслух, пытаясь правильно расставить ударения, и смутилась, когда меня застали врасплох.
«Кто там», – спросила я. И не узнала имя. Руди?
– Парень, который взял в долг твой карандаш, – сказал голос сквозь закрытую дверь.
Странно, подумала я, десять тридцать вечера. Некоторые стратегии были для меня тогда еще в новинку.
– Я тебя разбудил? – осведомился он, когда я открыла.
– Нет-нет, – сказала я, виновато смеясь.
После того как он опозорил меня на занятии, я поклялась больше никогда не разговаривать с ним, но моя выученная вежливость сработала на автомате. Я извинилась за то, что не приглашаю его войти.
– Делаю домашнее задание.
Так себе отговорка в кругах, где он вращался. Мы еще какое-то время постояли на пороге; он заглядывал через мое плечо в комнату в ожидании приглашения.
– Я просто пришел вернуть твой карандаш. – И он протянул ладонь с маленьким красным огрызком на ней.
– Просто вернуть это? – переспросила я, поняв, что он блефует.
Он ухмыльнулся, и ямочки образовали круглые скобки в уголках его губ, словно эта улыбка становилась нашим общим секретом.
– Ага, – сказал он; его взгляд напрягся, и он снова заглянул мне через плечо.
Я взяла с его ладони карандаш и порадовалась, что он заточен до огрызка и на боку не видно моего оттиснутого золотыми буквами имени.
– Спасибо, – произнесла я, переступив с ноги на ногу и дотронувшись до дверной ручки, робкими, вежливыми движениями предваряя закрытие двери.
Он заговорил:
– Может, как-нибудь пообедаем?
– Конечно, можем пообедать. Как-нибудь.
Мое подчеркнутое «как-нибудь» прозвучало безнадежно. Я не доверяла этому парню, не знала, как его прочесть. В моем арсенале межличностного общения не было ничего, что могло бы растолковать его поступки. Десятиминутное опоздание на первое занятие. Я из кожи вон лезу, чтобы добыть ему карандаш, а он смеется. Десять тридцать – он на моем пороге, чтобы вернуть огрызок и позвать вместе пообедать.
– Как насчет завтра перед занятиями? – спросил Руди.
– Завтра у нас нет занятий.
– Значит, можно долго обедать, – тут же нашелся он. Я невольно впечатлилась.
– Ладно, – кивнула я. – Завтра пообедаем.
На следующий день мы отобедали, потом говорили до ужина, а после ужинали. Такими мне и запомнились отношения университетской поры – как маниакальные марафонские забеги. Когда настолько погружаешься в другого человека, сложно возвращаться в свою маленькую комнатку в общежитии и делать домашние задания. Но я поступила именно так: вернулась и взялась за свой сонет. Это был трактат о природе любви объемом в четырнадцать строк, и, пока я описывала эти абстракции, все вспоминала, как Руди слушал, поглядывая на мой рот, отчего мне было сложно сосредоточиться на своей речи. Я вспоминала, как он морщил губы, словно целуя каждое слово на прощание. Как его ладонь коснулась моей поясницы, когда он вел меня сквозь толпу шумных ребят среди столового братства. Мы восхищаемся одними людьми за их оригинальную манеру выражаться, а другими – за необычный склад ума; Руди был достоин восхищения за свою сексуальную врожденную телесность. Он был из тех парней, которые могут поцеловать вас за ухом, и вы почувствуете себя так, будто только что занимались извращенным сексом.
Назавтра Руди не сдал свой сонет. Собирая учебники в сумку после занятия, я услышала, как он говорил преподавателю, что застрял и ничего не смог придумать. Преподаватель был снисходителен, на дворе были шестидесятые, к творческим кризисам относились с пониманием. Руди разрешили сдать сонет в понедельник. Большую часть выходных мы провели вместе за его написанием, точнее, я записывала строки и вычеркивала их, если они не подходили по размеру или не рифмовались, а Руди генерировал идеи. Это было первое написанное мною в соавторстве порнографическое стихотворение; разумеется, я не знала, что оно порнографическое, пока Руди не объяснил мне всей игры слов и двусмысленности. «На ветви извергается весна» – такова была последняя строчка. Это значило, что весна эякулирует на деревья зеленой листвой; распустившиеся крокусы стоят колом, потому что возбуждены. Я была всем этим шокирована. Будучи девственницей, я не совсем понимала, как устроен секс. И вдруг кто-то включил все это в стихотворение – жанр, который я приберегала для самых глубоких и возвышенных чувств! Сейчас я спрашиваю себя: в какой мере дерзость Руди была завуалированным флиртом со мной, столь увлеченной словами и их значениями? Не могу сказать; как отмечала ранее, я еще не разобралась в некоторых общепринятых стратегиях. Но я наверстывала упущенное.
Завершение всех тех ночей по выходным мне вспоминается как долгое прощание. Начиналось с того, что я смотрела на часы – полночь, час, полвторого – и говорила: «Ну, мне пора спать». Руди соглашался: «Мне тоже», но при этом не двигался с места в изножье моей кровати и сидел рядом со столом, за которым я писала. Напомню, это была крохотная комната в общежитии. Вставая открыть шкаф, приходилось преодолевать стол, чтобы не свалиться на кровать. «Мне тоже». Он иронически улыбался, отчего я всегда чувствовала себя глупой. В конце концов я просто выпаливала: «Руди, тебе пора». Он не говорил ни да ни нет, не извинялся, что засиделся так долго. Он просто смотрел на меня своими томными глазами и держался так, будто не готовился уйти, а, наоборот, только что пришел с холода, чтобы заняться сексом со своей любовницей. Мы стояли на пороге. Потом он наклонялся и целовал меня за ухом на прощание.
Во время одной из таких затяжных прощальных сцен я узнала, как он получил свое витиеватое имя. В Германии у него был сварливый дедушка, которого он не застал в живых и который оставил своему нерожденному внуку трастовый фонд при условии, что мальчика назовут его именем.
– А если бы ты родился девочкой? – спросила я.
– Тогда я не смог бы так весело проводить время, – отозвался Руди. В ту пору его поцелуи уже мигрировали из-за моего уха на мою шею. Я вздрагивала, когда он перед уходом надевал на меня это ожерелье из поцелуев.
На следующем семинаре никто даже не понял, о чем идет речь в моем сублимированном любовном сонете, зато сонет Руди произвел фурор. Внезапно мне показалось, что мир полон не только студентов-филологов, но и людей, обладавших куда большим опытом, чем у меня. Я в сотый раз прокляла свои иммигрантские корни. Если бы я только родилась в Коннектикуте или Вирджинии, я бы тоже понимала эти всеобщие подтрунивания над последними двумя цифрами тысяча девятьсот шестьдесят девятого года; я бы тоже занималась сексом и курила травку; у меня тоже были бы загорелые родители, которые брали бы меня кататься на лыжах в Колорадо на рождественских каникулах, и я бы щеголяла фразочками вроде «ни хрена себе», не чувствуя, что кому-то подражаю.
Той весной мы с Руди встречались уже на регулярной основе. Помимо занятий, мы всегда вместе ели, а по выходным он звал меня на вечеринки в свое общежитие. Это здание располагалось рядом с моим корпусом, и их соединяла подземная комната отдыха, которая в выходные наполнялась добродушными, приличными вечеринками, проходившими под неусыпным присмотром охраны. Настоящие тусовки устраивались в общежитии у ребят. Обычно парни переходили из комнаты в комнату, покуривали травку, много пили. Мерцали свечи, благовония зажигались в безуспешных попытках перебить едкий запах травки. Из колонок неслись The Beatles, Боб Дилан или The Mamas & the Papas[35]35
The Mamas & the Papas – американский музыкальный коллектив 1960-х годов, просуществовавший около трех лет и создавший за это время несколько хитов, таких как California Dreamin’.
[Закрыть]. До сих пор мой опыт свиданий ограничивался невинными сборищами и посиделками в приемной с мальчиками из подготовительной школы, и здешняя атмосфера казалась мне декадентской. Я приходила к Руди, но выпивала только пару глотков из бумажных стаканчиков, которые он мне предлагал, и не смела прикасаться к наркотикам. Я боялась не столько того, что они сделают с моим мозгом, сколько того, что Руди может сотворить с моим телом, пока я буду под кайфом.
Он высмеивал мои страхи. Прежде всего, говорил он, без моего согласия он ничего не сделает.
– А как же изнасилование? – спрашивала я, не будучи окончательной невеждой.
– Господи боже, – возмущался он, качая головой и поражаясь, как его угораздило со мной связаться. – Мне на фиг сдалось тебя насиловать!
Я обижалась. Со мной никогда еще так не разговаривали. Если бы мой отец услышал, что какой-то мужчина употребляет при его дочери такие выражения, он бы пригласил его выйти и вступился бы за мою честь. Конечно, потом мне пришлось бы долго объясняться, что я забыла в полночь с субботы на воскресенье в мужском общежитии с сигаретой в одной руке и одноразовым стаканчиком дешевого вина в другой.
Проведя какое-то время у его приятелей, где сидели парни со своими девушками, мы с Руди плавно перемещались к нему в комнату. Его кровать представляла собой матрас на полу, накрытый американским флагом вместо покрывала, что даже мне, иностранке, казалось ужасным неуважением. Мы ложились под него бок о бок, обнимались и целовались. Рука Руди разведывала территорию под моей блузкой. Но если он спускался ниже, я отстранялась.
– Нет, – говорила я, – не надо.
– Почему нет? – спрашивал он иногда игриво, а иногда раздраженно, в зависимости от того, что выпил, выкурил или принял.
Мои ответы тоже зависели от разных сиюминутных заскоков. Этим словом Руди называл мои отказы – заскоки. Главным образом я боялась, что забеременею.
– Оттого что я тебя полапаю? – с сарказмом спрашивал Руди.
– Ох, Руди, – умоляла я, – не называй это так.
– Что значит «не называй это так»? Лопата есть лопата. Здесь тебе не чертов урок поэзии.
Возможно, если бы Руди вел себя так, словно любовные ласки – это своего рода поэтический семинар, мы гораздо быстрее приблизились бы к желаемому им исходу. Но в постели у него не было ни малейшего чувства подтекста. Его лексикон отталкивал меня, даже когда я начинала ощущать телесное удовольствие. Если бы Руди сказал: «Милая леди, лягте поперек моей большой мягкой кровати и позвольте мне коснуться вашего драгоценного, восхитительного тела», я, может быть, и разрешила бы ему себя полапать. Но мне не хотелось, чтобы в мой первый раз с мужчиной меня «имели», «драли», «жарили», «натягивали» и «трахали».
Вначале у Руди был вагон терпения. Видимо, когда ему пришлось объяснять мне столько отсылок в своем сонете, он понял, что я, по его выражению, ни шиша не знаю. Для меня «вагина», «шейка матки», «яичники» были синонимами. Он знакомил меня с женской анатомией посредством схем; рисовал маленькое яичко, спускавшееся по песочным часам в липкий кармашек матки. Он вычислял, когда у меня в последний раз была менструация, когда, по всей вероятности, наступит овуляция, приходится ли та или иная ночь на безопасное время месяца.
– Ты не забеременеешь, – все его уроки кончались одним и тем же выводом. Но я все равно не хотела с ним спать.
– Почему? Что с тобой не так, ты фригидная, что ли?
Так у меня появился новый повод для переживаний. Не успела я перестать волноваться о том, что забеременею от обжиманий или буду проклята Богом, если умру в самый ответственный момент, как меня стал тревожить вопрос, не повредило ли мое воспитание какие-то жизненно важные нервы.
– Просто я еще не готова, – говорила я.
– Господи, мы с тобой гуляем уже месяц, – возмущался Руди. – Когда ты будешь готова?
– Скоро, – обещала я, словно знала наверняка.
Но «скоро» не произошло достаточно скоро. Мы продвинулись до стадии, когда я оставалась на ночь и просыпалась рано утром, не смея шевельнуться от страха, что разбужу Руди в возбужденном состоянии и буду вынуждена спозаранку объяснять ему, почему не сейчас. Я обводила взглядом комнату, такую же маленькую, как моя. Рядом с его кроватью виднелся блокнот с рисунками песочных часов. Я дотрагивалась до живота, чтобы убедиться, что все еще нетронута. На шлакобетонную стену напротив кровати Руди повесил пробковую доску. На ней были вымпелы его лыжных команд и фотографии семьи, в полном составе выстроившейся на лыжах на вершине горы. Его родители выглядели молодо и непринужденно, будто одноклассники, в то время как я продолжала стесняться своих старомодных родителей, когда те приезжали на родительские выходные: отца с густыми усами, в костюме-тройке и фетровой шляпе, матери в одном из нарядов, купленных специально, чтобы приезжать к нам в школу, – каждый предмет одежды, от кожаной сумочки до туфель-лодочек, чрезмерно сочетался друг с другом, а по возвращении домой отправлялся в полиэтиленовые пакеты в шкафу. Я восхищалась его моложавыми родителями. Неудивительно, что у Руди не было заскоков, неудивительно, что школьные прыщи не вселили в него неуверенность в себе, а собственное имя ничуть не смущало. Они, его родители, поощряли сына набираться опыта с девушками, но призывали быть осторожным. Он рассказал им, что встречается с «испанской девушкой». По его словам, они считали, что ему полезно общаться с людьми других культур. Меня беспокоило, что они относятся ко мне как к уроку культурологии для своего отпрыска. Но в то время мне не хватало лексикона, чтобы объяснить даже себе самой, что именно так раздражало меня в их высказывании.
Я видела их всего один раз, перед весенними каникулами и по иронии судьбы в самом конце моих отношений с Руди. Случилось так, что в ночь перед началом каникул между мной и Руди произошел очередной поединок у него в постели. Руди включил свет и сел на матрасе спиной к стене. Он был голый, а я в своей старой фланелевой ночной сорочке с длинными рукавами, которую Руди называл платьем монашки. В свете луны и фонарей, проникающем в окно, я видела его прекрасно очерченное тело. Я хотела его, но помимо тела мне нужно было то, чего, как я, должно быть, чувствовала, Руди никогда не смог бы мне не дать. Он сказал, что устал от неудовлетворенности. Я была жестока. Я не понимала, что, в отличие от девушек, парням физически больно не заниматься сексом. Он считал, что пора расходиться. Я плакала и умоляла: прежде чем заняться любовью, я хотела почувствовать, что у нас все серьезно.
– Серьезно!.. – скривился он. – А как же удовольствие? Удовольствие – понимаешь, о чем я?
Я не могла взять в толк, какое отношение это имеет к такому знаменательному срыву покрова.
– Стало быть, ты не считаешь, что секс – это приятно? – Руди уставился на меня так, словно наконец узрел корень проблемы.
– Само собой, – соврала я. – Это приятно, если происходит в свой час.
Он покачал головой. Он видел меня насквозь.
– Знаешь, – сказал он, – я думал, что раз ты испанка и все такое, то будешь темпераментной, что, несмотря на всю эту католическую чушь, на самом деле окажешься свободной, а не закомплексованной, как эти котильонные цыпочки из подготовительных школ. Но, господи, ты хуже гребаных пуританок.
Я была уязвлена до глубины души. Я встала, набросила пальто поверх сорочки, собрала свою одежду и вышла из комнаты, втайне надеясь, что он догонит меня и скажет, что на самом деле любит и будет ждать столько, сколько потребуется.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































