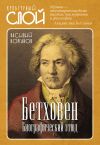Автор книги: И. Давыдов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Кроме пятой и шестой симфоний к этому же времени относятся: трио, посвященное графине Марии Эрдеди, которую он называл своим “духовником”, струнный квартет, соната для фортепиано (Sonate caracteristique: les adieux, l'absence et le retour[7]7
Характерная соната: прощание, отсутствие и возвращение (фр.)
[Закрыть], пятый фортепианный концерт (последние два сочинения посвящены ученику Бетховена, эрцгерцогу Рудольфу) и так далее, а несколько позднее появилась музыка к “Эгмонту” Гете. Если принять во внимание качество, количество, разнообразие, величину и оригинальность относящихся к этому периоду сочинений, то творческая мощь Бетховена покажется невообразимой.
Между тем материальное положение Бетховена внезапно изменилось и сделалось более прочным. Он получил предложение занять место придворного капельмейстера у короля Вестфальского Жерома Бонапарта. Бетховен почти совершенно уже согласился, но его покровители не могли допустить этого. Трое из них: эрцгерцог Рудольф (ученик Бетховена) и князья Лобковиц и Кинский – назначили ему пожизненную ренту в восемь тысяч гульденов, под условием, чтобы он не покидал Вены.
Это обстоятельство повлияло благотворно на настроение композитора, и он стал чаще показываться в обществе. К этому времени относятся несколько новых знакомств: с семейством Мальфати, с красавицей Беттиной Брентано и с другими. Упрочив свое материальное положение, Бетховен стал все сильнее и сильнее мечтать о семейном счастье и даже сделал предложение Терезе Мальфати, про которую говорил, что “хотя она ветреница и смотрит на жизнь легко, но чутка ко всему хорошему и прекрасному и обладает хорошим музыкальным талантом”.
Трогательно видеть нежную, безграничную любовь сорокалетнего, покрытого славой художника к молодой, прекрасной Терезе; он беспрестанно о ней вспоминает, посылает ей свои произведения, а также сочинения Гете и Шекспира, и везде, где может, оказывает ей внимание; даже маленькая собачка Терезы пользуется его особым покровительством и однажды удостаивается чести ужинать вдвоем с Бетховеном и провести ночь в его комнате. Он сам чувствовал некоторую ненормальность своих отношений к Терезе, когда писал Цмескалю: “Не напоминает ли вам мое настоящее положение Геркулеса у Омфалы? Не называйте меня никогда больше великим человеком, – я никогда не чувствовал так ясно всю силу – или слабость – человеческой природы, как теперь!”
Тем не менее отказ Терезы произвел на него очень сильное впечатление.
“Итак, я опять, – пишет он, – должен искать точку опоры в самом себе; извне для меня нет ничего. Нет, ничего, кроме ран, не давала мне дружба и подобные ей чувства. Да будет так. Для тебя, бедный Бетховен, нет внешнего счастья, ты должен все сам себе создавать, и только в твоем идеальном мире найдешь ты радость”.
Но несмотря на это, отношения с семьею Мальфати и с самой Терезой (впоследствии баронессой Дросдик) остались наилучшими. С братом Терезы, доктором Мальфати, Бетховен одно время был очень дружен; но Мальфати по самостоятельности взглядов и упрямству не уступал великому композитору, и они скоро поссорились “на всю жизнь”; примирение состоялось за несколько дней до смерти Бетховена.
Несмотря на все эти житейские треволнения, Бетховен продолжал усердно работать, как он выражался, “больше для смерти, чем для бессмертия”. Вскоре появилась седьмая симфония ор. 92, навеянная наступившими политическими событиями, тем подъемом народного духа, который выразился во всеобщем движении против непомерных завоевательных стремлений Наполеона. Конский топот, развевающиеся знамена, звуки труб – бодрое проявление сил того времени – натолкнули Бетховена на идею живописной картины, изображенной в седьмой симфонии.
Последовавшее вскоре за этой симфонией сочинение, “Quartette serioso”, характеризирует личное душевное состояние Бетховена. Глухой гром символизирует его страшную внутреннюю работу, но в финале дух его парит высоко над всей “суетой земною”. К этому же времени относится героическое, исполненное силы и порыва трио ор. 97, вторая часть которого полна особой внутренней жизни. Но все же личные невзгоды, по-видимому, не прошли бесследно для Бетховена, так как кроме названных сочинений за эти годы было написано сравнительно очень мало.
Немаловажное значение имела для Бетховена встреча с Беттиной Брентано, так как она повела к личному знакомству его с Гете, с которым Беттина была очень дружна. Беттина рассказывает, что, не будучи знакома с Бетховеном, она в один чудный майский день прямо пришла к нему и застала его перед фортепиано, за исполнением только что оконченной песни Миньоны, которую он ей сейчас же спел резким, крикливым голосом, но с глубоким чувством. Красавица так сумела очаровать увлекающегося композитора, что с этого времени они виделись ежедневно. Беттина в восторженном письме описала Гете впечатление, произведенное на нее Бетховеном.
“Он чувствует себя, – пишет она между прочим, – основателем нового духовного мира; он свободно творит неслыханное, чудесное. Что ему внешний мир, ему, который с восходом солнца за своим святым трудом?.. О Гете, ни у какого царя или короля нет такого сознания своей силы и мощи, как у этого Бетховена!”
Гете, в высшей степени заинтересованный, выразил желание увидеть Бетховена у себя в Теплице, где он проводил лето. В 1812 году произошло свидание великого композитора с “величайшим народным сокровищем”, как Бетховен называл Гете. Но оба великих человека, столь противоположные во взглядах, не могли понять друг друга и расстались совершенно разочарованными. Бетховен говорил, что он “вместо царя поэтов нашел поэта царей”; а Гете писал Цельтеру:
“Я познакомился с Бетховеном. Его талант меня изумил. Но, к сожалению, это совершенно необузданная личность; хотя он вправе находить ненавистным весь мир, но этим он нисколько не делает его более приятным ни для себя, ни для других. Его можно извинить и пожалеть, так как он глохнет. Он, и без того по природе лаконичный, делается вследствие этого несчастья вдвое молчаливее”.
Но лето, проведенное в Теплице, куда в то время съехались многие коронованные особы и где кипела деятельная жизнь, не прошло для Бетховена бесследно. Здесь он создал свою известную восьмую симфонию, в которой веет какой-то новый благотворный дух.
В Теплице он встретил Амалию Зебальд, молодую женщину, к которой уже раньше чувствовал самую нежную привязанность, и мечта о семейном счастье снова охватила его. Но это была последняя мечта Бетховена. Он скоро всецело погрузился в свой мир, мир звуков, где ему предстояло еще совершить свой величайший подвиг.
“Покорность, беззаветная покорность судьбе: ты не должен более жить для себя – только для других; для тебя нет более счастья, как только в тебе самом, в твоем искусстве. О Боже, дай мне силы победить себя, меня ведь ничто теперь не должно привязывать к жизни”.
Этими словами своего дневника (1812 год) он посвящает себя на служение, как он сам выражался, “Всемогущему, Вечному, Бесконечному”.
Глава VI. “Missa solemnis” и Девятая симфония. Последние квартеты
Материальные затруднения и семейные невзгоды. – Мельцель. – “Победа Веллингтона”. – Возобновление “Фиделио”. – “Славное мгновение”. – “Сын”. – Настроение. – “Missa solemnis”. – Девятая симфония. – Адрес. – “Академия” 7 мая 1824 года. – Разочарование. – Князь Голицын. – Квартеты. – Неприятности с племянником и семьей. – Поездка к брату. – Последние дни и смерть
Сравнительное материальное благополучие Бетховена продолжалось недолго. Государственное банкротство Австрии уронило цену денег до одной пятой номинальной стоимости, так что доходы композитора значительно уменьшились. К тому же князь Кинский внезапно умер, а его наследники после долгих пререканий согласились выплачивать Бетховену сумму, гораздо меньшую назначенной ему князем. Князь Лобковиц, вследствие своей неудержимой страсти к музыке, вскоре совершенно разорился. К этому присоединились разные домашние невзгоды, вызванные полнейшим пренебрежением Бетховена ко всему, что касалось его внешней жизни. Прислуга, пользуясь этим, обкрадывала и обманывала хозяина, и его несложное хозяйство пришло в неописуемый беспорядок. В довершение несчастья у брата его Карла, который был женат на женщине не особенно строгого поведения, появились признаки чахотки. Хотя брак Карла сильно раздражал Бетховена, но его нежное сердце смягчилось сразу, когда брат заболел, и он оказывал ему всяческое внимание и постоянную материальную поддержку. Все вместе делало его жизнь очень тяжелой.
Заботы о “хлебе насущном” свели Бетховена с механиком Мельцелем, известным изобретателем метронома и популярного в то время инструмента, названного им “пангармоникон”. Мельцель предложил Бетховену написать для этого пангармоникона симфонию, взяв темой последнее возбудившее всеобщее внимание политическое событие – победу Веллингтона при Виттории. Вскоре Бетховен, по совету Мельцеля, переложил эту симфонию для большого оркестра (ор. 91), и она была исполнена в большом концерте “в пользу воинов, раненных в битве при Ганау”. В концерте, под управлением Бетховена, принимали участие в качестве оркестровых исполнителей многие выдающиеся музыканты: Сальери, Мошелес, Гуммель, Шупанциг, Ромберг, Мейербер и другие. И странная ирония судьбы – сочинение, которое Бетховен сам называл “глупостью”, произвело фурор, сразу сделав автора популярным в Бене.
Это обстоятельство побудило дирекцию театра возобновить “Фиделио”. Бетховен снова с любовью принялся за переработку своего дорогого детища. Как ему еще близка и дорога была эта опера, видно из следующего рассказа директора театра Трейчке, который взялся переделать либретто.
“Бетховен однажды пришел ко мне вечером, – рассказывает Трейчке. – Я передал ему переделку арии Флорестана. Он схватил лист, стал бегать по комнате, бормоча и ворча что-то. Наконец он сел за фортепиано. Жена моя не раз напрасно просила его импровизировать; сегодня он положил текст перед собою и начал играть волшебные мелодии. Часы проходили, Бетховен все фантазировал. Подали ужин, но он ничего не замечал. Поздно ночью он вскочил, обнял меня и исчез. На другой день ария была готова”.
Тогда опера получила тот вид, в котором она дается теперь, причем была сочинена новая увертюра (E-dur).
“Уверяю вас, что моей оперой я заслужил мученический венец”, – писал Бетховен Трейчке. В новой обработке опера имела огромный успех. Бетховен с этих пор сделался одним из известнейших людей в Вене.
Вскоре состоялась та достопримечательная “академия”, в которой Бетховен выступил с новым своим сочинением – кантатой “Славное мгновение” – перед партером коронованных лиц, съехавшихся в Вену на конгресс в 1814 году. Несколько тысяч человек наполнили залу; благоговейная тишина придавала всему характер церковного праздника. Но иногда взрыв неудержимого восторга заглушал исполнение. “Я совершенно изнемог от хлопот, неудач и радости – и все это сразу”, – пишет Бетховен эрцгерцогу Рудольфу.
Слава Бетховена достигла в это время высших пределов. У графа Разумовского он был представлен всем присутствовавшим в Вене монархам и пользовался их особым вниманием. Он получил много ценных подарков и особенно был тронут “великодушным подарком русской императрицы”.
К этому времени относятся, между прочим, следующие его сочинения: фортепианная соната ор. 90, посвященная графу Лихновскому и названная самим автором “борьбой рассудка с сердцем”; фортепианная соната ор. 101, полная задушевнейшей поэзии; кантата “Морская тишь и счастливое плаванье” и виолончельные сонаты. Первая из этих виолончельных сонат названа Бетховеном “свободной сонатой”, и действительно она указывает на начало того полного преобладания духовного содержания над внешней формой, которое характеризирует последующее творчество композитора. Адажио второй сонаты, с его хоралообразной темой, ясно выражает делающуюся все сильнее и сильнее религиозную направленность автора, которая проявляется и в многочисленных заметках его дневника. Слава Бетховена скоро померкла, и жизнь снова окружила его непроницаемым мраком, мешая ему даже работать. Второй брат Бетховена последовал примеру Карла и женился на женщине, известной своим легким поведением, что породило много неприятных и тяжелых сцен между ним и его высоконравственным старшим братом, кончившихся совершенным разрывом. Но скоро Бетховену суждено было перенести еще большее испытание, имевшее влияние на всю его последующую жизнь. Карл Бетховен умер и в завещании назначил Людвига опекуном сына, воспитание которого не решался доверить своей пользовавшейся дурной славой жене. Бесконечные тяжбы по этому поводу с матерью племянника, которую Бетховен называл “королевой ночи”, наполняют последующие годы процессами и всевозможными неприятностями.
“Боже, помоги, – восклицает он, – я оставлен всеми! О жестокая судьба, о неумолимый рок, мое ужасное состояние никогда, никогда не кончится! Нет другого спасения, как бежать отсюда, только таким образом ты вернешься снова на вершину твоего искусства, здесь же ты погрязнешь в пошлости. Еще одну симфонию, и затем бежать, бежать, бежать. О Ты, которому нет имени, услышь, услышь меня, Твоего несчастного, несчастнейшего смертного”.
Это настроение выразилось в сонате (ор. 106). В первой части ее Бетховен на “вершине своего искусства”; в адажио слышится его воззвание к Божеству.
Когда наконец после долгой и упорной борьбы композитор сделался единственным опекуном племянника, в нем внезапно проснулась вся его врожденная, неудовлетворенная нежность. В нем началась новая, мирная внутренняя жизнь: он всей душой отдался “сыну”, как он называл племянника, и его собственная личная жизнь точно совершенно исчезла.
“Все, что есть жизнь, да будет посвящено великому и пусть будет святилищем искусства! – пишет он в дневнике. – Это твоя обязанность перед людьми и перед Ним, Всемогущим. Только так ты еще раз можешь явить то, что скрыто в тебе. Маленькая часовня, – моя песнь, сочиненная в ней и в ней исполненная во славу Всемогущего, Вечного, Бесконечного, – пусть так протекут мои последние дни...”
Здоровье Бетховена пошатнулось, мысль о смерти стала приходить ему в голову; но дух его работал неустанно. “Плох тот человек, который не умеет умереть, – говорит он. – Конечно, для искусства я еще очень мало сделал”, и на замечание, что едва ли можно сделать больше, прибавляет, точно про себя: “У меня совсем новые замыслы!” Бетховен “замышлял” тогда свою девятую симфонию, но предварительно отдался работе, которая более соответствовала состоянию его духа.
Он решился написать для своего ученика, эрцгерцога Рудольфа, по поводу праздника посвящения его в архиепископы в Ольмюце, торжественную обедню. Это была та “песня”, которую он хотел писать для “маленькой часовни во славу Всемогущего”: эрцгерцог собирался сделать Бетховена своим капельмейстером в Ольмюце. Бетховен с жаром принялся за работу, требовавшую большого напряжения сил: ему приходилось бороться с установившейся формой, а главное, с текстом, который, с одной стороны, вмещал великие мысли, с другой – мешал свободному полету творческой фантазии. Через четыре года страшного труда возникла эта “Missa solemnis”[8]8
“Торжественная месса” (лат.)
[Закрыть] (op. 123), по выражению Бетховена, его “совершеннейшее произведение”, – конечно, подобно “Фиделио”, совершеннейшее в смысле тех усилий и того напряжения, которых оно ему стоило.
Все время, пока Бетховен творил это колоссальное произведение, он находился в состоянии какого-то особого экстаза, полнейшей отчужденности от всего земного. Он иногда подолгу неподвижно лежал под деревом, глядя в небо. “Нравственный закон в нас и звездное небо над нами!” – пишет он в одной из тех тетрадей, к которым приходилось теперь, при усилившейся глухоте его, прибегать для разговоров с ним. “С самого начала работы все существо его точно преобразилось, – замечает друг его Шиндлер, – он казался совсем сумасшедшим, когда писал фугу и “Benedictus”. И эта фуга – “Et vitam venturi” (“И жизни будущего века”) – является высшей точкой произведения: представление о вечности бытия было одним из глубочайших верований Бетховена. В “Benedictus” (“Благословен грядый во имя Господне”) он как бы ясно видит спускающуюся сверху благодать, дающую животворную помощь и подкрепление.
“Когда я вспоминаю его тогдашнее состояние величайшего возбуждения, – пишет Шиндлер, – я должен сознаться, что никогда: ни до, ни после того времени, – не замечал у него ничего подобного”. Шиндлер вместе с другими приятелями посетил однажды Бетховена в Бадене, где он любил жить и сочинять, блуждая целые дни по лесам. Приятели пришли к нему около четырех часов дня и уже у двери услыхали, что он занят своей фугой. Бетховен пел, выл, топал ногами. Они долго слушали эту “почти невыносимую музыку”, как вдруг дверь отворилась и на пороге появился Бетховен с совершенно искаженным лицом. Он имел такой вид, как будто только что выдержал борьбу не на жизнь, а на смерть. “Вот так хозяйство, – воскликнул он, – все разбежались, а я со вчерашнего дня ничего не ел!” Он проработал накануне до полуночи, обед остался нетронутым, а прислуга его ушла из дому.
Вместе с возрастающим представлением о величине задачи работа принимала все большие и большие размеры. О завершении ее ко дню посвящения в архиепископы эрцгерцога Рудольфа не могло быть и речи. Бетховен отложил окончательную отделку этого произведения и занялся другими работами, частью для успокоения своей разбушевавшейся фантазии, частью же для получения средств к жизни для себя и возлюбленного “сына”. Это было тяжелое время. “Королева ночи” не унималась, и Бетховену приходилось оберегать от ее влияния мальчика, который, находясь между двумя совершенно противоположными течениями, потерял всякую почву под ногами и стал обманывать и мать, и дядю.
В этот период написаны вариации ор. 105, 106 и 120, последние фортепианные сонаты ор. 109 – 111 и некоторые другие сочинения.
В связи с “Торжественной мессой”, стоившей Бетховену такого напряженного труда, Шиндлер припоминает следующий трагикомический случай, характеризующий весь ужасный беспорядок бетховенского хозяйства того времени:
“По переезде весною в деревню Бетховен занялся приведением в порядок своих музыкальных работ. К величайшему ужасу, он заметил, что исчезла партитура первой части (“Kyrie”) его большой мессы. Все поиски оказались напрасными, и Бетховен был страшно подавлен этой труднозаменимой потерей. Но вот через несколько дней находится все “Kyrie”, но в каком виде! Огромные листы нотной бумаги, на которых она была написана, соблазнили старую кухарку Бетховена, и она воспользовалась ими, чтоб завернуть предназначенную для перевозки кухонную утварь, сапоги, башмаки и съестные припасы, причем почти все листы оказались изорванными. Когда Бетховен увидел это поношение своего произведения, он рассмеялся и поспешил высвободить листы из груды всего хлама, среди которого они покоились”.
Месса была окончена в 1823 году. “От сердца к сердцу” – стояло на партитуре. Но прежде чем ее закончить, Бетховен уже принялся за сочинение своей девятой симфонии для четырех солистов, хора и оркестра, с финалом на слова оды Шиллера “К радости”. После напряженной работы он сделался менее нелюдимым, стал посещать общество. Разные новые планы возникали в его голове, он мечтал о путешествии в Лондон, куда приглашало его уже неоднократно тамошнее “Филармоническое общество” (для которого он и писал свою девятую симфонию), носился с проектами новых опер, оратории. Фирма Брейткопфа и Гертеля предлагала ему написать музыку к “Фаусту” Гете. Рохлиц, передававший Бетховену это предложение, так описывает впечатление, произведенное на него композитором:
“Меня поразила не запущенная, почти одичалая внешность его, не густые беспорядочно торчащие волосы, но все существо этого глухого художника, дающего миллиону людей радость, одну чистую радость. При моем предложении он высоко поднял руку: “Да, из этого вышло бы кое-что! – воскликнул он. – Но я уже некоторое время ношусь с тремя большими произведениями, двумя большими симфониями, каждая в своем роде – обе совсем не похожи на прежние, – и ораторией. Мне жутко перед началом таких больших творений. Но раз я уже начал, то дело идет”.
Он в это время весь был погружен в девятую симфонию и оторвался от нее, только чтобы написать большую увертюру “На освящение театра”, в которой уже слышны широкие напевы и ритмы зарождающейся симфонии.
Идея написать “Фауста”, уже раньше занимавшая Бетховена, не оставляла его до самой смерти. Он говорил: “Я все-таки надеюсь наконец написать то, что представляется высшим для меня и искусства, – “Фауста”.
Бетховен был в то время в очень возбужденном состоянии – его имя все более и более забывалось в Вене, бросившейся навстречу новому направлению: “Фрейшюц” Вебера вызвал неслыханный энтузиазм, поклонение Россини в Вене дошло до высших пределов. Можно представить себе, как это должно было волновать Бетховена.
Один эпизод, относящийся к осени 1822 года, вводит нас в его полную тяжких испытаний жизнь. Знаменитая певица Вильгельмина Шредер (тогда еще очень молодая), ободренная выпавшим на ее долю громадным успехом в роли Памины (“Волшебная флейта” Моцарта) и Агаты (“Фрейшютц” Вебера), решила взять для своего бенефиса “Фиделио” и просила Бетховена дирижировать, на что он с радостью согласился. Но уже во время репетиции первой сцены стало ясно, что опера не может идти под его управлением. Не будучи в состоянии слышать певцов, он то ускорял, то замедлял темп, так что вскоре все разошлось. Пришлось остановить оркестр и начать снова: но сейчас же выяснилось, что так продолжать нельзя. Необходимо было опять остановиться. Бетховен беспокойно двигался на стуле, напряженно вглядываясь в лица окружающих, ища в них объяснения этих непонятных для него остановок. Но в театре царствовала глубокая тишина; никто не решался сказать ему роковую правду. Тогда, вне себя от волнения, он подозвал Шиндлера и протянул ему свою записную книжку и карандаш; взглянув на написанные Шиндлером несколько слов, он внезапно, одним прыжком, выскочил из оркестра и с криком: “Скорее вон отсюда!” – убежал, как был – без шляпы, домой. Там он упал на диван, закрыл лицо руками и оставался в таком положении долгое время. Ни одной жалобы, только все его существо выражало глубочайшую печаль. “Этот ноябрьский день, – говорит Шиндлер, – не имел себе подобного в продолжение всей жизни Бетховена. Какие бы неприятности ни случались, я прежде видел его только временно расстроенным, иногда подавленным; он, однако, скоро оправлялся, гордо поднимал голову, и дух его действовал бодро и решительно. Но от этого удара он не мог оправиться всю жизнь”.
Представление, под управлением капельмейстера Умлауфа, прошло великолепно, и опера имела большой успех.
Бетховен снова вернулся в свое одиночество и всецело погрузился в работу над симфонией. “Мы, смертные с бессмертным духом, – писал он графине Эрдеди, – рождены только для страданий и радостей, и можно сказать, что лучшие получают радость через страдание”. И действительно, вся его радость была “в страдании”, то есть в полнейшем отречении от своих личных стремлений и интересов.
Эту свою “мораль” он выражал во всех своих великих произведениях, но теперь, на вершине его деятельности и жизни, она приняла еще более глубокую, яркую форму. “Нет ничего более высокого, – восклицает он, – чем приблизиться к Божеству и оттуда распространять его лучи между людьми”. Эта идея служения человечеству и братьям перед “Всемогущим, Вечным, Бесконечным”, идея служения, основанного на высшей любви и самоотречении, составляет конечный результат всей его внутренней жизни и всей его деятельности. В этом – его вера. Он пытался уже высказать эту веру свою в “Торжественной мессе”; теперь она вылилась из глубины души в девятой симфонии. В ней он вновь пережил всю свою жизнь; теперь весь смысл ее открылся ему полно и ясно; и он нашел для выражения своей веры неслыханные звуки. Это та же борьба, о которой он нам уже не раз пел, – борьба с самим собою. Но это уже не личная борьба; здесь нет личных радостей, личного стремления, личного страдания: здесь живет и веет дух всего человечества. Слова бессильны описать эту борьбу: здесь такие удары, такой ропот, такая мольба, такое стремление и отчаяние, такой неудержимый подъем, которые кажутся просто нечеловеческими. И из этой ужасной борьбы “бессмертный дух” выходит несокрушимым (первая часть). И вот перед ним развертывается волшебно-заманчивая картина всей земной жизни: от наивной детской радости бытия до вакхического опьянения наслаждением (вторая часть). Но земная жизнь уже не существует для “бессмертного духа”. Его идеальное, высокое бытие изображено в третьей части. Он победил себя, он несокрушим. “Но разве это все, разве в этом жизнь?” – раздается раздирающий душу вопль среди оркестровой бури в начале последней части, и, в страшном смятении, в могучих речитативах “бессмертный дух” ищет ответа на свои роковые вопросы. Бетховен сам, в одной из черновых тетрадей, объясняет значение последней части симфонии, дает как бы текст к этим речитативам. “Нет, это смятение напоминает наше полное отчаяния состояние”, – пишет он под речитативом. Появляется тема первой части: “О нет, это не то, я жажду совсем иного!” Следует тема второй части: “И это не то, это только шутки и болтовня”; появляется тема адажио: “И это не то! Я сам буду петь вам”. И вот как бы из сокровеннейшей глубины поднимается эта тема радости, счастья и любви, которая бесконечно разрастается во всей своей чистой простоте. “Обнимаю вас, миллионы, – поет он, – этот поцелуй – всему миру”. И в этой братской любви человечество “чувствует Творца” и поднимает свои радостные взоры к общему “благому Отцу, живущему над звездами”. Оба эти момента сливаются воедино и торжественно заключают эту удивительную симфонию о “смертных с бессмертным духом”.
Симфония была готова в 1824 году. Немалого труда и сил стоила она ему. Во время работы Бетховен совсем одичал и совершенно перестал заботиться о своей внешности. Вот как описывают его современники: “Его седые волосы висели в беспорядке. Полы его незастегнутого сюртука (голубого с медными пуговицами) развевались по ветру так же, как и концы белого шейного платка, карманы его были страшно оттопырены и оттянуты, так как они вмещали в себя, кроме носового платка, записную книжку, толстую тетрадь для разговоров и слуховую трубку. Свою шляпу с огромными полями он носил несколько назад, чтобы лоб был открыт. (Впрочем, шляпу он беспрестанно терял.) Так он странствовал, немного подавшись туловищем вперед, высоко подняв голову, не обращая внимания на замечания и насмешки прохожих. Его “сын” неохотно сопровождал его, так как стыдился странного вида “отца”. Неудивительно, что чужие не всегда могли угадать, какой великий человек скрывается под такой необычной внешностью, и с ним нередко происходили довольно неприятные случаи. Так, однажды он заблудился и к вечеру, усталый и голодный, очутился где-то в пригороде Вены. Здесь он стал смотреть в окна съестных лавок, привлек своим видом внимание полицейского, принявшего его за нищего, и был арестован. На свое заявление: “Я – Бетховен!” – он получил ответ: “Как бы не так! Мошенник ты – больше ничего” – и был отведен в полицейское бюро, откуда его выручили друзья.
Но теперь, когда симфония была готова, его настроение сделалось веселее и он снова вышел на некоторое время из своей замкнутости, стал бегать по городу, заглядывая в окна магазинов (что он очень любил), стал снова общаться с друзьями, например с Брейнингом, с которым одно время был в ссоре. Таким образом, и о нем вспомнили, вспомнили о его минувшей славе; и когда узнали, что он написал новую симфонию, то поднесли ему адрес, подписанный лучшими и благороднейшими людьми. В этом адресе просили его познакомить Вену с новым произведением. Это очень взволновало Бетховена. “Я застал его с адресом в руках, – рассказывает Шиндлер, – он молча протянул мне его и, пока я читал, подошел к окну и стал смотреть, как неслись облака. “Это очень хорошо, это меня радует”, – произнес он взволнованным голосом, повернувшись ко мне. Затем прибавил порывисто: “Выйдем на воздух”. Во время прогулки он был очень молчалив, что было верным признаком его волнения”.
Приготовления к “академии” принесли массу хлопот и неприятностей и снова расстроили Бетховена. При этом он не совсем доверял себе и искренности выраженного в адресе желания. Дело затягивалось. Тогда три друга его – Лихновский, Шупанциг и Шиндлер – решили прибегнуть к маленькой хитрости и как бы случайно собрались у Бетховена, чтобы заставить его подписать с театром относительно “академии” договор. Хитрость удалась – договор был подписан. Но когда на другой день Бетховен угадал эту хитрость, он очень рассердился, и его друзья получили следующие записки:
“Графу Лихновскому. Обман я презираю. Не навещайте меня больше. “Академия” не состоится”.
“Г-ну Шупанцигу. Прошу не посещать меня. Я не даю “академии”.
“Г-ну Шиндлеру. Не приходите ко мне, пока я Вас не позову. “Академии” не будет”.
Немалые хлопоты с требовательным автором ожидали и исполнителей. Знаменитые певицы Генриетта Зонтаг и Каролина Унтер, исполнявшие соло в мессе и симфонии, тщетно старались во время спевки на дому у Бетховена добиться хоть малейших изменений в их страшно трудных партиях. На все их мольбы следовало решительное “нет”. “Ну, так будем мучиться дальше во славу Божию”, – закончила просьбы Зонтаг. Наконец все было улажено. В оркестре участвовали лучшие артисты с капельмейстером Умлауфом во главе. “Для Бетховена – все” – был общий голос. И вот 7 мая 1824 года состоялась эта замечательная “академия”, в программу которой вошли его последние произведения: увертюра ор. 124, “Missa solemnis” и девятая симфония. Бетховен дирижировал сам. Перед концертом верный Шиндлер зашел за ним.
“Мы сейчас все заберем, – пишет он в разговорной тетради, – и ваш зеленый сюртук мы возьмем с собою, вы можете дирижировать в нем. В театре очень темно, никто не заметит. О великий человек, у тебя нет даже черного сюртука. – Торопитесь и не рассуждайте так много, а то выйдет недоразумение”.
Театр был переполнен. “Я никогда в жизни, – пишет Шиндлер, – не был свидетелем такого беспредельного сердечного выражения восторга”. Во второй части симфонии энтузиазм дошел до такой степени, что гром рукоплесканий и крики публики заглушили оркестр, и музыка прекратилась. У исполнителей в глазах стояли слезы. Бетховен все продолжал дирижировать, пока капельмейстер Умлауф движением руки не обратил его внимание на то, что происходило в публике. Бетховен оглянулся и спокойно поклонился. После окончания повторились громкие выражения восторга, но Бетховен продолжал стоять, повернувшись спиной к публике, ничего не замечая. Тогда Каролина Унтер повернула его, подвела к авансцене и указала ему на публику, махавшую платками и шляпами; он поклонился. Это было сигналом к долго не смолкавшим крикам и буре рукоплесканий.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.