Текст книги "Те, кого знал. Ленинградские силуэты"
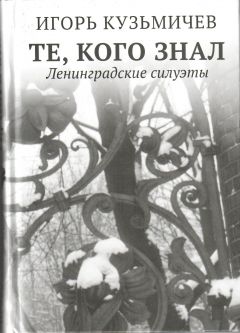
Автор книги: И. Кузьмичев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Еще на исходе лета повествователь из окна с беспокойством наблюдал: вокруг «что-то не то, что-то так, да не так» – в массе листьев появляется некоторая жесткость, как бы усталость, в кронах деревьев проступает желтизна, налицо «процесс деградации», и события разворачиваются «чем дале, тем стремительнее». Описание того, как повествователь, убаюканный «хоровым осенним сопровождением», подчиняется сливающемуся с этим сопровождением потоку сознания, предается «сугубо личным» мечтаниям и душевным порывам, – это единое в природе и человеке «состояние осени» исполнено автором мастерски. Повествователь воображает себя «малой каплей, несущейся в пространствах с поднебесья», или «бессонным деревом» в ночи под дождем, «с ветвями, стынущими на осеннем ветру, как, бывает, стынут мокрые пальцы на холоде»; зябкое ощущение остывания преследует его, и даже в редкие светлые дни он не в силах «заглушить тонкой тоски, где-то постоянно звучащей на дне души».
Буйный осенний ветер часами, сутками налетает на тополя, треплет и гнет их. Но какое упорное сопротивление они оказывают ветру! Повествователь, «сам до дна души захваченный происходящим борением», тоже «вроде бы гнется и стонет», шепчет что-то сквозь стиснутые зубы, «как бы помогая отчаянно сражающимся деревьям». И когда наступает листопад, «некая кульминация, максимум некий», когда «уже более не сдерживаемые великим усилием прорываются последние препоны», повествователь, стоя над каналом и глядя на плотный слой листвы, покрывающий водную гладь, задумывается над «тайной великой протекающей смены», над переходами в природе из одного состояния в другое, из умирания – к новой жизни.
Как бы ни были беспросветны будни поздней осени, в «кульминационной листопадной стихии» случаются и некие паузы, выпадают «несравненные весенние дни», вектор преображения, прежде обращенный вспять, к минувшему, меняется на противоположный, и сама осень словно признается: подспудно она «уже совсем готова к весне». В такие дни, подойдя к тополю, голому, без единого листика, повествователь видит, как ветви тополя упруги на ветру, как натянута их глянцевая кожица, «какими махровыми почками отягощены уже эти ветви», поглощенные «протекающей в них жизнью». В природе нет места последнему умиранию, – и душа повествователя ликует, и сердце его, «отягощенное опытом, уязвленное горестями», трепещет: «Против всяких логик, все еще на что-то надеясь, чего-то ища… хочет обрести крылья и улететь…»
Ветер за окном рождал в повествователе «веселое упорство», побуждал к сопротивлению разбушевавшимся вдруг «семейственно-магнетическим вихрям», вовлекавшим «слабую, неокрепшую душу в трепещущий, кипящий поток смятения, ужаса, беспредельного волнения». И как «прекрасно и жутко бывало, когда только вот слившаяся с внешней бурей и ураганом внутренняя житийная страшная буря» уносилась прочь под «вопли свободного дикого ветра», кружащегося где-то под холодным бездонным небом. В такие минуты повествователь готов был «и сам собою» умчаться вслед за ветром в «несущуюся воздушную стихию».
Ветер царил не только в воздушной стихии, с могучим ветром издавна связана поистине эмблемная примета городской природы – ежегодные непредсказуемые наводнения, иногда едва ощутимые, а временами катастрофические. Пронзительный «оглашенный» ветер сопутствовал возмущению стихии морской. В память повествователя чуть ли не с младенчества врезалась картина, когда он впервые увидел из окна, встав на цыпочки, «живую, колышащуюся эту воду тревожно набухающего канала» на мостовой, до того казавшейся незыблемой сушей; и четко запечатлелась та «новая внутренняя душевная ситуация», когда, так уж повелось в их семье, матушка близко к полуночи брала своих детей за руки и выходила с ними «вроде бы как дозором» на улицу посмотреть, как говорилось, на разгулявшуюся стихию.
Ощущение не испытанного дотоле риска переполняло тогда мальчишку, безрассудно желавшего «как можно большего прилива», да и окружавшие его на набережной люди уносили в душе «заговорщицкое разочарование», если наводнение быстро сходило на нет. Не удовлетворенное реальным зрелищем детское сознание разыгрывалось все более, при этом вспоминались и слышанные от взрослых предания о Всемирном потопе, и образы чудесной пушкинской поэмы… А у повествователя невольно возникали вопросы: почему человека так тянет прикоснуться к грозным стихиям? Откуда в нем это неотвратимое любопытство, этот риск на грани, «на краю бездны»? Или магия наводнения – все та же таинственная сила, когда-то увлекшая другого (а в общем, того же самого!) мальчишку в скитания по волнам Мирового океана? Таков уж, видно, человек от природы – из мира обыденного, земного его фатально влечет к себе мир вселенский, горний?
Неосознанное предощущение уготованного судьбой жизненного риска, будущих драм уже в детстве посетило базуновского повествователя. Уже тогда, пусть поначалу в мечтах и фантазиях, он уносился в неведомые дали с надеждой на полную, никем и ничем не стесняемую свободу. С возрастом такая устремленность в нем не только не ослабла, но окрепла, стала свойством его характера, оформилась как потребность духовная.
Все, что препятствует внутренней свободе, вызывает у повествователя резкий протест. Он недаром признается, что временами сходит на него «недобрый стих», одолевают горестные мысли о прокрустовом ложе его «жилища-узилища», ему не хватает воздуху и становится тесно в родном дому. В такие минуты ему, как в детстве, хочется – улететь!
В финале «Тополя» повествователь объясняет, что в таком его желании нет ничего фантастического, подходит к окну, «проникает на волю» и – летит над домами родных кварталов, над качающимися деревьями, над заливом, над темным морем, над чужими скалистыми берегами… И вдруг, словно очнувшись, душа его, «продрогшая на иноземном ветру», взывает: «Домой! Домой! Скорее домой!» Заветное стремление всегда и везде, чего бы то ни стоило, удерживать в себе чувство свободного полета, казалось бы, спорит с преданностью отчему дому. Но это спор мнимый. Жажда духовной свободы – свободы творческого выражения личности – не противоречит смирению, которое все сильнее овладевает душой базуновского «внутреннего человека».
Петербургский текст
Родной город, вынужденно нигде не названный по имени – Санкт-Петербург, – единственно возможное для базуновского «внутреннего человека» жизненное пространство. Повествователь в «Тополе» с младенческих лет чувствует себя, так сказать, индивидуальной ипостасью этого пространства, он словно растворяется в этом пространстве, все отчетливее и отчетливее осознавая свое с городом кровное родство. Более того, характер повествователя под стать характеру города, каким он складывался на протяжении долгой истории, сохраняя свою неповторимость, свою природность, вопреки неисчислимым социальным потрясениям.
«Этот город – не только социальное целое; он существует еще и сам по себе, подобно фактам природы или искусства, – писала в 1931 году Л. Я. Гинзбург. – Но в какой-то другой инстанции оказывается, что он своими плоскостями и широкими поворотами, водой, камнем, листвой – имеет близкое отношение к способности мыслить, к упрямству, к тому, как человек поднимает свою тяжесть, к движению судьбы, которую надо отжимать и отжимать, пока она не станет целесообразной».
У Санкт-Петербурга уникальная судьба, он наделен особенной, исторически сложившейся структурой, с ее знаковыми признаками – их вот уже несколько столетий запечатлевает в русской литературе Петербургский текст (понятие, разработанное академиком Владимиром Топоровым)[2]2
См.: Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст» русской литературы (Введение в тему) // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
[Закрыть]. Петербург «и его (или о нем) текст», отвечающий определенным критериям, принадлежит, по убеждению академика Топорова, «к числу тех сверхнасыщенных реальностей, которые немыслимы без стоящего за ними целого» и неотделимы от «всей сферы символического». «Как и всякий другой город, – пишет Топоров, – Петербург имеет свой „язык“. Он говорит нам своими улицами, площадями, водами, островами, садами, зданиями, памятниками, людьми, историей, идеями и может быть понят как своего рода гетерогенный текст, которому приписывается некий общий смысл и на основании которого может быть реконструирована определенная система знаков, реализуемая в тексте».
Начало Петербургскому тексту, согласно концепции Топорова, было положено на рубеже 20—30-х годов XIX века Пушкиным, текст этот имеет богатую историю и «некий резерв» на будущее, набор представленных в нем элементов относится к природной, материально-культурной, духовно-культурной и исторической сферам. Особую роль играет здесь структура, которую Топоров называет сакральной. Эта структура лежит «в основе Петербурга как результат синтеза природы и культуры». «Природа, противопоставленная культуре, – пишет Топоров, – не только входит в эту структуру (сам этот факт, обычно упускаемый из виду, весьма показателен), но и равноценна культуре. Таким образом, Петербург как великий город оказывается не результатом победы, полного торжества культуры над природой, а местом, где воплощается, разыгрывается, реализуется двоевластие природы и культуры… Этот природно-культурный кондоминиум не внешняя черта Петербурга, а сама его суть, нечто имманентно присущее ему».
Под этим углом зрения есть резон взглянуть и оценить базуновскую прозу, поскольку двоевластие природы и культуры, фигура горожанина-повествователя, осознающего их слиянность, сакральность их синтеза, – ключевые особенности этой прозы. Взглянуть, зная, что не все написанное в Петербурге, равно как написанное о нем где бы то ни было, можно отнести к Петербургскому тексту, и еще – помятуя о том, что Петербургский текст включает не только классические образцы, а предполагает снятие ограничений «на различие в жанрах, во времени создания, в авторах», при обязательной «некоей максималистской установке» на разгадку «некоей последней тайны, способной открыть высшие смыслы».
Одно из кардинальных свойств Петербургского текста – «пресуществление материальной реальности в духовные ценности», прорыв «к более высокой реальности, вводящей в действие новые энергии». Со времен Гоголя, напоминает Топоров, в Петербургском тексте за «поверхностно-материальной реальностью узревалось нечто сверхреальное». И Базунов ставит перед собой, собственно, ту же максималистскую задачу: проникнуть за внешний край жизни в поисках тех самых высших смыслов. Думаю, было уже нетрудно убедиться, сколь скрупулезно и дотошно способен Базунов изображать предметную реальность, не ради нее самой, а с намерением либо познать благотворное воздействие на человека «курьей сути», либо хоть на мгновение обернуться деревом, «влезши в шкуру тополя», либо «взглянуть на все очами воды», а глядя на раскинувшееся до самого горизонта море городских крыш, ощутить тайну «засасывающей безбрежности, тянущей к себе дали» – «слиться с великим и вечным».
Топоров обыгрывает «некоторые тонкости», знание которых становится иногда своего рода паролем к Петербургскому тексту. К ним он относит и «жанр прогулок», «прогулок-фантазий»; и соотношение горизонтали и вертикали в городском пространстве, когда вертикаль, организуя окрестное пространство, отрывает взгляд от земли и уводит его в пространство небесное, божественное; и мотив «весенней осени», ставший «некой сигнатурой Петербургского текста, как бы намечающей еще один критерий, по которому разные части этого текста перекликаются между собой». И конечно же, занимает свое место в Петербургском тексте море – точнее, «не само море, не только оно, а нечто… неизмеримо более широкое и глубокое, чем просто море, скорее – „морское“ как некая стихия и даже – уже и точнее – принцип этой стихии, присутствующий и в море и вне его, прежде всего в человеке…»
А в базуновской прозе? «Прогулки-фантазии» едва ли не превалируют над остальным текстом; духоподъемная роль вертикали (даже и заштатной заводской трубы перед окнами на канале) здесь более чем очевидна; в «Тополе» описание «несравненных весенних дней поздней осени» заставляет задуматься над «тайной великой протекающей смены» в природе; а море, морское как стихия служит и реальной, и символической ареной душевных переживаний и духовных метаний базуновского «внутреннего человека». Сам того не ведая, Базунов угадывает пароли Петербургского текста, и его проза проверку по признакам и критериям этого текста, вне всяких сомнений, выдерживает.
Не перечисляя всех соответствий и «тонкостей», нужно сказать о главном – о максималистской смысловой установке Петербургского текста: «самоопределении человека по отношению к истине, и значит, его бытийственном векторе». Самоопределение это предполагает «путь к нравственному спасению, к духовному возрождению, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной и добром». В Петербургском тексте со времен Достоевского, акцентирует Топоров, утвердилась «стихия безотчетного страха, носителем которой был сам город, точнее – нечто тайное, незримо в нем присутствующее», не тот страх, что вызывают «зрелище человеческого страдания», стихийные бедствия или социальные катаклизмы, а «страх как таковой, в его чистом виде». Ощущение такого иррационального страха ведомо и базуновскому «внутреннему человеку», даже если этот «большой» беспричинный страх прикрывается «малым» страхом: будь то страх человека, спускающегося в «свой ад» и терзаемого «самим собой звероподобным», или страх «морских снов», или страх перед отражением в хищных зеркалах…
Как уже говорилось, базуновского повествователя гнетет и страх тесноты его «жилища-узилища» – та самая теснота и скученность, которая в Петербургском тексте, по мнению Топорова, служит для выражения «некоторых метафизических реальностей». В противовес тесноте жажда полета наделяет человека ощущением простора, духовным дальновидением, чему на более глубоком внутреннем уровне соответствует «счастливый выход» – вера как «знак свершившегося прорыва в „космологическое“, почти совпадающее в данном случае с пространством свободы». «Жизнь в Боге» есть свобода, истина познается «в свободе и через свободу», со свободой связана тема о человеке и творчестве, – именно такая трактовка свободы (по Н. Бердяеву) была близка Олегу Базунову.
Принадлежность базуновской прозы Петербургскому тексту позволяет по достоинству оценить ее художественный потенциал и подтверждает специфическую актуальность духовных поисков писателя. Петербургский текст, что называется, берет Базунова под свое крыло и признает своим. Грозное провидческое звучание Петербургского текста невольно накладывается на базуновские страницы. «Петербургский текст – мощное полифоническое резонансное пространство, в вибрациях которого уже давно слышатся тревожные синкопы русской истории и леденящие душу „злые“ шумы времени. Значит, этот великий текст не только „напоминал“ о своем городе, а через него и обо всей России, но и предупреждал об опасности, и мы не можем не надеяться, по крайней мере, не предполагать, – резюмирует Топоров, – что у него есть еще спасительная функция, знамения которой были явлены уже не раз за последние без малого два века. Поэтому-то, вслушиваясь в эти вибрации, мы чаем услышать некую гармоническую ноту, в которой мы опознали бы намек на какой-то спасительный ресурс и наконец то сами сделали бы свой подлинный и благой выбор».
Чаял услышать эту гармоническую ноту и Олег Базунов. Не теряя спасительной надежды и стремясь донести звучание этой ноты до читателя.
Петербургский текст, по заключению академика Топорова, «еще и учителен», и в этом отношении базуновская проза, где исповедь сочетается с тактичной проповедью, этому тексту опять же соответствует. Учительство было присуще Базунову изначально, тому есть много доказательств, и без обращения к читателю ему было никак не обойтись. Ведя свои замысловатые монологи, базуновский повествователь, как бы далеко он ни уносился в своих фантазиях, никогда не забывает о праве «любезного читателя» на ясность авторского высказывания. Он постоянно просит у читателя прощения за сумбурность рассказа и прочие «неудобства». Извинительная, галантная манера общения, оформленная стилистическими приемами с характерными «старомодными» фигурами речи, манера воспитанного человека, не изменяет автору ни при каких изображаемых обстоятельствах.
И если в «Триптихе» изредка упоминаемый читатель, собственно, еще не воспринимается как некий адресат или предполагаемый собеседник – в «Триптихе» мелькает лишь читатель «критически настроенный», готовый придираться к автору по мелочам, – в «Мореплавателе» автор уже надеется установить с незнакомым адресатом контакт. Здесь уже появляется некое «вы», которое выглядит как приглашение читателю следовать за повествователем. Автор здесь обращается к «дорогому моему читателю» напрямую, задает ему вопросы, полагая, что тому со стороны виднее, и не требует немедленных ответов («Но не торопитесь с ответом!»). Автор старается придать своему монологу форму мысленного диалога, хочет почувствовать ответную реакцию адресата («Давайте же, уважаемый и любезный читатель, вместе с вами… спокойно обратим свои лица»; «Итак, мы с вами…») – и в итоге в повествовании появляется «испытанный мой читатель», тот заслуженный собеседник, о котором автор поначалу мог лишь мечтать.
В «Тополе» контакт автора с читателем-другом еще более крепнет. Мучительные вопросы автор теперь задает и себе и читателю. Они вместе готовы спорить с неким «непримиримым судьей» и «несчастными людьми», которые все подвергают сомнению и осмеянию, вместе готовы возражать «отчаявшемуся или злобному голосу» и «настроенному супротивно критику». Среди разноликих голосов автор все отчетливее слышит вселяющий в него уверенность голос «теперь, надеюсь, уже единочувствующих друзей моих». И когда в финале «Тополя» автор восклицает: «Оторви себя от опоры!.. И взлетай! Взлетай же! Ты легок, ты могуч…» – этот призыв он обращает и к самому себе, и к обретенному другу-читателю.
Читатель как персонаж, невидимый, портретно не зафиксированный – по сути, авторский двойник, – заслуживает повышенного внимания, однако когда в журнальных редакциях базуновские рукописи оценивали так называемые «внутренние рецензенты», они читателя-персонажа обычно не замечали, беспокоясь первым делом о читателе конкретном, благополучно здравствующем, и высказывали на сей счет самые разноречивые суждения.
Часть рецензентов принимали сторону читателя, недовольного тем, что рассказчик слишком занят собой. В. Непомнящий, например, рецензировавший для «Нового мира» рукопись «Мореплавателя» (1979), жаловался: «…я – читатель – не вижу в рукописи почти ничего, что было бы обращено, так сказать, лично ко мне, ничего, кроме этих деклараций писательского внимания…» Тем не менее он старался быть объективным в своих оценках и предупреждал: «Я не хочу сказать, что повествование вяло или лишено смысла, – нет, все, о чем говорит автор, его бесконечно волнует, это его глубины, и в этом смысле „Мореплаватель“ – глубоко лиричен и философичен, – но беда в том, что читатель-то не взволнован. Он, может быть, удивлен своеобразием и смелостью замысла, восхищен мастерством и слогом, заинтересован любопытными мыслями и неожиданными поворотами ассоциаций, – но он не заражен…»[3]3
Выражаю глубокую признательность Марианне Олеговне Базуновой за предоставленную возможность знакомиться с документами из ее семейного архива. Цитирование материалов специально не оговаривается.
[Закрыть]
А вот И. Соловьева, рецензировавшая для того же «Нового мира» рукопись «Мореплавателя» еще раньше (1974), рассматривала отношения автора с читателем иначе. «Олегу Базунову, – писала она, – удается прежде всего найти тон, ноту, ритм душевной жизни того лица, от имени которого ведется повествование, – эту особую общительность одинокого человека, который постоянно озабочен предполагаемым присутствием собеседника, дорожит его заинтересованностью и все время боится ее утратить… Сам строй фразы, все время словно уточняющейся на ходу, поправляющей самое себя, застенчиво и нервно следящей за тем, чтобы «быть в порядке», сам строй фразы выражает лад этой доверчивой и лишенной самоуверенности души, погруженной в себя и нуждающейся в понимании… Рассказчик из тех людей, которые словно конфузятся сказать что-либо окончательно и твердо. Некатегоричность сказанного, неокончательность, постоянная готовность признать, что на дело можно взглянуть иначе, – все это передано в долгих абзацах, разом стройных и зыбких, то и дело колеблемых сомнением в слове, однажды найденном и тут же заменяемым…»
Такую манеру способен воспринять только человек с близкой автору душевной организацией, может быть, потенциальный единомышленник. Для И. Соловьевой обратная связь между автором и читателем была в данном случае очевидной, поскольку автор обладал завидным даром «закреплять секунды душевной и телесной своей жизни и через это вдобавок возвращать нам – читателям – свежесть совсем иных и вроде бы утраченных наших воспоминаний о наших секундах». При этом И. Соловьева допускала: «Мореплаватель» – вещь «по своей природе не многотиражная», ее трудно себе представить напечатанной в журнале с полумиллионным тиражом, она «обращена к тысячам, а не миллионам. Это ее дар – интимность, но это и ее ограничивающая черта».
Самые честные рецензенты в советское время под давлением абсолютной гегемонии «широкого читателя» вынуждены были констатировать, что книги Базунова адресованы весьма узкому читательскому кругу, а в этом, уже по логике начальства, был их коренной недостаток. Меж тем «Мореплаватель», когда исторические обстоятельства изменились, в 1987 году «Новым миром», при тогдашнем тираже в 490 000 экземпляров, был все-таки напечатан.
У базуновской прозы, если угодно, несколько читательских уровней. Искусно, с дотошной достоверностью запечатленная предметная реальность, «магия окружающей нас жизни» отвечает тому первоначальному уровню, когда у читателя возникает непосредственная реакция на то или иное конкретное изображение. Когда автор, по словам Валерия Попова, «пробуждает в вас свои давно забытые ощущения прошлого» и тем самым поддерживает ваш интерес к прочитанному. Другой уровень – когда читатель в состоянии почувствовать и оценить разыгрывающуюся перед ним скрытую, но психологически столь убедительную человеческую драму. И следующий уровень – когда читателю в книгах Базунова открывались высшие смыслы реальности духовной.
Разумеется, выстраивание читателей по ранжиру – затея сомнительная. Андрей Битов, давний товарищ Базунова по литобъединению, как-то (1977) заметил: «Читатель у нас, как известно, самый. Во всех отношениях. Не дай бог его задеть или не воздать ему должное». Есть читатель хамящий, читатель льстящий, шумный читатель, «самовыражающийся в своем мнении», какой угодно еще; «но где-то там, в глубине, на задних сиденьях, – не сомневался А. Битов, – скромно мерцающий и возмущенный всеобщим непониманием, так и не высказывается ваш читатель, тот самый, сокровенный, понявший вас ровно в том смысле, в каком вы все это написали, не больше и не меньше, а – точно».
В семейном архиве Олега Базунова сохранилась пачка читательских писем, самых разных. Один читатель писал: «В Вашей прозе есть много такого, что приходилось испытывать многим, и есть недосказанность, которая заставляет людей думать, что, по-моему, очень важно». Другой был бесконечно благодарен автору: «Читал на едином дыхании, будто писалось с моей души. Спасибо большое. Вы пишете… раскованно по фантазии, правдиво по жизни. За человечность еще раз спасибо». Читатели суммировали: в книгах Базунова среди каменных стен, железных крыш, булыжных мостовых отыскивается живая душа природы, неистребимой, как сама жизнь; его проза обладает устойчиво выношенным моральным тонусом, она заставляет «самого себя вспоминать»; и человек, войдя в это состояние сопереживания, узнавания, радостного и горестного одновременно, получает противоядие от одиночества и отчаяния; в этой прозе есть свет и мужество, читая ее, чувствуешь надежду и опору.
Читатели, задетые за живое, бывали очень откровенны. «Спасибо Вам за оригинальную поучительную книгу („Тополь“. – И. К.). Она заставила меня пережить в известной мере потрясение, – писал из Новосибирска однофамилец Олега Евгений Петрович Базунов. – Дело в том, что жизнь моя – непрерывный марафон: увлечение одной научной проблемой сменяется другой, и живешь, по существу, не замечая того, что происходит вокруг, некогда остановиться, оглянуться и посмотреть в самого себя, и вдруг – Ваша книга, с совсем другим, чем у меня, мироощущением. Я к ней возвращаюсь вновь и вновь… Я жалею, что Ваша книга не была написана где-то 25 лет назад, и вот почему: после окончания университета я тяжело заболел и восемь месяцев пролежал в больнице без движения, потом учился ходить… выкарабкивался еще 4 года. Книга Ваша напомнила мне это время. Как она была нужна мне тогда, мне было бы легче, если бы она была тогда у меня! Думаю, что такое ведь не только у меня бывает…»
С автором этого письма, математиком и биологом, Олег переписывался несколько лет, их заочное знакомство переросло в доверительную дружбу «единодуховных людей». Письма Олега мне неизвестны, а, судя по ответам, они обсуждали самые кардинальные проблемы: загадочное единство живой и неживой природы, глубинные законы эволюции, то, что неживая природа закономерно и неизбежно эволюционирует к живой, а живая – к Разуму… В ответ на объяснения Олега Евгений Базунов сообщал, что не читал Упанишад и незнаком с концепциями веданты, благодарил за присланную книгу Тейяра де Шардена «Феномен человека», а в другой связи писал: «Вы знаете, художники (в общем смысле этого слова) часто правильно чувствуют законы реальности. Возьмите, например, гениального М. К. Чюрлениса. Вы, наверное, знаете его картины? В его „Сонате звезд“, „Rex“ и других картинах глубочайшее проникновение в суть жизни. Уму непостижимо, как ему удалось это, как он мог так точно, правильно, образно изобразить такие абстрактные понятия, как „покой“, „надежда“, „печаль“. Непостижимо, но это есть, значит, это возможно. По-моему, и Вы обладаете непостижимой уму способностью чувствовать, чувствовать правильно…»
Этот адресат, вне всяких сомнений, и был для Олега тем самым сокровенным читателем, которого имел в виду Андрей Битов. Впрочем, и другого заинтересованного базуновского читателя, в чьих научной компетенции и художественном вкусе едва ли кто усомнится, нельзя не назвать.
В мае 1972 года Олегу писал Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Мне очень понравилась Ваша проза, Ваша манера мыслить и писать. Я с большим интересом прочел „Мореплавателя“. Сперва мне показалось, что Вы следуете за Прустом, но потом я увидел – нет! Читал я с некоторой грустью, думая, что напечатать это будет очень и очень трудно, а пока невозможно…»
И в мае 1977 года: «Хорошо, что у Вас все свое. Шумного признания Вы не получите, но долгая жизнь Ваших произведений для немногих Вам обеспечена. У Вас будет прочное и долговременное место в русской литературе. Я ведь немного пророк. И если Вас поругают или не сразу заметят – плюйте… Пишите упорно и не торопясь. Вам не надо много писать, но оттачивайте каждую фразу…»
Олег же, посылая Дмитрию Сергеевичу свою первую книжку, заметно волновался: «Одно могу сказать, каждая встреча с Вами, как бы кратка она ни была (не кратких-то и не было), для меня большая духовная (другого слова не могу подобрать – да и нужно ли подбирать другое), духовная радость. Мне мил и приятен Ваш облик. Каждый раз после встречи с Вами я уношу тепло в душе, некую небоязливую робость, ощущение присущих Вам чистоты, тишины и достойной мягкой строгости, ощущение живой древней традиции. Вот, пожалуй, и сказалось то, что хотелось сказать. Когда и не ждал вовсе…»
Они оба безошибочно чувствовали, что их связывает нечто для них очень дорогое. Д. С. Лихачев, родившийся в 1906 году в доме на Английском проспекте, и Олег Базунов, родившийся совсем рядом на Адмиралтейском канале двадцать лет спустя, как свою собственную ощущали душу родного города, с его двоевластием природы и культуры, и поклонялись тем самым духовным традициям, что отразились в Петербургском тексте русской литературы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































