Текст книги "Дома не моего детства"
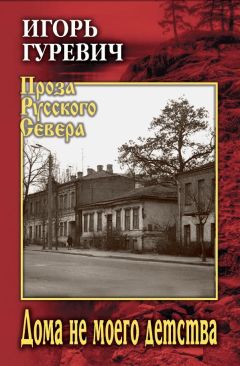
Автор книги: Игорь Гуревич
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Моисей Гуревич. сентябрь 1936 года (элул 5696 – тишрей 5697)
1
– Мойша, что ты молчишь?
– Я ем.
– Что ты ешь, Мойша?
– Еду.
– Какую? Ты хоть понимаешь, какую еду ты ешь?
– Рива, что ты от меня хочешь?
– Я хочу, чтобы ты сказал хоть слово о том, что ты ешь. Спасибо мне говорить уже не надо, но хотя бы что тебе было вкусно.
– Когда я ем, я глух и нем.
– Ты всегда глух и нем, Моисей Гуревич. Даже когда не ешь.
Ривка Гуревич периодически раздражалась, даже злилась на мужа. При всём своём благостном и покладистом характере, при всей своей поразительной сдержанности и способности молчать даже в самых, казалось бы, отчаянных обстоятельствах, её Мойша мог кого угодно довести до белого каления. Своим упрямством. «Упрямство Гуревичей» – так для себя определила Ривка, в девичестве Вольф, это семейное свойство, присущее всему выводку старой Гинды. С этим родовым упрямством она столкнулась ещё во времена женихачества с Мойшей. И хотя этот период длился совсем недолго, каких-то пару месяцев до того, как они встали с ним под хупой, она успела хорошо познакомиться с проявлениями его бычьего характера. Если Мойша почему-то говорил «нет», это было не обычное отнекивание, а гранитное «нет», как кусок той горы, которая никак не желала идти навстречу Магомету.
Ривка не была ортодоксальной и спокойно апеллировала к образам, как она называла, «соседних религий», что христианской, что мусульманской. «Все от одного Бога. Какая разница?» – говорила она, пожимая плечами, и вполне могла по случаю заглянуть в церковь, чтобы поставить свечку за здравие мужа и детей. Ривкины родители покинули этот мир, когда она только вступала во взрослую жизнь и была стройной девочкой со смоляной тяжёлой косой до самой талии. Она и сейчас ещё о-го-го, несмотря на двух детей: высокая, статная, с прямой спиной, благородным красивым лицом, на котором, будто спелые вишни, блестели карие глаза.
Такой во времена нэпа впервые и увидел её красавец-наймит Мойша на Бессарабском рынке, где он с двенадцати лет батрачил на семейство Новак, держащих мясные лавки по всему Киеву. Ривке на ту пору едва стукнуло двадцать. А Моисею перевалило за тридцать, и он был уже уважаемым рубщиком и колбасником, а легенды о его природной силе ходили далеко за пределами Бессарабки. Рассказывали о том, как он в одиночку на спине с места на место перетаскивал фанерные торговые киоски или с телеги на разделочный стол поднимал добрую половину коровьей туши.
2
Среди популярных бессарабских легенд была и такая. Как-то возвращался мясник Мойша с другом из Киевской оперы, куда они ходили культурно развлечься после трудовой недели и субботних молитв. Стоял поздний майский вечер, как положено в это время года на Украине, по-хорошему тёмный, почти чёрный, несмотря на высокие звёзды, усеявшие небо. Умирающая луна едва просвечивала тонкой коркой серпа. Электрические фонари освещали разве что Крещатик, да и то не на каждом углу. А уж проулки-подворотни были едва запятнаны бледным, домашним светом, приглушённым шторами.
И вот где-то то ли в районе Прорезной, то ли в тёмных шхерах Саксаганского, а может, и вовсе в катакомбах Петровки – кто знает, куда в выходной вечер могут занести ноги молодых мужчин? – пристали к ним двое урок. В те годы таких весёлых хлопцев в Киеве ещё с лихвой хватало. Поначалу власти ссылались на наследие Гражданской войны и надеялись, что со временем рассосётся вместе с улучшением народной жизни и ликвидацией детской беспризорности. Однако, как показало всё то же время, прямой связи здесь не было. Вернее, была, но не та, на которую рассчитывали большевики. На самом деле чем сытнее жил город, тем больше в нём плодилось щипачей, грабителей и прочих приверженцев воровских профессий. «Малины» не только не «высыхали», а, наоборот, цвели полным цветом. А уж нэпманские времена и вовсе стали настоящими дрожжами для криминала. «Да сам бог велел пощипать этих жирных котов!» – поговаривали иные из обывателей, живущих впроголодь на трудовые копейки. При этом такие «работяги» справедливо полагали, что с них-то нечего взять. Иные даже восхищались смелостью новоявленных Робин Гудов в стиле Бени Крика, романтизированного пролетарским писателем Исааком Бабелем.
Моисей никогда так не рассуждал, поскольку ни пролетарского Бабеля, ни немецкого Бебеля не читал, предпочитая Талмуд и газеты. Талмуд помогал ему правильно оценивать лживую суету повседневности, а газетные новости и репортажи ещё больше подчёркивали значимость вечных ценностей: «Всё проходит. Пройдёт и это».
А ещё и это, наверное, было самым большим его достоинством: он никому никогда не завидовал. Он просто не умел это делать. И если бы урки по-человечески попросили Мойшу одолжить копеечку на опохмел или пособить срочно решить проблему с приобретением билета на поезд до Жмеринки, он, может быть, и задумался ненадолго, но в конце концов выделил бы бедолагам из своего скромного бюджета немножко денег. Не будучи завистливым, Мойша не мог предположить в поступках и словах людей второго смысла и в ответ поступал по отношению к ним, как велело его сердце. Не мог или не хотел предполагать – какая разница?
Эта особенность его взгляда на жизнь проявилась чуть не на первом свидании с Ривкой. В тот день они поднялись на Владимирскую горку, любимое место отдыха киевлян, откуда открывался замечательный вид на широкий Днепр, на Труханов остров с городским пляжем. Уставшие, они присели на одну из скамеечек, расставленных повсюду на смотровых площадках широкой лестницы Владимирского спуска. Едва влюблённая парочка расслабилась, вытянув гудящие от долгого хождения ноги, как неизвестно откуда перед ними возник неопрятный мужичонка, от которого несло перегаром вперемежку с запахом мочи. Мужичонка растянул в плаксивой улыбке беззубый чёрный рот и протянул грязную лапу, покрытую волдырями:
– Подайте Христа ради!
По всему видно, что он давно здесь промышлял, и народ не слишком-то потчевал пьянчужку вниманием, сторонился. Попадались и такие, кто пытался воспитывать это «наследие царского режима». От них попрошайка сам отходил, ворча под нос то ли «да пошёл ты!», то ли «чтоб ты сдох!». Ривка с юности достаточно насмотрелась на этих бездельников и прощелыг и испытывала к ним естественную неприязнь. Тем более её удивило поведение Мойши: тот даже бровью не повёл, немного помолчал, глядя прямо в глаза просящему, а потом достал из кармана пригоршню монет и так же молча высыпал в заскорузлую ручонку. Мужичонка изобразил что-то вроде поклона и вознёс было руку, чтобы перекрестить Мойшу, но тот отмахнулся:
– Ступай!
Мужичонка не заставил себя долго просить, развернулся и исчез так же незаметно, как возник. Но Ривка успела явственно расслышать: «Жидяра!»
– Зачем ты ему дал? Он же…
– Так надо, – прервал Ривку Моисей и добавил: – Нет.
– Что – нет? – удивилась Ривка.
– Нет, и всё, – сказал Мойша. Ривка расслышала в его голосе стальные нотки и поняла, что разговор окончен.
Потом она не единожды будет натыкаться на это железобетонное «нет» и насупленный взгляд мужа исподлобья. Точно – бык! И как тогда на Владимирском спуске, у неё будет неметь в груди, а чувство самосохранения стучать в висок: «Не трогай!» И она усмиряла свой горячий характер, хотя, по правде сказать, так хотелось со всего маху заехать в этот упрямый кремнёвый лоб.
3
…В тот вечер, когда им с товарищем повстречались в одном из киевских переулков нехорошие люди, Мойша был в благостном расположении духа после прослушанного «Евгения Онегина». Это добавляло спокойствия к его и без того уравновешенной натуре, и он запросто был готов отдать нуждающемуся человеку не то что горсть медяков, а рублёвые бумажки – не жалко. Но бандиты не умеют просить, а в те годы тем более. Главный принцип грабежа – натиск: неожиданно подкатить и «взять на понт». Вот и на этот раз, не изменяя себе, урки подвалили к двум нэпманам. Надо сказать, что, несмотря на принадлежность к низшей прослойке рабочего класса, Мойша и его товарищ посещали культурные мероприятия при полном параде: костюмчики по моде, галстуки, лакированные туфельки и прилизанные волосы с чёлками набок. Вполне достойный вид, чтобы понять: у этих деньжата водятся.
Один урка, который был покрупнее, выставил перед собой ножичек, размером с тесак мясника, а второй – щуплый, чахоточного вида – прокуренным голосом прохрипел:
– Бабки гоните, жидки!
Как уж он при тусклом освещении смог разглядеть семитские черты, осталось загадкой. Хотя, как знать, может, эти двое давно незаметно вели «кабанчиков» на заклание и успели приглядеться. Оставалось только найти подходящее место для гоп-стопа.
У друга реакция была получше, и он рванул в спасительный сумрак ближайшей подворотни, успев крикнуть: «Мойша! Беги!» Урки растерялись от такой прыти и не сговариваясь повернули головы вслед убегающему. Этих нескольких секунд Моисею оказалось достаточно, чтобы схватить за шкирки обоих, приподнять и крепко столкнуть лбами.
– Надо вызвать милицию, – то ли предложил, то ли спросил вернувшийся товарищ, опасливо поглядывая на лежащих с закрытыми глазами, всего минуту назад таких нахальных и уверенных в себе бандитов.
Между тем Моисей встал на колени и по очереди приложился ухом к груди каждого из неудачливых налётчиков. Услышав неспешное биение сердец и уловив прерывистое дыхание, он молча поднялся, отряхнул колени и произнёс одно-единственное слово:
– Нет, – и не оборачиваясь, не спеша направился, как шёл до этого, в сторону дома. Товарищ покорно поплёлся следом. Всю дорогу Моисей хранил молчание, погружённый в свои мысли. Перед тем как попрощаться, товарищ спросил:
– На следующей неделе, может, на фильму сходим?
– Нет, – ответил Моисей. И всё.
4
– Мойшеле Гуревич, ты будешь уже говорить? – не выдержала Ривка, наблюдая, как с наслаждением, смакуя, её муж пьёт только что сваренный и не до конца охлаждённый компот из сухофруктов.
Моисей допил, крякнул, поставил на стол пустую кружку, вытер ладонью губы и повторил всё тот же вопрос:
– Рива, что ты от меня хочешь?
– Что я хочу? Что дети хотят! Они хотят увидеть папину зарплату. Где деньги, Мойша? Ты уже почти доел обед, а про получку ни слова. Что случилось?
– Ничего не случилось, Рива. Мы участвуем в займе.
Ривка всплеснула руками:
– Опять! Ты мне разрываешь сердце, Моисей Гуревич! Кто эти мы, которые участвуют? Ни я, ни дети не участвуют. Это твои заморочки!
– Нет, – проговорил Мойша и для убедительности хлопнул широченной ладонью по столу. Легонько. Большая фаянсовая чашка, из которой он только что выпил весь компот, подпрыгнула и, со звоном ударившись об пол, разлетелась на множество осколков.
Ривка глубоко вздохнула, едва сдерживая подступавший к горлу гневный крик, и спокойно, насколько это было возможно, спросила:
– Сколько денег принёс?
– Нисколько, – не повышая голоса, ответил Мойша. – Я просил, чтобы всё сразу забрали, за один раз. Зачем на год растягивать? И вот что, Рива, успокойся: лучше так – зараз, чем год отдавать. Зато в следующем месяце – всё будет как положено, полностью.
– Да, ты у нас большой балэбо́с[37]37
Хозяин (идиш).
[Закрыть]! Что мы месяц кушать будем?
– У нас есть запасы.
– У нас?
– В комоде, под ящиком.
– А ты откуда знаешь, разведчик?
– Ты мне по утрам выдаёшь – что у меня, глаз нет? Ну всё, всё. Это ты у нас настоящая балэбо́стэ![38]38
Хорошая хозяйка (идиш).
[Закрыть] – С этими словами Мойша встал из-за стола, подошёл к жене и обнял за плечи.
Ривка для вида упёрла ладони в широкую грудь мужа, отстраняясь от него, но тот ещё крепче прижал её к себе.
– Всё, не подлизывайся, – сказала хозяйка. – Давай сюда эти свои бамажки. Когда деньги вернуть обещали?
– Через двадцать лет.
– Вей из мир![39]39
Боже мой (идиш).
[Закрыть] – вырвалось у Ривки.
– Не гомони! Не заметишь, как время пролетит, и жить тогда мы будем ещё счастливее и веселее. Ведь на облигации такой процент за двадцать лет набежит! О-го-го!..
– Ты бы, Мойша, газеты поменьше читал. Лучше Талмуд – там хоть сразу понятно, что сказка. А в этих «правдах» и «трудах» – и не разберёшь, где она, эта правда.
– Рива, попридержи язык! – Мойша отпрянул от жены.
– Это ты мне говоришь? Ты на что обиделся, кэлбеле?[40]40
Телёнок (идиш).
[Закрыть] За газеты или за Тору? – Ривка вновь стала закипать.
Мойша махнул рукой на жену: всё равно её не переспоришь, а он и так слишком много слов сегодня сказал. Зачем? Без слов всё понятно: на работе за эту подписку на заём так давят, что продыха нет. Парторг-бездельник с утра все цеха обходит и с каждым задушевную беседу ведёт, которая обязательно заканчивается словами: «Мы посмотрим, кто чего стоит, кто как Родину любит!» Однако нельзя сказать, что беседовал парторг со всеми одинаково. Были у него для некоторых и свои волшебные ключики: зря, что ли, на такую работу поставлен – воздействовать и воспитывать человеческие сердца и умы, проводить в жизнь линию партии большевиков под неустанным руководством верного ленинца, товарища… И так далее и тому подобное.
Вот и в этот раз он подошёл к Мойше вроде бы не по поводу займа, а по вопросу, лично касающемуся Моисея Гуревича. И свёлся этот вопрос к тому, что партийная ячейка мясокомбината хотела, нет, просто мечтала и жаждала видеть его, лучшего мясника-колбасника, в рядах ВКП(б). По всем качествам и делам Моисей Гуревич – человек наидостойнейший. И мастер высшего разряда, и рационализатор, и семьянин исключительный – жена ни разу с жалобами в профком не приходила на пьянство или рукоприкладство, не то что у других: «Что греха таить, даже среди коммунистов попадаются такие обормоты. Но мы умеем перевоспитывать, людьми не разбрасываемся, помогаем исправиться».
В общем, Моисей Гуревич был практически «созревший коммунист». Вот только есть одна небольшая закавыка… Говорят, почитывает иногда Мойша книжку неправильную, можно сказать, вредную. Тора называется. А ещё, говорят, захаживает Мойша в синагогу, которая у чёрта на куличках оставлена советской властью, чтобы всякие там старики, которые уже перековаться не могут, да заблудшие личности могли найти успокоение. Но таких были единицы, и пользы от них чуть. Они всего лишь попутчики: из паровоза, который вперёд летит, на ходу не выкинешь – люди всё ж таки, чьи-то матери, отцы. Уж лучше так, чтобы мы про них знали, чем по углам прятаться и секты разводить. Но вот что среди них ударник социалистического труда Моисей Гуревич делает? Непонятно. Хотя, конечно, может, это память детства в нём никак не излечится: ходят слухи, отец раввином или кантором был…
От этих разговоров у Мойши по груди не то что холод разлился, сердце изморозью покрылось, а в голову, наоборот, жар ударил. Он еле сдерживал себя, чтобы не стиснуть пальцы в железный кулак на горле парторга. Тут и гадать нечего – у него бы запросто получилось! Но он молчал, стараясь смотреть прямо в глаза «воспитателю душ человеческих». При этом Моисей прекрасно понимал все эти намёки на «говорят» и «ходят слухи». Не надо было даже Ривкиных подсказок и одёргиваний, чтобы держать язык за зубами, а руки на виду и желательно пустыми, без разделочных инструментов – ножа да топорика.
А парторг, будто видел Мойшу насквозь, продолжал плести свои кружева: «Но мы ж понимаем, что тебе, Миша, надо помочь. Дать время осознать, перековаться. Вот и повод есть хороший проявить себя с лучшей стороны: готовится новый выпуск займа, который пойдёт на поддержку сельского хозяйства, на помощь советским колхозам. Что скажешь? Ведь я это говорю по-товарищески. Ты подумай».
И этот разговор был не первый: «беседы товарищеские» повторялись день через день. А сегодня Мойша не выдержал и вписал в подписной лист напротив своей фамилии месячный заработок.
5
Между тем Ривка взяла веник с совком и начала аккуратно заметать разлетевшиеся по полу осколки чашки. Мойша уселся на диван и стал читать купленную в киоске газету «Труд».
– Что, Мойша, пишут? – не разгибая спины и продолжая мести, спросила Ривка. – Когда очередной заём?
Мойша привычно отмалчивался.
– Мойша, надо бы сходить к Генделю, заплатить за жильё.
Гендель был бывшим начальником строительной конторы, ещё в начале века построившим доходный дом, в котором теперь жили Гуревичи. Как уж сложилось, что советская власть оставила ему дом, никто не знал. Жильцы платили хозяину квартплату – и всё. Платили по старинке, как было заведено испокон века: несли Генделю, который жил в этом же доме, на третьем этаже, в небольшой, но отдельной двухкомнатной квартирке.
Некогда весь дом состоял из отдельных квартир по четыре-пять комнат каждая, по три квартиры на этаж. Но пришла советская власть и сделала «расселение и подселение»: квартиры превратились в коммуналки на четверых, а то и пятерых соседей. Старику Генделю разрешили оставить собственную с отдельным входом с условием, что он будет следить за содержанием дома, собирать квартплату с жильцов и отдавать положенное государству. Гендель к своим обязанностям относился ответственно: дом и двор были чистыми, подъезд белился каждые два года, крыша латалась, водосточные трубы сливали дождевую воду исправно в водостоки, выход на чердак да и сам чердак выглядели так, будто это не чердак вовсе, а парадная зала роскошного особняка: чисто, свежо, никакого ненужного хлама и окошко чердачное прозрачное, ни единого пятнышка.
Слева от дверей в квартиру Генделя висел старинный механический звонок с крутилкой и фразой по кругу: «Прошу повернуть». Моисей крутанул. За дверью – «дринь-дринь» – дробно простучал о колокол молоточек. Через минуту щёлкнул замок, и ещё не старая домработница Роза, однако служившая у Генделя с незапамятных дореволюционных времён, пропустила Моисея в тёмный коридор.
– Здравствуй, Роза.
Та ничего не ответила: увидев знакомого человека, повернулась спиной и ушла обратно в маленькую кухоньку в конце коридора, оставив Моисея у открытой двери. Это был обычный ритуал, знакомый всем жильцам, приносившим Генделю квартплату. В доме даже бытовало мнение, что Роза глухонемая. Может, так оно и было, но когда старый Гендель хрипло рычал в мрак квартиры: «Роза, алтэр йáхнэ![41]41
Старая болтунья (идиш).
[Закрыть] Куда ты пропала?» – ему не приходилось повторять дважды: Роза возникала словно из воздуха.
– Она всё, что у меня осталось, – говорил Гендель, кивая в сторону домработницы. Слышавшие это сочувственно молчали: история семейства Гендель ни для кого не была секретом.
Революция и Гражданская война смели всех близких старика подчистую: жена умерла от тифа, из пятерых детей в живых остался только младший Лёвушка, да и тот, говорят, сбежал за океан, откуда умудрялся раз или два в год посылать отцу весточку. Неизвестно как, непонятно через кого, но Гендель знал, что Лёвушка жив-здоров, что у него всё хорошо: обзавёлся семьёй и собственным небольшим гешефтом[42]42
Дело, бизнес (идиш).
[Закрыть] по ремонту не то часов, не то швейных машинок где-то то ли на юге, то ли на севере Бруклина. Генделю даже было откуда-то известно, что Лёвушке «хорошо подфартило с этим их сухим законом» и он вовремя вспомнил своё юношеское увлечение самогоноварением. Недаром младший отпрыск Генделя успешно учился на химическом факультете и держал для себя в качестве примера научного и делового успеха господина Менделеева. Правда, за океаном у них всё называлось не по-человечески, и обычное дело – гнать самогон – превратилось в замысловатое и даже в чём-то привлекательное бутлегерство. Отчего и Лёвушка был не просто подпольным самогонщиком, которому в нынешнем СССР Сибирь была бы за счастье, а уважаемым деловым человеком, джентльменом, и обращаться к нему следовало со всяческим уважением: «господин бутлегер Лео», но только не Гендель, а Гендельф, поскольку Лёвка, врастая в англосаксонскую среду, прибавил к родовой фамилии почётное «f» да ещё для пущей убедительности продублировал «f-f». Так что это был теперь даже не Гендельф, а Гендельфф…
– Здравствуй, Миша, – прохрипел Гендель, подслеповато прищурившись из своего английского кресла с высокой «ушастой» спинкой. – Прошу, – и старик сделал широкий жест, указывая на венский стул напротив себя.
Между хозяином и гостем расстилалась плаха огромного дубового стола на массивных гнутых ногах. Столешница была покрыта зелёным сукном. Перед Генделем лежала открытая как положено, справа налево, Тора.
Гендель уже давно недостаточно отчётливо различал очертания предметов в пространстве, тем более начертания букв на книжном листе. Но с маниакальным упрямством не надевал очки, хотя и имел таковые, похороненные в инкрустированном серебром кожаном футляре, лежащем всегда под рукой. «Я, конечно, не зоркий сокол, но ещё не слепой крот, чтобы не отличить правду от кривды», – любил говаривать старик, приписывая очкам какое-то магическое свойство искривлять и приукрашивать жизнь.
Когда глаза совсем уставали от постоянного напряжения и буквы начинали сливаться в неразличимое месиво, Гендель предпочитал брать в руку лупу на позолоченной ручке, также лежащую всегда под рукой, но очки упорно игнорировал. «Это будет мой последний день на “Титанике”», – отвечал Гендель навещавшему его по старой памяти когда-то семейному доктору, а нынче участковому врачу Куренёвской поликлиники Якову Бронштейну. Бронштейн тоже был в преклонном возрасте, но лет на 15 младше. Поэтому Гендель обращался к доктору не иначе как «Яшка» и на «ты», а Бронштейн называл Генделя по имени-отчеству: Иосиф Абрамович…
Несмотря на свои «без трёх минут восемьдесят», Гендель не выглядел обрюзгшим стариком. Скорее он был похож на высохший терновник: такой же сухой и колючий. Худоба и колючесть, в принципе, были семейной чертой Генделей: все его дети, когда вставали рядом во времена своего пребывания в этом мире, да ещё по росту, смотрелись как одна цельная сиринга – пан-флейта. Это младшая из трёх дочерей, хохотушка, любимица Сонька, придумала так их называть: «Если бы мы попали в руки греческому богу Пану, он бы соорудил из нас пятиствольную флейту и играл бы на ней свои пьяные мелодии…»
– Сонька, ты совсем рехнулась со своей мифологией! – набросилась на сестру самая старшая и рассудительная Рахиль. – Лучше Тору почитай.
– Фи! Какая гадость! – притворно возмутилась Сонька. – У нас папочка за всех её справа налево прочитал. И вообще, это мужское дело – молиться. Пускай лучше Лёвка тренируется. – И с этими словами она больно ущипнула нескладного Лёвку, пребывающего в том периоде полового созревания, когда мальчики-подростки стесняются самих себя во всех непривычных проявлениях, начиная с ломающегося голоса, набухающего в самый неподходящий момент детородного органа и заканчивая тёмным пушком, смешно подчёркивающим границу между крючковатым гендельским носом и верхней губой.
Лёвка залился пунцовой краской и, вместо того чтобы погнаться за отскочившей сестрой, ссутулившись и неестественно болтая худыми, длинными руками, торчащими из ставших явно короткими рукавов гимназистского пиджачка, выбежал из общей залы.
«Надо ребёнку новый костюм справить», – прошептала на ухо Генделю супруга. Они сидели рядышком на небольшом диванчике в углу залы, умильно наблюдая за этой вознёй детей, по традиции собравшихся вместе в воскресенье. Трое старших уже жили обособленно. Александр и Мира учились в университете, и Гендель в одном из своих доходных домов выделил каждому по отдельной, вполне приличной квартирке. А первородная Рахиль уже была полноправной хозяйкой собственного дома и вот-вот должна была родить. Ей было явно тяжело донашивать до нужного срока раздувшийся живот, выглядящий ещё огромнее от того, что сама Рахиль умудрилась до последнего сохранять семейную худобу…
«Вот ведь порода! – ворчала молодая домработница Розка. – Ребёнка вот-вот выпердит, а титек так и не наростила. И бёдер совсем нема. Как рожать будет? Едва вон дышит таскать такой мешок между ног, а всё равно по гостям шляется. И куды батькы смотрят?» А родители смотрели на своих детей и любовались: такие взрослые, умные, красивые.
Что до Розки, так они на неё ничуть не сердились: Розка была своя, можно сказать, член семьи. Её чернявой, пышнотелой девахой лет пять назад привёл к ним младший партнёр Генделя по бизнесу Генрих Меер. К тому времени Меер уже был смертельно болен: прошло более полугода, как у него в желудке обнаружили опухоль. Что только не делал Меер, даже съездил в Москву, в недавно открывшийся институт онкологии. Чуда не случилось. Московские светила развели руками и отправили Меера, которому на тот момент едва исполнилось сорок лет, домой умирать. Меер практически отошёл от дел и доживал остаток дней на одном морфине, пытаясь хоть ненадолго усмирить невыносимую боль.
А раньше, всего за месяц до страшного диагноза, как снег на голову к нему в шикарную квартиру на Крещатике ввалилась древняя бабка-хохлушка из глухого села откуда-то из-под Винницы. Лицо бабки было всё испещрено морщинами, из-под косматых седых бровей сверкали колючие серые глаза. На бабке, как на вешалке, была напялена добрая дюжина всяких цветастых юбок, вязаных кофт, а сверху ещё и передник, который когда-то был белым. Голову старуха покрыла коричневым шерстяным платом, завязанным на узел невероятных размеров под самым подбородком. Бабка больше походила на цыганскую ведьму, чем на добропорядочную селянку.
На поверку старуха оказалась женщиной незлобной, напротив, даже доброй и тихой. Голос её никак не вязался с внешним видом: был мягким, напевным, так что мог вполне принадлежать какой-нибудь дебелой красавице бальзаковского возраста. Бабка, как вошла, сразу стала рассказывать, не давая Мееру и рта открыть. Выяснилось, что она приходилась какой-то дальней родственницей девочке-подростку, с которой и явилась в квартиру к Мееру. Добрая старая женщина растила-воспитывала девочку после смерти её матери, поднимавшей дочку без отца. «Тут уж ничего не поделаешь: нагуляла непутёвая мамаша ребёночка и вернулась в село к отцу-пьянице».
Отец блудницы, однако, вскорости умер, и осталась та с дочерью жить в старой покосившейся родительской хате. Мужики Таньку, так звали мамашку девочки, брать в жёны, знамо дело, не хотели. Разве что погулять, шуры-муры покрутить… А лет десять назад Танька оставила дочку родственнице, этой самой бабке-цыганке, и отправилась в Винницу да там и сгинула: ни ответа ни привета. С тех пор стала бабка девочку ростить: «Куды ж её диваты, ребёнок всэ ж такы!» А теперь и самой бабке время пришло помирать. Вот и привезла она девочку в Киев к Мееру. Почему к нему? А к кому ещё? У неё из своих, так уж Господь распорядился, никого не осталось. У девочки, вишь, тоже никого. А он, Меер, какой-никакой, а всё ж таки отец ридный этой самой девочки… «Шо, я не сказала? Так вот, говорю. Вот и фотокарточка: вы на пару с Танькой-распутницей запечатлены». Достала из какой-то тряпицы и положила на стол перед Меером снимок. А там он – такой молодцеватый, с тросточкой. И рядом с ним та самая Танька, вся расфуфыренная, прямо мадмуазель городская, даже на себя непохожая. А с обратной стороны подпись: имя, фамилия и адрес. Адрес оказался прежним, где жил Меер, но добрые люди объяснили, как его разыскать. И вот они здесь. «Девочку, кстати, Розка зовут. Это Танька назвала, как у вас принято. В память об отношениях. Видать, любила… – Бабка на секунду замешкалась, выбирая правильное обращение, и продолжила: —…тебя любила по-настоящему».
Генрих Меер выслушал всю эту душещипательную историю, не проронив ни слова. Взял в руки пожелтевшую помятую фотографию: видать, часто её доставали и разглядывали. Расчувствовался, даже всплакнул. В подробности вдаваться не стал – всё вспомнил. Да и вспоминать было незачем, потому что не мог он забыть те давние весну и лето в Киеве, когда его увлекла, закрутила любовь к весёлой, жаркой красавице-хохлушке. Возникла Татьяна словно из ниоткуда – нос к носу столкнулся с ней на Бессарабке, взял за руку и так не отпускал все полгода, пока они любовь крутили. А потом молодая женщина так же вдруг, как из ниоткуда возникла, исчезла в никуда. Только записочку аккуратным почерком, грифельным карандашиком на прикроватном столике оставила: «Мы разные. Меня не ищи. Прощай. Больше не твоя. Татьяна». Гендель тогда пришёл с работы и обнаружил пустую квартиру и эту записочку. Татьяна ничего ценного не забрала: как сказала бабка, видать, любила на самом деле, – только свои пожитки да драгоценности, которые Генрих успел ей подарить. Он было метнулся на поиски – по городу, на вокзал. Даже в полицию заявление написал. Но что толку? Меер ничегошеньки о ней не знал: ни откуда она родом, ни где до встречи с ним жила, даже фамилией не поинтересовался. А зачем? Он же почти сразу решил, как встретил её, что станет Татьяна его женой и фамилию, соответственно, возьмёт мужнину – Меер. Генрих был единственным сыном своих родителей и к 25 годам остался круглым сиротой. Другой родни, кроме родителей, у Меера не было, так что идти к кому-то за благословением не требовалось.
После истории с Татьяной семьёй Генрих так и не обзавёлся и к сорока годам всё чаще вечерами, особенно поздней осенью, с тоской размышлял о неприкаянном одиночестве, доводя свою впечатлительную натуру до слёз. Так что неожиданному появлению почти взрослой дочери он только обрадовался: одел-обул девочку, с ходу пригласил домашних учителей – учить письму, и чтению, и английскому языку. Меер как человек деловой от французского и немецкого видел меньше пользы, уверяя, что будущее в деловом мире за «инглыш», а Розу он уже рассматривал не иначе как свою наследницу и прежде всего в строительном бизнесе, который вполне успешно шёл, можно сказать процветал, в «кумпанстве» с Генделем. Однако судьба распорядилась иначе…
После смерти Меера Иосиф Гендель принял Розу в семью и стал для неё опекуном. Роза оказалась девочкой с характером: ни в дети, ни в приживалки «записываться» не стала. Так и сказала: «В вашу дытыну записываться не стану. Я крещёная, мне инша вира ни к чему». И сколько Гендель ни втолковывал ей, что никто не собирается её «раскрещивать» и к Торе принуждать, Розка ни в какую: «Как можно! В дытыну записаться и иметь иншу виру, чем батьки?! Не, так я не могу и не буду. Да и не к чему мне тут в барчуках ходить. Я звыкла працюваты. Так что давайте я буду у вас в доме по хозяйству помогать».
Очень рассудительная и работящая девочка оказалась. Выторговала себе роль и место в семье: Гендели выделили Розе небольшую комнатёнку, и она стала помогать домработнице Фиме, которая на ту пору уже была в приличных годах. Через пару лет наступил день, когда Фима вошла к Генделю в кабинет и сказала: «Спасибо вам за всё. Пора и честь знать – откланиваюсь я. Поеду к сыну в Житомир – век свой доживать. Может, ещё правнуков помогу поднять, а не смогу – так хоть потетенькаюсь, порадуюсь перед смертью. А вы без помощницы не останетесь: Розка вон какая выросла деловитая. Ей не только хозяйство, но и счета да серьёзные покупки доверять можно. Я-то в этих делах всегда бестолковая была. А эта, даром, что ли, для неё вчителей нанимали, даже и не домработница, а – как это правильно называется в Европах? – экономка, кажется». На том и простились. На прощание Гендель щедро наградил Фиму, выплатив ей приличную сумму. С того дня Розка стала полноправной и незаменимой экономкой, уборщицей, поварихой и кастеляншей в одном лице.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































