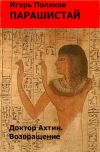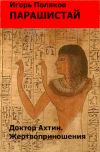Текст книги "Доктор Ахтин"

Автор книги: Игорь Поляков
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
17
303 палата. Трое мужчин. Справа пожилой мужчина с панкреатитом, рабочий с одного из заводов области. На его лице написано количество спиртного, которое он выпил в этой жизни, а в анализах отражено критическое состояние поджелудочной железы и печени. Я знаю, что в прикроватной тумбочке у него спрятан кусок соленого сала, а в сознании уже давно зреет запретное желание выпить холодной водочки. Еще неделю назад он лежал под капельницей со страдальческим выражением лица, покорно принимал уколы и таблетки, даже не помышляя об алкоголе, но прошло всего четыре дня после стихания воспалительного процесса, и он уже забыл о пережитом. Он снова готов медленно убивать себя.
– Сидоров, – говорю я ему, – отдайте мне сало, которое вам принесла жена.
Я смотрю на то, как изменилось его лицо – мечта о том, что он поздно вечером съест сало, исчезала, как сигаретный дым.
– Какое сало, доктор? Я прекрасно знаю, что мне его нельзя. Ничего мне жена не приносила, – говорит он, протестующе взмахнув руками.
Я стою и смотрю на него. Некоторые люди готовы мучиться и страдать за кусок любимой пищи, словно это единственное, что им нужно в жизни. Смысл их существования – в приеме пищи, все остальное время они живут в предвкушении еды. Я протягиваю руку и отрывисто говорю:
– Сидоров, сало!
Он тяжело вздыхает и вытаскивает шмат сала грамм на триста, завернутый в бумагу.
– Если бы вы это сегодня съели, послезавтра ваша жена забрала бы ваш труп из нашего морга, – говорю я и отворачиваюсь от мужика. Скорее всего, он не поймет и не осознает того, что я ему сейчас сказал.
Налево у окна тридцатилетний мужчина. Инженер с одного из областных предприятий. В некотором роде, потомственный интеллигент. У него тоже холецистопанкреатит на фоне неумеренного употребления алкоголя. Он только вчера почувствовал себя лучше, и сегодня может говорить без мученической гримасы на лице.
– Как себя чувствуйте, Максимовский?
– Более-менее, – отвечает он неопределенно, словно не уверен в том, что боль ушла, и жить стало легче.
– Рвота была?
– Нет.
Я знаю, что два года назад он написал научно-фантастический роман, который был выстрадан им, и который никого не заинтересовал, – ни тогда, ни сейчас. После многократных попыток пристроить свое детище в разных издательствах, инженер стал прикладываться к бутылке, жалуясь всем и каждому на то, что его никто не понимает.
В его дальнейшей жизни ничего нет и не будет, – после выписки из больницы, он не бросит пить, через несколько месяцев потеряет работу, а свой посредственный роман он в один из самых своих черных дней бросит в огонь, проклиная свою мечту. И, глядя на языки пламени, пожирающие бумагу, он будет плакать пьяными слезами.
Сейчас же он еще думает, что у него что-то может получиться на писательском поприще, но уже по инерции – признаться самому себе, что ты бездарь, сложнее всего.
– Кстати, Максимовский, у вас есть что-нибудь почитать? Что-нибудь стоящее, захватывающее, интересное? – спрашиваю я, глядя в глаза пациенту. И, увидев там понимание, слышу в ответ:
– Нет, сейчас у меня ничего нет.
– Может, это и хорошо, – говорю я те слова, которые он пока не готов услышать. – Может, это знак свыше.
Я хочу помочь этому человеку. Он свернул не на ту дорогу, потому что слаб. Но если я ему помогу, он все равно ничего не создаст – в нем нет искры, от которой воспламеняются человеческие души. Он не способен создавать то, от чего люди буду плакать и смеяться, сопереживать и радоваться. Он не творец.
Налево у двери мужчина, который лежит, отвернувшись к стене. Он так лежит практически все время. Чтобы поговорить с ним в первый день, мне пришлось дважды поворачивать его лицом ко мне. Кроме того, что у него цирроз печени, у него еще простатит. И то, и другое, неизлечимо. И отравляет жизнь ему и окружающим.
Жена, забрав детей, ушла от него три месяца назад, потому что он достал её необоснованной ревностью, притом, что сам уже целый год спал в соседней комнате. Собутыльники от него отвернулись, – они не хотели терпеть его мерзкий характер и однотипные разговоры. Да и пить он уже не мог, после второй рюмки выблевывая из себя «полезный продукт». Настоящих друзей у него нет, родители давно оставили этот мир, – и, протрезвев однажды утром, он посмотрел на себя в зеркало. Увидев свое желтое лицо, он испугался и побежал в поликлинику. После стандартного обследования добрый участковый терапевт разъяснила ему, что обозначает поставленный ему диагноз, и что его ждет впереди.
Он даже и не подумал обвинить во всем себя. В больницу он пришел обозленным на весь мир, по вине которого он сейчас неизлечимо болен.
– Шейкин, как вы? – задаю вопрос я, не надеясь на ответ. Но получаю его.
– Никак.
– Это хорошо, – говорю я, – значит, вы, Шейкин, еще живы.
– Не дождетесь, – хмыкает он в ответ, так и не повернувшись ко мне.
Я улыбаюсь, – пусть медленно, но мужчина идет на контакт.
Четвертая койка пустует, хотя пациент выписан еще вчера. Такое летом бывает – в теплое время года люди не любят болеть.
Я выхожу из палаты и иду писать истории болезни.
18
Тени безумны. Они пребывают в нирване своего пустого существования, ежедневно поглощая пищу и исторгая из себя продукты своей жизнедеятельности, выполняя рутинные действия и передвигаясь с места на место, словно белки в колесе. Они думают, что у них есть цель в жизни, к которой они стремятся, но они двигаются по кругу. Иногда они болеют, и порой очень сильно. И чуть приблизившись к смерти, они замирают, как кролики в свете фар, завороженные ужасом предстоящей неизвестности. Заглянув в пустоту небытия, они готовы на все, чтобы сохранить жизнь. И когда их убогая жизнь остается с ними, – во многом благодаря мне, – редкий человек вспоминает пережитый ужас, отторгая из памяти неприятные воспоминания. Вернувшись назад в привычный мир, они старательно вычищают свою память.
Тени безумно пугливы. Когда я вторгаюсь в их ограниченный мирок, – через слухи, сплетни, газетные статьи и кухонные разговоры, – они тоже в ужасе замирают. Я для них – неминуемая и быстротечная смерть, мелькнувшая рядом. И они облегченно вздыхают, когда понимают, что их это сейчас не коснулось. Они рассказывают друг другу слухи и свои домыслы, выдавая их за истину. И иногда они бывают правы.
«Это мерзкий ублюдок убивает наркоманов».
«Так им и надо».
«Да этот маньяк просто санитар, который убивает больных членов общества».
«Говорят, он режет их на куски»
«А вы знаете, что он выдавливает глаза жертвам».
Тени абсолютно безумны, если думают, что их это не касается. Количество наркоманов растет лавинообразно Вирус, который они получают, распространяется пока медленно, но скоро он, изменившись, сделает свое черное дело, сокращая время жизни теней. И тех, что смертельно больны, и тех, чье время еще не пришло.
Вирус сократил время жизни Богини.
В недалеком будущем он утратит своё влияние на человеческий страх, но это – не моё будущее.
Я смотрю на мерцающий огонек свечи. Сделано больше половины, и это хорошо. На моих рисунках она улыбается, принимая преподнесенные ей жертвы. Она молчалива, но я знаю, насколько она может быть благодарной. Она со мной, и это укрепляет меня больше, чем любая молитва.
Богиня рядом, и это лучшее, что может быть в моей жизни.
Я заканчиваю улыбающийся рисунок и вешаю его на то место, что ему предназначено – крайне правое. Глядя слева направо, я могу увидеть все те чувства и эмоции, что она испытала за последние три года. Если на первых рисунках её лицо выражает бесконечную усталость от жизни, то, по мере смещения направо, лики светлеют, изменяясь в наилучшую сторону. Она сейчас счастлива тем, что я рядом.
Я тоже улыбаюсь, созерцая лики любимой.
В открытую форточку слышу, как сосед сверху вышел на балкон. Прикурив, он бросает спичку вниз, – и вслед за прочертившим темноту коротким огоньком, я слышу протяжный крик, который разбудит десятки людей в соседних домах. Крик, эхом прокатившийся по двору:
– Ау-у-у, люди-и-и-и! Мне хорошо-о-о-о!
Николай тоже считает, что он сейчас жив. Хотя, он уже две недели, как перешагнул на ту сторону бытия, – сейчас он встречается с миловидным юношей, который еще пока не знает о том, что инфицирован вирусом СПИДа. Они вместе спят и колются одним шприцом. Они довольны этой жизнью. Они пока счастливы вместе, и, как я думаю, будут счастливы всегда.
Я закрываю форточку.
Мне пора.
Впереди ночь, которую я проведу именно так, как угодно Богине. Подхватив заранее приготовленный рюкзачок, я иду к двери.
Неся с собой Её благословение.
Чувствуя приятную дрожь в мышцах.
Ощущая трепет в сознании.
С эйфорией в мыслях.
Жертвоприношения Богине я делаю с удовольствием.
19
Семенов, участковый милиционер с двадцатилетним стажем, посмотрел на незакрытую дверь квартиры номер 37. Хлипкий замок выломан. За спиной суетливый мужичок из 35 квартиры с вполне подходящей фамилией Синицын говорил:
– Открываю я свою дверь и вижу, – что-то не так с дверью тридцать седьмой квартиры. Я внутрь не заходил, но ты, Петрович, понюхай, явно пахнет смертью. И аура какая-то неприятная изнутри идет. Мерзкая такая аура, словно мертвяк там.
– Да не каркай ты, – отмахнулся Семенов и шагнул к двери. Всякое бывало в его жизни, но именно сейчас он почему-то не хотел заходить внутрь. Неприятное предчувствие мешало ему сделать последний шаг вперед.
– Может, лучше сразу вызвать убойный отдел? – предложил Синицын, на лице которого была смесь эмоций – возбуждение от необычной ситуации, страх того, что может быть в квартире со сломанной дверью, нездоровое любопытство и мелочная радость, что все это происходит в соседней квартире, где живет надоевший всем наркоман.
Семенов поморщился – насмотрятся детективных сериалов, и полагают, что оперативники из отдела по расследованию тяжких преступлений без промедления приедут на сломанную дверь. Хочешь, не хочешь, а проверять все равно ему надо.
Дверь пронзительно скрипнула, когда Семенов аккуратно потянул её на себя за край, и Синицын сзади возбужденно подпрыгнул.
– Стой здесь и за мной не ходи, – сказал Семенов и вошел в квартиру.
Он знал, что в квартире живет парень, уже давно сидевший на героине. Его родители, поняв, что ничего не смогут сделать и вылечить сына невозможно, купили ему однокомнатную квартиру, переложив свою головную боль на соседей и на участкового.
В коридоре – на вешалке рваная куртка, в углу грязные кроссовки. Значит, парень должен быть дома.
Семенов принюхался. Действительно, присутствующий в квартире запах неприятен, – запах сгоревшей пищи, смешанный еще с чем-то неприятно-гадким. Заглянув в приоткрытые двери раздельного санузла, он отшатнулся от запаха дерьма, исходившего из туалета, и быстро прошел на кухню, где в грязной мойке лежала сковорода с пережаренной до черноты картошкой. В углу старенький холодильник ровно гудел, создавая иллюзию того, что жизнь в этом ограниченном пространстве продолжается.
Семенов вздохнул и пошел в комнату.
Когда он увидел обнаженное тело парня, то вначале у него все поплыло перед глазами, но опыт взял свое. Зажмурившись, участковый потряс головой и снова открыл глаза.
На полу лежало мертвое тело. В этом можно не сомневаться – из шеи торчал нож, на теле многочисленные разрезы, а пустые глазницы зияли чернотой ужаса. Запах крови, которая вытекла из многочисленных ран, смешивался с запахами говна, грязи и сгоревшей картошки, создавая тот аромат, что унюхал Синицын.
Сказав себе несколько раз, что он выдержит это, Семенов восстановил, насколько смог, свое душевное равновесие и огляделся.
На пустом столе у окна стояло два стакана. Дверь на балкон приоткрыта. Одежда парня лежала скомканной кучкой на старой продавленной софе со сломанными ножками. Часы на стене остановились на полвторого, но, не факт, что они в рабочем состоянии. В полупустой комнате, кроме стола и софы, ничего нет, поэтому больше ничего интересного Семенов не увидел.
Осмотр места преступления успокоил участкового, и он наклонился ближе к трупу, чтобы рассмотреть нож. На рукоятке, торчащей над ключицей слева, вырезаны две буквы – «кА».
Семенов выпрямился и неловко перекрестился, только сейчас почувствовав, как намокла от пота его рубашка. Задом он отошел в коридор, а затем, развернувшись, вышел из квартиры.
– Ну, что там? – нетерпеливо спросил его Синицын, глядя на участкового с нездоровым блеском в глазах.
– Иди, вызывай убойный отдел, – сказал Семенов, вытаскивая из кармана сигареты. Руки дрожали, поэтому только вторую сигарету он смог донести до рта.
Синицын округлившимися глазами смотрел на то, как участковый роняет первую сигарету и прикуривает вторую, а затем как-то недоуменно спросил:
– А по какому телефону звонить? И что сказать?
– 02, – сказал Семенов и закашлялся. Снова затянувшись, выдохнул и продолжил:
– Скажи, очередная жертва убийцы наркоманов.
Глядя, как Синицын суетливо открывает свою дверь, участковый думал о том, что возникшие в городе слухи о маньяке, убивающем наркоманов, подтверждаются. Нюансы убийств были служебной информацией, которую участковому не положено знать, но многое уже обсуждалось на улицах, поэтому Семенов затягивался сигаретным дымом и думал о том, что увидел в квартире наркомана.
Он затушил окурок в консервной банке, которая стояла тут же, механически отметив, что та пуста, и посмотрел на появившегося Синицына.
– Ну, позвонил?
– Да, сказали, через пятнадцать минут будут, а пока сказали, чтобы вы охраняли место преступления.
– А то я не знаю, что делать, – сумрачно сказал Семенов и полез в карман за следующей сигаретой.
В следующие пятнадцать минут, которые он провел у двери в ожидании оперативников, он выкурил еще пять сигарет.
20
Уже в ту ночь, когда она умерла, я знал, что буду делать дальше.
Я не хотел, чтобы её прекрасное тело сгнило в земле. Я хотел его сохранить для себя и, главное, для неё. Для нашего совместного будущего в бескрайних Тростниковых Полях.
Моя рациональная часть сознания, испорченная полученным консервативным медицинским образованием, говорила мне, что это только физическая оболочка, которая уже никогда не станет той, что я любил.
А нерациональная часть, которая определяла мою жизнь с детства, – перебирала в памяти забытые в веках знания, прочитанные книги и неясные убеждения.
Я, по-прежнему, медленно брел в тишине ночного зимнего леса.
Рано утром я посмотрел на прекрасные черты её лица, застывшие в вечности, и понял, что просто обязан сохранить её.
Она должна жить вечно, потому что она – Богиня!
Для начала я позвонил на работу и взял отпуск на две недели – этого времени мне должно хватить. Затем занялся приготовлениями: только имея все в наличии, можно приступать к важному действию – сохранению тела любимой женщины.
Сначала я приготовил место, где она будет находиться всегда. Кладовка в дальней комнате – я вынес всё из неё, сложив аккуратной кучей в углу. Потом, позже я разберу это барахло. Помещение небольшое, примерно три метра на полтора, но вполне хватит для склепа. Далее пришлось тяжело потрудиться: хоть ванна в туалете не чугунная, мне понадобилось много усилий, чтобы перетащить её в кладовку. Одному и по возможности без лишнего шума, мне пришлось нелегко, но я справился. Плотно законопатив сливное отверстие, я посмотрел на будущее ложе моей Богини – пусть оно убого и приземлено, пусть оно не соответствует её статусу, но я уверен, что неважно, как выглядит место, где Её тело будет пребывать вечно.
Она украсит собой любое место.
Вернувшись в комнату, где она лежала на диване, я долго смотрел на её обнаженную красоту, словно впитывал в себя то, что видели глаза. Я просил прощения, что приходится осквернять её тело, но по-другому нельзя. Даже в древности люди совершали этот ритуал с теми, кого считали Богами.
Я перенес тело на пол, на предварительно расстеленную клеенку.
Я приготовил инструменты, эмалированный таз и стеклянную пятилитровую банку с широким горлом. Впереди очень необходимое действие, но и самое неприятное – и для меня, и для неё.
Надев резиновые перчатки, я в некотором роде упаковал свое сознание в латекс – так легче осквернять божественное тело. Я как бы отгородился оттого, что делают мои руки, и таким образом, сохранил свое сознание в неприкосновенности. Хотя, когда скальпель в первый раз прикоснулся к коже, я почувствовал всем своим существом святотатство содеянного мною. Тем не менее, я продолжал делать то, что необходимо. В своем сознании я непрерывно бормотал священный текст, хранившийся в памяти:
Эти северные небесные боги,
которые не могут погибнуть – она не погибнет,
которые не могут устать – она не устанет,
которые не могут умереть – царица не умрет.
Твои кости не погибнут.
Твоя плоть не испортиться.
Твои члены не будут далеко от тебя,
ибо ты одна из богов.
Среди Ax-Богов
царица увидит, как они стали Ax
и она станет Ax тем же способом.
Ты сделаешь Ax в своем теле.
Она не умрет.
Я мысленно говорил, а руки делали дело. Я широко рассек кожу живота над лоном, и, где рукой, где скальпелем, разрывая и рассекая ткани, добрался до брюшной полости. Постепенно извлекая, выкладывал петли кишечника в таз, заняв его полностью за какие-то десять минут.
Далее – желудок: погрузив по локоть в отверстие правую руку со скальпелем, зажатым между пальцами, на ощупь, я отсек желудок от пищевода. Когда знаешь, как расположены внутренние органы в животе, это не так уж сложно. Да, я мог разрезать живот Богини по другому, и мне было бы легче извлекать её внутренние органы, но – таков ритуал. И так больше шансов, что тело Богини сохранится для её будущей жизни в Тростниковых Полях.
Затем – печень: я чувствовал рукой её бугристую поверхность, когда искал то место, которое держит орган, а, вытащив его, увидел синюшность измененной ткани. Этот орган я сложил в стеклянную банку. Следующие органы – поджелудочная железа и селезенка – последовали в таз.
Я смотрел на ввалившийся живот и улыбался – я смог сделать то, чего боялся. У меня получилось. Дальше пошло лучше. Я вычистил живот от крови и желчи, зашил его, старательно сопоставляя края раны, так что шов стал еле заметен.
Старательно обтер тело влажной губкой, затем сухим полотенцем и перенес Богиню в её ложе.
Главное сделано. Точнее, самое сложное и ответственное дело.
21
Ночью в 303-ю палату экстренно поступил пациент. Прежде чем идти к нему, я просматриваю историю болезни, заполненную дежурным врачом. Больной оказался в некотором роде коллегой – врач-патологоанатом. Предварительный диагноз – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Быстро прочитав собранный анамнез и жалобы больного, я задумчиво закрываю карту. Похоже на то, что Лариса, дежурившая этой ночью, ошиблась. Но, ничего не сказав, я иду в палату, – не увидев пациента, я не могу делать какие-либо выводы о работе коллеги.
Когда я вхожу, больной медленно поворачивает голову в моем направлении, и я вижу глаза, в которых легко читается обреченность. Человек уже перестал бороться, покорно принимая тот удар, который приготовила ему судьба или Бог, в которого он не верит.
– Степан Афанасьевич, рано вы сдались, – говорю я, улыбнувшись пациенту, и не увидев реакции на улыбку, понимаю, что прав в своих предположениях.
– Скажите мне, Степан Афанасьевич, сейчас есть боль в сердце? – спрашиваю я, подходя к нему и заглядывая в глаза.
Он молчит, даже не пытаясь открыть рот, и смотрит на меня долгим пронзительным взглядом, и, в следующую секунду я понимаю, что он уходит. За то быстротечное время, что я смотрю в его глаза, я многое вижу, прикоснувшись к уплывающему сознанию – его сердце делало последние попытки перегнать кровь в сосуды, а в мыслях уже наступило успокоение.
Я делаю то, что должен сделать, хотя понимаю бессмысленность своих действий. В данном случае пациенту уже никто не мог помочь. Он сам не хочет вернуться.
Крикнув в коридор призыв о помощи, я стаскиваю безжизненное тело пациента на пол, запрокидываю голову и начинаю стандартные реанимационные мероприятия – непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Я знаю, что Мехряков Степан Афанасьевич, доктор-паталогоанатом с тридцатилетним стажем, примерный семьянин и любящий отец, умер от обширного инфаркта миокарда, и оживить его никому не удастся, но, несмотря ни на что, делаю то, что обязан делать в данной ситуации.
Когда через пять минут меня сменяют подоспевшие реаниматологи с необходимым оборудованием для интубации и дефибриляции, я отхожу в сторону, – сыграв свою роль в этом представлении, я удаляюсь обдумать то, что увидел в глазах умирающего доктора.
Он был парашистаем, – рожденный им, он стал опытным и мудрым разрезателем. Смерть для него стала более реальна, чем жизнь, хоть он пытался думать иначе. Проводя много времени с мертвыми телами, он, сам того не заметив, уже давно перешагнул ту границу, что разделяет миры. И, хотя он не осознавал, что находится на границе земного и загробного мира, он давно видел то, что неподвластно другим.
И перед своей смертью, он вдруг увидел свою суть в моих глазах. Осознание того, что он Парашистай пришло к нему слишком поздно. Так же, он понял, кто я, и какова моя сущность в этом мире.
Иногда смерть открывает глаза умирающему человеку, позволяя увидеть невозможное.
В ординаторской я нахожу только Ларису, которая сидит на диване. После дежурства она, как правило, все утро ничего не делает, объясняя это усталостью. Но я знаю после утренней оперативки, что за всю ночь поступило только два больных, и она спала большую часть ночи.
– Что там за шум? – спрашивает она.
– Пытаются оживить пациента, которого вы приняли сегодня ночью, – отвечаю я, и, протянув историю болезни, добавляю, – советую переписать жалобы и анамнез, потому что вы не увидели острую сердечную недостаточность у больного, от которой он сейчас умер.
– Какая сердечная недостаточность! – восклицает Лариса. Вскочив с дивана и забыв о наигранной усталости, она хватает историю болезни.
Я отворачиваюсь и не слушаю бормотание о том, что она уверена в диагнозе на все сто процентов, а, когда она выскакивает из ординаторской, даже испытываю облегчение.
Как правило, жизнь закрывает глаза человеку, который не замечает очевидного.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!