Читать книгу "Cобрание стихотворений 2002-2020"
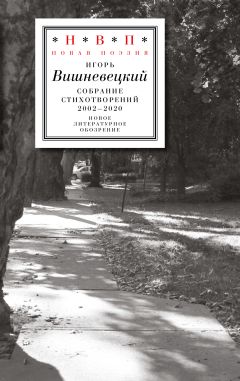
Автор книги: Игорь Вишневецкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
I
Вместо вступления
(2002)
Обернувшись назад: критикам
Вы, проведшие годы, сражаясь картонным мечом
с собственными тенями в подвальных
кафе Москвы и Петербурга
или внимая речам упырей из заветного «ящика»,
их стенаньям и пляскам,
не говорите теперь, что в словах моих больше слогов,
чем ваш глаз насчитает разрывов листвы
в окрашенных синим подбоем, впечатанных в стены ветвях.
Вы учились оттенкам сумерек, я же глядел в иссушавшее
солнце Северной Африки и стал точно рыжий песчаник
звонких её городов.
На мне резцом выводило
бестенные лозы и вспархивающих птиц,
пока я смотрел, как за холмами,
покрытыми крапом олив, зеленеет и плавится небо Сахары
точно раскрытая книга миров, в которой ещё напишут —
но уже не ваши – слова.
Ваше время – прохладный вечер, а моё – выпуклый день.
Для меня – шелест злаков и волны цикадьего треска.
День, блеснувший на пёстрых, покатых, расплавленных
крышах Москвы.
Чей яркий закат провожаешь, сощурясь
с карнизов Нью-Йорка,
с плосковерхих чешуйчатых
ящериц-башен Мекнéса.
Неужели степей суходувы станут глуше?
Или кварц, что резал ладони спрессованным шумом у самого
входа в пустыни, – вдруг превратится в глину?
И цепкое тело утратит упругость и жилистость
от того, что никто из вас не целил – как я —
в лицо изумлённому зверю? И не видел
крови, забрызгавшей снег?
Я уже пересек теннолиственные Аппалачи,
стылые Альпы, горячий
безводный Атлас,
жилище дэвов – Памир, сгорал от подкожного пыла
у горных озёр, где не водится
даже рыба,
не то чтобы плыть человеку, встречал жадногубую смерть
в платановых рваных аллеях —
нет ничего на свете,
чего б я не знал и не видел.
Когда я прочитал всех ламентов рост в дубравах дремлющих
предков,
в буквах резной травы, в клейнотах фосфорных лун
и когда задышал, как они, в полный щебет солнцем сквозь
пепел, —
то, услышав слова «побеждающий смерть», вы запомнили
только: «смерть».
Разделим пространство и время, и прочее: вам – немота
(с оттенками отсветов, эха), мне – прорастающий шум,
захватывающий весь регистр,
вам – вчера и сегодня, мне – завтра.
Оно уже шелушится
под кожей – невидимо вам.
16–19 июля 2002. Милуоки
II
Первоснежье
(2004–2007)
I. «Когда мне стало сорок лет…»
Когда мне стало сорок лет,
я увидал засветный свет,
и стало зренья волокно —
всё белое – темным-темно.
2004
II. «Как я боялся – о! – окаменеть…»
Как я боялся – о! – окаменеть,
стать формою, которой бы дивились,
а вышло: тени зримые смесились,
и немота вошла (уже) в меня на треть.
Без имени, как ветер в тополях
и лепеты взвиваемого праха,
я горло зажимаю не от взмаха
крушащего, а от того, что взмах
меня давно уж выбросил туда,
где дышат существа иного толка,
и только мысль, как лёгкая иголка,
сшивая тот разрыв, снуёт туда-сюда.
13 февраля 2004. Милуоки
III. «Всё выгорело: ветер и песок…»
Всё выгорело: ветер и песок
остались там, где сад шумел весенний.
Вычитывать не нужно между строк
того, что облекает плотью тень и
сверканием блескучую пору.
Вычитывать не нужно, говорю я,
что мягкости добавит серебру,
а ночи темноты – такой, в какую
всё выгорело.
8 августа 2004. Милуоки
IV. Морская
Вся смурная, в веснушках, смятённая девочка,
чьим именем плещут яхт-клубы Америки,
футболку сдирая с меня в четыре
утра у военно-морского пирса,
царапая спину от возбуждения
(бледная кожа, кровавые губы),
змеепоклонница, ветер из топей
Белой Руси, дикий цвет, что процвёл
в лёгкой мгле – говоришь, подбираешь души? —
как тебя занесло в наше ветромиганье,
дождевеянье, в масляность волн и на дюны?
Растекаясь по телу и плитам, шипя:
на свету, одетая кольцами дыма,
ты внезапно рыжеешь. Хорошо, что не вышло,
хотя так хотелось. Всё-таки лучшее
этих дней – как взмывали на лифте наверх
от подножия здания в сердце Чикаго
возле Площади Водонапорной башни
мимо стай сизарей, скользящих отвесно,
ошалело глядя друг другу в глаза.
И уже, если честно, мне было не жаль, как
не напишет А. Блок, тебе неизвестный,
что, сцепившись, тогда не глупые птицы
целовались, а мы.
4 ноября 2004. Милуоки
V. «Положи на язык лёд…»
А. Г.
Положи на язык лёд,
заедая счастливый яд,
что кипит изнутри, разделясь
на пары и тяжёлую взвесь
мутной змееобразной реки,
ставшей городом, скатом холма,
закипающий на языке
буквой грома, эхом ума
совершеннейшего, как шпиль,
вкруг которого ястреба
гнёзда вьют на ротонде. Пыль
крутит белую прокипь. Зоба
раздуваются у теней,
пролетающих за окном.
Что – легко быть поверх этажей
тридцати на тридцать втором
над ротондой? – Закрой глаза,
дай запястья твои возьму,
чтоб разодранных губ лоза
шелушилась лишь мне одному.
13–14 февраля 2005. Милуоки
VI. Попытка определиться: Путешествия в моей жизни
в москве я оказался впервые когда мне было два года
наверное в квартире на ленинском помню было очень солнечно
ели какую-то лапшу или что-то, что ели безостановочно
в шестидесятые ещё было много листвы у балкона и
солнца
это была квартира бабушкиного брата там я увидел своего
семнадцатилетнего
дядьку Лёшу и двадцатидевятилетнюю тётку Изольду —
ныне Ирину – родившуюся в германии (бабушкин брат
был разведчиком попал в моабит потом их сменяли на
немцев где-то в нейтральной турции)
родня показалась бывалой, старшеклассник Лёша особенно.
я его полюбил
там бывал много раз и ещё на речном фестивальная
дом восемнадцать + на даче: научился гладить
огромных (больше меня!) собак срезать грибы
перочинным заточенным ножичком и молчать
под скрипучими соснами
мы всё время куда-то ехали: по эстонии там украине латвии
мама дремлет отец за рулём я с дорожным атласом
всякой республиканской тем паче союзной дороге отец
предпочитал просёлочный гравий
совершенно кошмарный в эстонии на подъездах к немецкому
городу юрьеву
едва нам не стоивший легковушки
я так и не научился думать что это одна страна
(в единой стране, дорогой мой читатель, не бывает таких
дорог)
стало ясно: пускай отделяются. и гарцуют по ним на телегах
в этих поездках был маниакальный момент – слишком часто
всплывала москва
дядя Лёша играл на скачках, продувая огромные суммы, жил
безудержно а потом как-то вдруг (слишком рано)
женился
и моя назвáнная тётка – душевная женщина – варила супы
для собак
помню возвращаясь на дачу поздненько так дядька мой
незлобливо по-братски всегда предлагал
«ну что, Игорь, вылижем миски?
смотри сколько славного супа с грибочками: слюна у них
бактерицидная. ну как знаешь а нам не наварено
да и я брат не ел с утра»
и тут же присев на корточки совершал эту трапезу попиравшую
межвидовые барьеры —
бедный ум пятилетнего, прямо скажем, мальца замирал
от священного ужаса
и восторга
а москва повторялась опять с частотой эйзенштейнова блика:
вот лестницы солнце пенсне
с перерывами на отъезды
я окончил здесь университет дважды женился – оба раза
(кой чёрт?) – на москвичках в москве родился мой сын
путешественник от туриста отличается тем что последний
знает куда он вернётся а первый увы не знает
хорошо я уже повидал миссисипи (особенно дельту
с болотами) нагишом купался в атлантике осторожно
смотрел на тихий прохладный недобрый
лазал по альпам кавказу аппалачам атласу памиру побывал
даже в пыльной сахаре
а уж в скольких провинциях и городах – мне не хватит
отпущенных букв
этот текст пишу в десяти минутах езды от одного из
Великих Озёр
где порою светится рыба
и не перестаю удивляться что несмотря на – от отца
наследственный вирус
рассеканья пространств – продолжаю считаться по всем
документам жителем этого города
где я помню себя в два года
а мне говорят путешествия мол перемены
24 апреля 2005. Милуоки
VII. Аnimа(e) urbis
Отойти б от времени, где стоишь,
заслоняя бессонный ночной свет,
поводя темнеющими, как дрожь,
в которых есть всё, только правды нет,
безумие, может быть, власть над мостами,
разъединяющими острова
дыхания: вздыбившись ангелом конским
над мутной водой. Солнце замерло в горле,
приспустившись за розоватый
окоём (полыхнув вовне),
будто ветер горячей лопатой
ударил по головне
возле лёгких, рассыпав осиные угли,
сокрушая беззвучием звук
в слухе слуха, в сухие взмахи
одевая тёмный зрачок.
А теперь повторяй, те воды
возмущавшая, – на волокне
жаждой двойной природы
денноночествующая во мне:
«Этот сердца надрез, сбой,
двух зрачков синкопа, удар
мельниц воздуха, в волосяной
перекрученные пар,
прорисовывают не букв
набуханье, не жестов – но
шелестящий, лиственный звук: в
нас соткавшееся волокно,
сквозь которое – сквозь экран —
бьётся сердце, рука и злак,
и скула, из стянувших пелён
вам не видимые никак».
И сгущается ноющий звук.
2 июля 2005. С.-Петербург
VIII. «Хмелящей какой медовухи…»
А. Г.
Хмелящей какой медовухи
напились под вечер луга,
чтоб света бездонного взмахи
глотала туманная зга,
чтоб силой выдоха и вдоха,
пока гляжу и вижу, шар
сквозь око зренья, взмаха эхо
пожаром вылизывал мир,
а у той, что возле, три солнца —
на лопатке, лодыжке, ладони —
преломляли б светóв вертоград
в каждом льве, в каждом взмахнувшем грифоне,
отряхая пылью назад
тени солнц – и она бы глядела
в колосящийся камень, как в поле, в каком
прорастает не нужное больше ей тело
ветряным языком.
– Свет несветный, пролейся сквозь воду,
ветер, кости, траву,
дай паренье грифоново – льву,
острый клюв – светопёрому своду,
раздробляясь в каждом оконце
вод и ветра – в плеск наяву.
29 июля – 6 августа 2005. Боголюбово – Москва
IX. «Здесь, – говорит старик, – шумели ель…»
«Здесь, – говорит старик, – шумели ель
и липа, и грачи гнездо свивали».
Всё сметено: дома, конюшни. Пыль
полуденных лучей из колыбели
травы сочится скатами к реке,
где окунь, жерех, лещ. «Припоминаю, —
ещё он говорит, – как жеребец в тоске,
едва пошла шугá – бродил по краю
воды, а после – скок и потонул».
Теперь трава, высокая, как пенье,
и прошлого необоримый гул
там, где яснело яблони цветенье.
Жар проступает в книге зримых снов
огнём Сварожьим, дышащим курсивом,
разостилая прорванный покров
по травам, по руинам, по извивам
реки, лесов. О, белые луга! —
сознания оснеженное диво.
Уже не Зу́шу – мерная шуга
всколыхивает жизнь, и звук наплыва,
удара льда о лёд, цветенья снег
слипаются в ресниц секущем взмахе,
и, всматриваясь в солнце, мыслевек
не щурится, прикрывши – в страхе
спалить – свои телесные глаза,
а видит прямо жар стихий и холод,
там с листьев не вспорхнула егоза
и мир в дрожанье сплавлен, не расколот.
28 августа – 1 сентября 2005. Орёл – Ростов-на-Дону
X. Прислушиваясь к шуму ветра
Родившись с обострённостью слуха, я понимаю, чем
всё завершится.
Шелушенье ландшафта, теней оживающих мыслей —
по краям бессонного мозга, – вставших на цыпочки,
тихо глядящих в глаза (в час тревожной тоски
перед утром).
Формы предметов колеблются.
Это больше, чем ветер.
Вероятно, это и есть та музыка, что затопит собой
всё пространство.
Ударяя в меня изнутри: на отрезке от стоп до груди, заставляя
вздрагивать руку у локтя.
Потому-то все звуки представляются как бы расчерченной
партитурой с голосами разной подсветки:
фортепьяно почти всегда светло-серое, синие скрипки, густо
фиолетовые виолончели, тёмно-серые (почти чёрные)
контрабасы, оранжевые тромбоны, золотисто-жёлтые
трубы, коричневый голос гобоя, красноватый – рожка,
белый грохот литавр.
Видя в предутренней дрёме цвета, я представляю себе
звуковую и нотную запись.
В ней отсутствует напрочь зелёный – в силу вторичности? —
солнце, прóлитое в тёмно-синее.
Вот оно, восходя, ожигает углы обострённого слуха.
Или зрения. Что, в общем, одно и то же.
Ветер сгибает углы зеленеющих – синее в золоте – елей
и пихт: между окном моей комнаты и заоконным,
коричневатым зданьем.
Озеро тоже блестит – серебром амальгамы-челесты.
Я не раз и не два представлял себе в отрочестве, как стал бы
записывать музыку, а потом записывал: синим и чёрным
на разлинованной нотной бумаге.
Музыкант (композитор) слышит звуки всегда вертикально —
от басового чёрного, в нутряной глубине, почти уходящего
в землю – вверх до ультразвуковых завихрений или —
наоборот – сверху вниз, как съезжание тонов, их
скольженье во влагу утробы.
Ну, а ветер – прорывы в срединное поле из‐за верхнего за
и из-под нижнего вне.
Невозможно представить себе мир без лестницы звуков.
Существа на последней ступеньке глядят в телескопы
на кольчатых – тех, что внизу.
И анархия – даже не ветер, а только провалы немот.
Форма меня осциллирует. Как и звуки или предметы.
Главный страх – вдруг не выдержу, лопнут все перепонки. И
останется плавкость: размытый рубеж между цветом,
звуком, сознаньем. Вот тогда-то на гладком,
оструганном и проолифленном тёплом квадрате доски
обозначатся образы звуков.
Те же, кто не обрёл никакого звучанья, – расплавятся в фон.
Это будет присутствием музыки в зрении цвета, мотивом
разбуженной жизни.
Остальное – попытки схватить, удержать незаписываемое.
Шум, который вовне и внутри.
Ноябрь 2005. Новая Грачаница
XI. «Дом, говоришь, сложился вовнутрь…»
Анастасии Розентретер
Дом, говоришь, сложился вовнутрь
и даже на крышу не влезть:
рот обметало снежной крупой,
воздух другой над тяжёлой рекой,
под ногой не грохочет жесть;
и нет высоты, с которой глядеть,
когда забирает дух:
одна лишь февральская стынь на восток,
на север и запад; и на замок
ненужные зренье и слух
запереть остаётся, стоять в слепоте,
в неслышимости, сложив,
что было подъёмом, ударом о вдох
и выдох искрящихся масс, что во снах
уже обретало отлив
стальной, бирюзовый, медяный? С крыш,
сложившихся в дня чешую,
себя не узнаешь, окрест посмотрев;
ну, разве что вспыхнувших масс перегрев —
внезапным ударом в змею
тяжёлой реки.
11–12 февраля 2006. Милуоки
XII. «В зимний дождь вспоминаю всегда о тебе…»
В зимний дождь вспоминаю всегда о тебе,
как взрывались петарды за окнами, то, как фонтан шелестел, —
всё почти невозможное счастье на бедной Мария-дей-Монти.
Майя, Майя, со смеркшимся зрением, с залитым громом умом,
в переливчатом панцире стынущей ртутной воды
вот стою, поводя – в цвет камням – малахитовым плавником,
затирая по яркой брусчатке следы
пузырящейся крови…
14 февраля 2006. Новограчаницкий монастырь, северные пригороды Чикаго
XIII. Весна в Аппалачах
Каждый год в апреле полчища непарного шелкопряда
облепляют дубовые листья в горных чащобах
Виргинии —
выдутые полтора столетья тому из трепещущей чашки Петри,
позабытой беспечно на подоконнике массачусетского дома
энтомологом Трувелó.
Он потом возвратился во Францию, стал астрономом.
Конфигурации солнц надёжнее хищных повадок
чешуекрылых,
ворвавшихся в воздух, в леса и холмы,
веемых ветром желанья
на юг и на запад, где время горит порыжело.
Впрочем, Ксения говорит, на любовь есть управа – любовь.
Аромат слишком тонок и душен охмеляющих феромонов,
распыляемых здесь по горам, погружающих мужеских особей
в шелкопрядовую нирвану, угашая пожар
обладания всем, что не-я, древодня, продолжения рода.
Алексей, улыбаясь, потягивает сладковатое,
пахнущее белым соком горного винограда
вино. Им далеко до нирваны.
Новорождённый Андрей глядит на летучие тени
и – голубоватое в дымке, всплывающей с зелено-синих
хребтов, залитое жаром небо поверх Аппалачей.
Скоро крыла шелкопрядов вспыхнут в нагорных лесах.
*
Я говорю о том из области огня,
сжигающего воздух и меня,
огня влеченья,
облекшего, как тело простыня,
глазами и желания и зренья.
Так шелкопряд, чей лёт,
касается пахучих, клейких нот,
аккордов цельных
расцветших почек – видит жар и свет
во мгле предельных
чащоб, что поглощают перегрев
полуденный – перепорхнув, задев
о жар из лона
незнанья, сам влечётся, ошалев,
в блеск феромона,
разлитого, как в колосках посев,
как свет Закона.
11–12 марта 2006. Блэксбург, Виргиния
XIV. «Крылатые львы моего детства…»
Крылатые львы моего детства,
украшавшие фасады домов на Пушкинской и на Газетном,
волшебные жезлы Гермеса,
шелестящие змеями и хлопающие крыльями,
сны о сверхреальном
у разгаданных здесь под клёнами, возле каштанов
поэтов из антологий,
бунт против разума, рождающий знание, шелест
мира Природы, пожравшей культуру:
листьями клёна, плодами каштана —
я, повторяя засевшее некогда в память в тех тенных проулках,
благодарен вам всем за эту сухую прохладу,
за благоволение ваше,
когда, легче тени
(не поймаешь даже в ладони),
я прохожу в сердцевину
и растворяюсь
как кровь.
22 июля 2006. Ростов-на-Дону
XV. «В меня, как в книгу, невозможно лечь…»
В меня, как в книгу, невозможно лечь
и даже приблизительно – обнять.
Ты слышишь, как волнится цветоречь
листвы, как оживает ящер-ять?
Я был тебе дыханьем и отцом.
Теперь иди туда, где алфавит
рисуется грозой или ребром,
и контур дня созвездьями прошит.
В одной руке пускай прозрачный жук
мигает трепеща,
в другой – почти ручной, зобатый звук,
тобою снятый с мягкого плаща.
Его подкинь с руки – пускай вспорхнёт
в сознанье заполярное, где сам
сквозь стужи блеск в неузнанный черёд
я громом процету твоим глазам.
23 августа 2006. Москва
XVI. Без рифм
Когда три с половиной года тому
я скользил к тебе по почернелой лагуне
из аэропорта имени Марко Поло,
и бархат воды с окантовкой сигнальных огней
предвещал тревожные сумерки,
а после мы пили сухое вино, заедая ломтями
острого мяса
в прокуренной, узкой таверне,
я трогал тебя за ворот, смотрел в потемнелость твоих
зрачков – в масло зимней лагуны —
и ты отвечала: «Пойдём?»,
а наутро воздух трепал
радужные полотна
с росчерком: «Мир!» по периметру площади
в огромном проёме окна:
сквозь него
свет плавал по нашим одеждам,
искрящимся на полу, —
ты щурилась: солнце февральское!
Возможно ль в покое и блеске,
облизывающем острова,
представить хóры сирен, контрапункт тротила?
Выхлопы гари и кровь?
Теперь всё уже свершилось:
твоя и моя Европа
опустилась в надир;
и если сухое пламя
окрашивает кресты
в армянском монастыре на Острове Прокажённых,
то это лишь загоризонтный
свет.
Война полыхает в подбрюшье.
Ангел с разящим мечом взошёл на вершину Хермона.
Щёлкают клювы фантомов.
Сера кипит из щелей.
В Книге Дня, в которой записан
и твой дымчатый город в лагуне —
где-то ближе к концу, —
в несгораемой книге на крепких застёжках,
остаётся немного места,
и, как знать, может, сейчас
алое око, мигнувшее
причалам Острова Лазаря —
некогда: Прокажённых —
за какой-то миг до заката —
птицам,
спорхнувшим с воткнутых в воду шестов:
воткнутых вдоль фарватера,
есть всего лишь застёжка
на одной из прозрачных сандалий
у того, кто опустит Меч.
27 августа 2006. Москва
XVII. Александр – воинам:
Тьмы ударов ваших подошв
о песок и о снег
и копыт взнузданных вами коней
о мутную рябь Азиатского
Танаиса, чей соименник
рассекает горячие степи
на закате, —
вод,
по которым по пояс брели
мы под выклики гнутых рогов
и пили из пригоршней тухлую влагу, —
разве мало вам их
изумлённого блеска?
Знайте: солнце, что тянет посевы,
наливается в ваших мышцах,
разрешаясь в сверленье стрелы,
трепеща даже в крыльях жуков,
это жар от меня —
аз есмь семя Зевса-Аммона.
Ведь не даром садился орёл
на нос корабля
моего в дельте Нила,
и луна затмевалась
в болотном сиянье Ассирии…
Или это не вы
подымались
на чёрных крылах
на отвесные скалы Памира?
Кто ж ещё, как не вы содвигал
на Горе Дионисовой чаши
посреди поверженной Индии?
Крепче духом: отныне пределы
завоёванной вами державы
совпадают с пределами мира.
Пусть залогом вам будут два пламени
из рогатого шлема,
Аммоново
клеймо на челе Буцефала.
Звёзды движутся вашим дыханьем.
Солнца жар окружает сердце.
Взгляд объемлет провалы земные.
Остаётся одно лишь усилье —
и исчезнет безвидная смерть.
14 октября 2006. Москва
XVIII. Местность
Е. К.
В жизни другой я был бы наверное волком.
Пальто прирастает ко мне точно тканая шкура.
Сейчас на дворе время ржави,
и сыростью тянет из рек,
погребённых под Городом.
Зелёные лиры деревьев
приветствуют нас,
сам-друг с серой тенью
спускающихся по кольцу
потеплевших бульваров.
Зияние света радует глаз
изгибами линий.
В ночь, когда ты уехала, выпал снег,
наполняя ровным искреньем
покой.
Внутренний свет становится внешним,
набухая в буграх позвонков,
сквозь потёртости щёк и лодыжек.
Воздух оплотневает.
Лиры деревьев
в медной ржавчине – всё не слетевшей.
Твоя речь ещё на губах,
перебивчатый синтаксис – в сердце,
в зренье – селезни дымчатых масс
молока и лазури: как
мне укрыться в такой снегопад?
Хоть закусывай до крови губы
или, встав на задние, вой
на полдневное солнце.
Впрочем, я не волк – лишь стрелок
среди дымчатых серых курганов
и легко затеряюсь под их
домотканой защитой.
17–30 октября 2006. Москва
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!





























