Текст книги "Cобрание стихотворений 2002-2020"
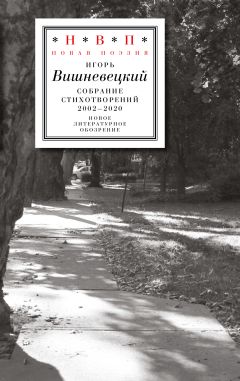
Автор книги: Игорь Вишневецкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
XIX. Первоснежье
Е. К.
Не в зелёных, как сон, садах,
не в садах, что по брови в воде,
не в садах, одетых цветом во снах
или снегом наяву, – ах, в нигде,
в том пространстве, где жгучей пыльцой
провевает ноябрь в молоке
у реки парк, сгорело кольцо
на какой сама знаешь руке.
Так лети же на юг, где поют
птичьи горы и густая река,
где леса почти беззвучно текут
переливами росы-молока:
там люди не ведают букв,
вслед за летом приходит зима —
шкуру старую спаливши, на юг, в
изумление света-ума.
*
Если ты не будешь мой дом
беспокоить, то кто тогда? —
позвонок зацепив позвонком
и ребром о ребро, в холода
придавив, как рябины гроздь,
тем, что выпросталось из тугих
мышц, мою плечевую кость;
поддержав подымающий взмах
колебанием, выдох – вдо=
хом плотно прижатого рта.
Как тепло подыматься до
крайней точки, о немота,
где уже раскрываются сто —
на плечах и на рёбрах – век —
ласки выгибом, теплотой
ожигая метельный снег.
*
Ранней стужи стакан, будто водку пил,
поднимает внутри ветряками сил
прах отземный, гонит внастил.
Языками искристая недолгá
заползает в край, где река, в снега
зарываясь, в нагие рога
протрубила, где утром, на рыжий свет
щурясь, смотрит лисица, где лыжный теряется след,
отзываясь сердцу в ответ.
И когда, потревожена звоном извне
об окно, питья в истомлённом сне
ты пригубишь в колёсах теней
серых птиц, пробегающих по щекам,
по спине и рукам – – большей жаждой сам
я тогда развернусь на дне
твоей жажды.
Точно пожар спиртовой.
1–5 ноября 2006. Москва
XX. «Твои буквы азъ и глаголь…»
Твои буквы азъ и глаголь
барабанной дробью в ушах
заметает сухая соль
на покатых птичьих горах,
где с тобой мы бродили два
долгих года тому назад.
Память входит в свои права
и наводит прицельный взгляд
на ступенчатый спуск к воде.
Там в иное время, в ином
колесе событий – но где? —
нас трепал листоливенный гром.
А теперь только белый плат
всюду, сколько охватит глаз,
да моргающий птичий свет
от реки, что летит дымясь.
25 января 2007. Воробьёвы горы
III
Сквозь видимый мир
(2006–2012)
Сквозь видимый мир, стихотворения 2006–2011
I. «Дерево нашей державы держится на одних…»II. C’est ne pas un vers
Дерево нашей державы держится на одних
воздушных и светоносных массах, дрожа листвой.
Мы произносим слово, оно оплотняется в стих,
стих расцветает веткою, деревом и страной.
Я скажу напрямую: если пролить, сколько те
пролили в нашу землю яду, крови и лжи,
то всё равно оно выстоит, даже и в пустоте,
и переполнит кроною время по рубежи
видимого и прорастёт через него, из себя,
ибо несокрушимо, сколько живёт язык, —
в трубы созвучий смыслами огненными трубя,
птицами букв взлетая с листьев зелёных книг.
23 марта 2010. Москва
Милуоки, где я написал
прежнее американское,
где я прожил лет пять или шесть лет тихо и уединённо,
почти как в монастыре,
чтобы после переселиться
в стены монастыря настоящего —
впрочем, на время, —
сложивши в ковчег
буквы слов и надежд, свернув,
как имаго, жизнь прежнюю в кокон, – —
город, где воспитывал сына
и бродил вдоль озёрных песков,
часто ездил на маяки
и на дымчатые морены,
дальше – к Северу —
в хвойное графство Дор, —
ГОРОД ЭТОТ встретил меня ледяной,
прожигающей до костей
бессонницей.
*
В прошлом подруга
(зачеркнуть) концертмейстер балета
(зачеркнуть) завела себе дело —
прачечную, и вот
всё не мог уснуть в колебаниях
свитеров, юбок, пальто,
что покачивались на распялках
под дыханием жаркого ветра
из гигантской трубы отопления.
Это прошлое дуло в меня,
овивая вокруг головы
змеями воздуха:
ну же, смыкай
глаза на простынях снега,
в фейерверках бесшумных мигалок
полицейских машин, что скользят
за – здесь штор не держат – огромными
окнами на центральную
магистраль.
Рядом серел
прежний дом, ключей от которого
не извлечь
из наполненных пеплом карманов.
*
Отражение в американских,
не ловивших больше пяти
здешних жалких и сумрачных месяцев,
полных тоски и метелей,
подтянулось – не то, что в русских,
там всегда расплющено книзу;
будто вдруг озираешь себя
глазом ожившего Вия;
и спадают с дремавшего тела
слюдяные слепки скорлуп,
оживает масса несмелая
шевеленьем бесшумных губ.
*
III. «Только взглянешь туда – полыхающий май…»
А теперь о главном – ты
не читай этих строк, как секвойя,
нацеленных выстрелом вверх,
раскрывающих птичьи рты,
отражающихся в ледяное.
Впрочем, знай,
ты уже прикоснулась
до таких невозможных глубин,
что позорно долго молчать.
Пусть высок окружающий тын
страха, грудь запаяла печать
страсти. Я-то знаю какой
от виска до внутренней зги
ты вытягиваешься стрелой.
Словно гром из ладоней пурги.
Что ж, свернись в удар,
прожигающий и кремень,
и доспехом из перьев надень
облекающий пар.
5–6 декабря 2006, Милуоки (и 13 ноября 2006, Москва)
IV. Крымское: первые буквы (Азбука –З емля )
Только взглянешь туда – полыхающий май,
пух, взвиваемый прахом,
как любил я его лет за десять – прощай! —
сколько жизней с тех пор миновало:
будто линзу навёл на скопление пчёл,
и увидел биенье
крылолапого сердца, смертельный укол
сверхреального зренья.
Там гребцы в Потóмаке, влага дугой
над мостом через реку,
но в неё не войти, слившись с прежним собой
в душный день человеку.
4 мая 2007. Вашингтон
V–VI. Сорок пять
АЗБУКА крымской земли
слóжена из
дыханья глубокого моря, потухших вулканов,
шелеста буковых и можжевеловых рощ.
Когда я очнусь от всечасного морока зренья,
со слуха спадёт пелена,
я тоже сложусь в пестрокрылую яркую букву,
усиками развернувшись на жаркий восток, —
в БАБОЧКУ БАХЧИСАРАЯ с персидско-арабской
вязью пыльцы,
но с рисунком зубцов, полукружий
крымско-татарским —
в ту, что поверх девяти
плачущих лотосов вырезанного фонтана
пляшет и дальше скользит —
в пыльном ВОЗДУХЕ степи —
через ГОРЫ,
в каких высекали пещеры ГРЕКИ и ГОТЫ,
хвалы вознося Богородице —
под её омофором
звёздного неба
простор высветляется в ДЕНЬ, —
на юго-запад, подальше от зноя,
через отлогие чащи, вослед за сарматским
оленем, сбегающим к яркой воде.
Там ЕВПАТОРИЯ, белая в йодистой сини, —
город, где в детстве купался в рапановых водах,
ездил на пляж на трофейных немецких трамваях,
после часами валялся в просторной гостиной
съёмной квартиры, весь обожжённый до жара
щупальцами слизевидных медуз-корнеротов —
как ненавидел я этих прозрачных существ! —
Как там блестел потолок, изрисованный солнцем!
Бабушка, помню, молчала, лишь байки хозяев
о миновавшей – для них лишь недавно – войне,
вечные байки, какие я слышал всё детство,
про оккупацию, страхи, нелепости, юг —
спать не давали.
Каким теперь эхом
вспомнились мне б среди призраков Керкинитиды,
в южном углу превращаемой в морок державы
байки про наш затянувшийся собственный плен?
ЖИЗНЬ, замкнутая в кокон сна,
исчерченная письменами,
качается, заключена
в молитве, что словами
и мысленно творим
о родине свободной,
и доверяем им,
словам, – что соприродно
не скáзанным, внутри
крепчающим порывам
на первый свет зари —
им, пламенноречивым
и лёгким; им – из пут
свиваемого праха,
поправшим плен минут,
во весь простор замаха
раскрывшимся в любой
из рощ, что зыблют склоны,
в хвоистый вал – солёной
ударившим волной.
Здесь та ЗЕМЛЯ, грядущему чиста,
где русское преобразилось слово,
где Пушкина оставила тщета
и воспаряет зрение любого
чешуекрылым с мягкого листа
сквозь ветер солнца, как порыв сплошного
сознания, из узкого скита,
столпом огня – опора и основа
тому, что в помутненье охряном
готовится для нового усилья
собою быть, всё взяв и сохранив,
и вот дожди становятся вином,
трепещут гробных кипарисов крылья
и смыслом высветляется прорыв.
13–14 декабря 2008. Москва
Встав на вершине жизни,
в пригоршнях держишь посев
кириллицы, от которого
на север, на юг, на восток
новые заколосятся
рощи и, осмелев,
новые смыслы заи́скрятся
между их лиственных строк.
Но и в пожар наступающей
стужи, раскрыв стихослов
русских равнин бескнижных,
прежде незнаемый чин
складываешь из прерывов
брошенных в стужу стихов,
из перемены созвучий,
тревожащих воздух равнин.
Азъ прорастает на белом,
сколько хватает глаз,
чертит крылом полукружья,
дыбит позёмку, пока
не загорится над чистым —
оком Сварожьим – алмаз
солнца, приветствуя звуки
нового языка.
В нём даже смыслы, спавшие
в коконах у корней,
выпорхнут, затрепещут
от сочетанья письмён,
и мягковеянье льдистое
снежной равнины всей
к солнцу потянется створками
как меловой махаон.
Чистое только на чистом —
вот и пиши, сколько сил
хватит, поверх его алым
беглым курсивом ряды
слов, подымающих спящих
из вневремéнных могил
шелестом звонкой кириллицы,
жаром дневной звезды.
VII–IX. Балаково
Пятнадцать лет назад
в тихом городе Провидения,
развёрнутом на Атлантику,
на дождливые ветры её,
я складывал труд о поэте,
надевшем епитрахиль
и пересекавшем голодной зимой
в пору нашей гражданской смуты
в неприветливом поезде
именно эту степную, в снегах, равнину:
в вагоне, лишённом крыши, открытом продувным ветрам.
«Это, – припоминал он, —
больше смахивало на барку Харона».
Скованная цепким льдом,
Россия казалась ему Коцитом,
над которым снежилось забвенье.
Тогда – лет пятнадцать тому —
над приволжской равниной
опять зашагали циклопами тени
отогнанной было беды.
Но теперь,
когда поезд ползёт еле-еле,
то не бледная снежность, а солнце
из‐за плоских сухих облаков,
солнце, блещущее на востоке,
поражает взгляд
при подъезде к теченью гигантской реки —
поперёк её вздыбились дамба и мост,
опершись на крутые быки.
Вдоль быков вскипают водовороты.
Солнце встало уже во весь рост.
5 января 2009. Поезд Москва—Балаково
Грифоны под снегом в порхающем сне
сарматского края над старым парадным
заштатного города, тысячи дней
для вас в меловом, довремéнном, надсадном
снеженье, быть может, в дрожащий один
слились, и не нужно ума и отваги,
чтоб в этом увидеть степей карантин,
а всё остальное – мечты на бумаге.
Но, может быть, эти мечты и слова
дадут верный очерк всей Волги январской,
того, как зимуют зерно и трава
губерний Саратовской или Самарской,
а обморок – тот, что, грифоны, у вас
смежает крыла и клонит ваши выи
под снегом, – в словах перельётся в рассказ
о солнце, что тянет из почв зерновые,
звенит в колошении трав и пшениц,
в разбуженном лёте шмелей, махаонов
и светится росплеском листьев и лиц,
и бражников, вспугнутых в полдень со склонов
серпом Прозерпины.
Солнце, стоя в зените,
освещает лазурь облицовок
и Гермеса с Дианой,
украшающих угол
вот почти уже век
пребывающего в небреженье
дома купцов братьев Шмидт.
Но поплывшие в воздух с фронтона
и волшебный Гермесов жезл,
и олень-Актеон
(его цепко схватила Диана),
и нагой атлетический сеятель,
и одетая в тунику жница —
к чуть светящейся, ставшей реке —
как не зябко им
в хрусткий мороз,
опускающий ртуть на десятки делений
ниже точки таянья льда! —
представляются
обещаньем того, что мечта
о Поволжской Элладе,
что согрела сознание тех, кто
торговал здесь и строил, —
нет, не морок, спорхнувший из книг,
и не блажь пришлеца,
а залог,
что в язвящую стужу
разворачивается всегда на весну
колесо небожарого солнца.
X. Над свежей могилой
Всадники занимают овьюженный город.
Трубы степи
звучат над притихшим посадом
плавясь в мозаиках золотом, на котором
архангелы приподымают лазурный шар
от дланей воздевшей их обе горé Матери Божьей —
внутри неё в алом круге Спаситель-Сын —
и этот двоящийся шар – лазурный и алый —
вверх ползёт по стене,
полыхнув в крестах и в ослепительном звуке.
Город молчит. Войско,
отталкиваясь копытами
снежных коней от земли,
тоже всплывает, как стебли проросшего мира.
Город накрыт белым порхом с проплавами ветра.
Белое дышит на белом, золото блещет, лазурь
в звёздах такой белизны, что хоругви
зыблемые
переполняют сердца горожан
льном голубиным.
9, 11, 13 января 2009. Балаково
XI–XV. Занимательная энтомология
Свет, ослепительный свет
ударяет в мембраны зрения.
Труба возглашает завет
смерти и воскресения.
Его по вязи огня
уже повторяют хоры и
хоры существ, которые,
лёгким доспехом звеня,
встречают тебя, отец,
как в детстве – в цветном пределе,
узами тела в теле
не связанного, наконец.
«Бури жизни миновали,
страдания земные окончены,
бессильны враги с их злобою,
но сильна любовь, избавляющая от вечного
мрака и спасающая всех, о ком
возносится Тебе дерзновенная
песнь: Аллилуиа».
Хвала Тебе, создавший утробу и своды дыханья.
Хвала Тебе, расцветивший всем спектром лучения радуг,
превращающий в пар кроветворную соль Океана.
Хвала Тебе, сливший всех нас в единое мощное сердце,
солнечным языком ударяющее в звонкий купол,
в колокол мира гигантским протуберанцем,
гуд его отдаётся в планетных орбитах,
остро рисуется в письменах Зодиака,
и лучистым пунктиром двух эллипсоид
нам обещает свершение метаморфозы.
Верим, бесхозное тело, что дышит личинкой
в братской земли перегное, – выпорхнет в пламя.
«Веруем, что недолгой будет разлука наша.
Мы хороним тебя, как на ниве зерно,
ты произрастаешь в иной стране».
Ты, папа, любил формулы и разъясненья.
Брат положил тебе в гроб любимую ручку.
Если не станешь прерывистым пением солнца,
шелестом в ветре весны, расправляющей парус,
будет тогда чем записывать на иномирной
ломкой бумаге тебе иероглифы ритмов
жизни и смерти – теперь-то вполне очевидных.
В щёлочку только и видно нам, в почву укрывшим
сердце твоё, твои кости и ткани – замкнувшее сгустком
впавшее в некробиоз превращение воли;
в щёлочку только – нам, страшный посев совершившим.
Но прорастёт сильный колос, услышим твой голос,
в омоложении волос чело увенчает:
там, где уже шевелятся единые судьбы
в зримом бессмертии дня, в волнолучии света.
«…Какой благодатный переход в мир Духа,
какое созерцание новых неведомых миру земному
вещей и небесных красот,
душа возвращается в отечество своё,
где светлое солнце,
правда Божия просвещает поющих: Аллилуиа».
Се опаляющий жар —
многоколёсный огонь:
солнечный диск сквозь ладонь
просвечивает, она
разомкнута, чтобы в дар
принять всего спектра лучи,
раскаляясь в печи
воздушной, состав волокна
меняя, – теперь само
испускает жар и творит
пенье планетных орбит
эхом первоогня,
и солнцебуквой клеймо —
нет, не клеймо, а глаз
глядит, не моргая, на нас
с ладони всесветного дня.
10–13 апреля 2009. Ростов-на-Дону
1
Как запевает полевой
сверчок44
Gryllus campestris.
[Закрыть] в посевах кукурузы —
смычком о зеркальце, волной
переполняя звука шлюзы,
вечерней песней, стрекотун,
сквозь трепетание надкрылий
склоняя тех, кто слухом юн,
своей мужской певучей силе
поверить, так и я сквозь сон
расплавленного солнцем края
вдохнул, порывом охмелён,
и всё пою, не замечая
ни близости холодных дней,
ни той поры, когда потомок,
рождённый песнею моей
сам громко запоёт, – неломок
вне поколений и времён,
сменяющих одно другое,
мой голос, к жизни пробуждён
жарой и мглой земного строя.
2
Чем глубже в память, тем ясней:
лист тополя в разбеге жилок,
дневная пыль сухих камней
и перепорх степных кобылок55
Asiotmethis muricatus.
[Закрыть],
чьи аскетичные тельца
бескрасочная маскировка
сливает с сушью без конца;
Дон в зеркальцах – идёт низовка,
с утра задувшая; так вот
как выглядит страница в книге,
где буквы-саранча в поход
выводят жадных строф кулиги —
«квадриги» молвил бы иной
певец возвышенного строя —
и ровный ветер надо мной
колеблет мрение степное.
Ещё не пала саранча
на смыслов первые посевы,
и степь спросонья горяча
как лоно девы.
Ужас при одном только виде этого
суставчатого длиною с ладонь существа,
пожиравшего корнеплоды в саду моей бабушки,
связан вот с чем.
Живя под землёй, оно быстро бегает —
но ведь землеройкам бег неподвластен.
Живя под землёй, оно летает —
но разве в земле водятся птицы?
Живя под землёй, оно ловко плавает —
но о рыбах подземных мы не слыхали.
Однажды мальцом я услышал собачий лай.
Двоюродный брат сказал: «Пришла медведка».
Это было так же тревожно и книжно,
как если бы кто-то сказал: «Вот и казни египетские…»
Я увидел в ночном горшке,
налитом почти до краёв дождевою водою,
стрекочущее существо и озвучил вывод:
«Утопла. А если поддеть её палкой?»
– «Не стоит: да ты посмотри!»
Существо стало быстро двигаться
к ужасу взвывшей собаки,
выпростав крылья,
поднялось
и полетело к посадкам.
Такое чувство – я понял – испытывал рыцарь
при виде сражённого им безголового змея,
вдруг в смраде и в мутном дыму рванувшего в воздух
и дальше – во чрево рассевшейся адской горы, из которой
он вышел.
Когда мой отец с сестрою и братом
вернулись в Азов, где у деда с ещё до войны
сохранялась квартира – две комнаты: рай! —
их на набережной встретил огромный дуб,
высаженный, как им рассказали, Петром.
В шумной кроне играли в очá:
надо было пятнать, прячась среди ветвей.
Дуб был домом ораве мальчишек,
выраставших под солнцем, без шумной тени,
потому что немцы спилили деревья —
даже просто посадки вдоль пыльных дорог,
и сожгли все байрачные рощи,
опасаясь диверсий,
и вот, всю войну протомившись,
Алексей и Георгий разбивали носы и коленки,
но карабкались вверх, к самой макушке,
где тебя запятнать
мог только безумец.
Там была вершина вселенной.
Холод ветра и солнца зенит.
Я же думаю о колебавших
серые крылья в полуденном свете
ими вспугнутых бражниках,
с виду похожих на стаи
моли – только уже великанской, —
так и есть, объедавших зелёное платье
дуба, что устоял в войну
среди треска пожаров
им – серым бражникам —
на прокорм.
То сознанье соседнего мира
память этого бередит.
Стада, перегретые солнцем, с лапчатым знаком
на крыльях прозрачных
движутся к сальским степям, вгрызаясь
и сжёвывая челюстями до основанья
посев человеческой, спелой, тяжёлой пшеницы
вместе с листвой тополей – летом сорок второго.
Ландшафт сереет, алеет, потом зеленеет
от краски, впитанной полчищами жующих
злаки и кроны деревьев, воздух и грунт.
Двигаясь чешуями огромной машины,
послушные приводу шестерён и ремней,
стада колесницей сминают степное пространство,
гигантским скачком locusta migratoria
Мартыновку окружая пожаром войны.
А в древности здесь был город, но имени мы не знаем.
И вот говорят, оплотнев в полуденном жаре:
«Пойдём поиграем в игру, комиссарские детки,
безмозглые зайцы: мы будем стрелять, вы – бежать».
Отец не рассказывал мне, но их дважды водили
с братом, сестрой и матерью те, кто читал
«Фауста», – тех, кто после прочтёт Толстого.
Такая была забава у саранчовых.
Но ржавый язык человеческих прямокрылых
сжёвывавших, хрустя, миллионы стеблей,
был до конца отцу моему непонятен:
«Лающий, даже не волчий – собачий язык».
В снегу, засеявшем всё пространство,
неизвестный прежде вид сóвок,
висит перевёрнуто, словно сердце
современного русского, как говорил
властелин времени человека.
И когда оно выпорхнет и затрепещет,
волнами воздух вокруг разгоняя,
зиму и смерть обращая в весну,
воскреснет всё, что давно молчало:
вот дед Иван приехал к семье
после сражения под Сталинградом —
на розвальнях, с ординарцем, – сидят
рядом с отцом Алексей и Георгий,
в руках вертят табельный пистолет;
а вот я вышел с отцом
в ночь охоты в засаду
в заснеженных плавнях Нижнего Дона:
воздух трещит, ружья на взводе,
ломкий наст к утру посинел. —
Все живы, время затормозилось. —
Что же, когда это вверх поплывёт,
усиками задевая о воздух,
лентой на теле язвящей стужи,
и когда станет видно дальше, чем видел
несовершенный глаз человека
и ясность сознанья вернётся к нам,
тогда трубы последнего века
и возвестят каждому, всем,
что унаследуем мы весну
бесконечную, где следов разрушений
не заметить, в которой – глубоко вдохну —
и за сполохом сполох пройдёт весенний,
и моя, как в ранние дни, голова
закружится от клейкого, сладкого духа,
и бессмертие вступит в свои права
торжеством все-зрения и все-слуха.
7–9 февраля 2011. Ростов-на-Дону – Москва
Дубки
поэма
2009
1
Парк называется «Дубки».
Гроза сгущается над парком,
и полыханий языки
то вспыхивают над огарком
весны, то – вовсе не видать.
Повсюду расцветает лето,
и расплавляется печать
на миновавшем, разогрета
неровным жаром.
Из себя,
из снов, из глубины меморий,
как будто в узком коридоре,
сквозь тополиный пух трубя
и вспыхивая, накренён,
от грозовой случайной смычки
трамвай искрит, в вагоне звон
как в колоколе, с непривычки
к таким ударам – сколько лет! —
из колокола в позвоночник
соскальзывает: в синий свет,
в воспламенившийся подстрочник
к тому, что будет. Букв разбег
всё изумлённей, удлинённей
сквозь гром и тополиный снег
в трамвайном грохоте и звоне.
И рядом – тот, кто сам былых
эпох колеблемая глыба:
достихотворный слог и вспых
фонем сквозь логику влитых
морфем в извивы речи, ибо
морфем фонемозвучье в них
лишь оживляется – в рисунке
сквозь кокон бабочки-судьбы,
и в почве видимые лунки —
личинки смыслов, не гробы.
Мы едем в гости. Долгий путь.
Поездка в некотором смысле
вовнутрь себя. Не продохнуть
от тесноты звучаний. Ввысь ли,
вниз – лязг и грохот, но ладья
трамвайная – не та, Хароном
ведомая, и колея
блестит дождём осуществлённым.
«Москва – конечно, край, где балт, —
он говорит или мне снится? —
бывал, отсюда смыслов гвалт,
Голядкин, в северной столице
преследующий двойника,
а нам – зияющие тени
в лесу родного языка,
дубы отцветших поколений
на пиршестве молодняка».
Как описать мне вид его?
Кряжист, набыченный, бородка,
взгляд, умно вперенный в того,
с кем он беседует некротко,
будящая к сознанью речь,
пиджак неясного покроя,
скрывающий, быть может, меч
и точно – знанье мировое,
что дышит и в дубах вокруг
вдоль рельсового перелива
пути трамвайного и в звук,
дробящийся темноречиво,
сужается…
2
Нас к девяти часам ждала
в Дубках дочь протоиерея
и стихотворца, чья прошла
жизнь и прекрасней и страшнее,
чем даже у его друзей,
окрасивших молнийным словом
Россию предзакатных дней.
Он был последним Соловьёвым.
Поэтом стал – ещё во всём
младенец. «Рыцарское слово,
духовным овладел мечом», —
так Белый говорил о нём,
племяннике В. Соловьёва.
А Брюсов, яду подпустив:
мол, недостаточно приручен
слов бунт и груб стиха извив.
И Блок, виденьями измучен
и блудом: «Нет, не тот, кто нам
вещает громко – смел и громок,
необязательно потомок
своим наследует отцам».
Я думаю, он предпочёл
бы разговор об Аполлоне,
о том, как солнечный глагол
вошёл в сознание его, не
касаясь сумрачных основ,
и ожил демон Соловьёвых
скольжением змеиных ков
в непроясняемых основах.
Любовь. Безумие. Окно,
в которое навстречу сини
он, задыхаясь, прыгнул, но
и сотня Брюсовых невинней
с их бутафорским культом зла,
с кажденьем как бы эстетизму —
тоски, что, извиваясь, жгла
и замутняла зренья призму.
Потом – служение, спасти
себя попытка в вере, в браке.
Брак распадается: пути
у всех разнятся в судном мраке
гражданской смуты. Даже он,
корабль церковный, от удара,
казалось, тонет, накренён,
задет дыханием пожара.
Куда ж нам плыть? К брегам каким?
Но солнце Аполлона зримо
вдруг заблистало перед ним
из католического Рима.
Поэт надтреснуто запел.
И снисходительный Вергилий
в последний раз его задел
своим плащом, и говорили
с ним снова музы в этот раз.
Голодный, брошенный, прекрасный
возносит чашу он за нас
в последний раз – почти напрасно —
в отчаянье. Потом арест
его и всех, кто с ним. Но мест,
где легче смерть, чем мысль о смерти,
он чудом избежал. «Поверьте,
Сергей Михайлович, колхозам
свой гимн захочется и вам
пропеть», – так следователь сам
твердил. Не цвесть нежнейшим лозам,
побитым градом. Аполлон,
о идолище громколиро,
к чему нам твой обманный сон,
раздранный плащ над бездной мира! —
Сознание конца времён.
Война. Психушка. Смерть в Казани
от голода. И – мёртвый звон
над снеговеяньем порханий.
3
Идём. Загаженный подъезд
хрущовки, а ведь век тому мы
здесь встретили б одни самумы
от жарких недр до самых звезд.
Бьёт в ноздри свежая моча.
Ничто свернулось, стало домом
и, омерзительно урча,
к ногам подкатывает комом.
Брысь!
Вот и дверь. В двери стоит
сама Наталия Сергевна
и, улыбаясь, чуть напевно:
«Я заждалась вас, – говорит. —
Какая честь!» И к Топорову:
«Не каждый день подобный вам
гость посещает дом мой. К слову,
коль дело к девяти часам,
как вы насчёт того, чтоб всем и
беседовать, и есть, и пить,
и чуть – перед программой „Время“ —
смотреть, что будет говорить
сегодня Солженицын?» Внове,
что муж вермонтский скажет сам.
Но разговор о Соловьёве
был, помню, интересней нам.
4
Что говорилось? Всё, что в силах
припомнить память. Ровный свет
поверх могил, когда-то милых,
дышал тогда – семнадцать лет
тому назад. Вот дядя Боря
игрушки вешает с отцом
на ёлку, в изумлённом взоре
его застыл альпийский гром,
Евразии колебля веси.
В преддверье Рождества – уже
пасхальное «Христос Воскресе»
вовсю поёт его душе:
«Восстань, преобразись, Россия!»
Над Сергиевым мерный звон.
Застыли вихри мировые.
В крестах и звёздах небосклон.
Они – священник с другом (с братом
по духу), мать, сестра и все —
ещё не ведают, подмятым
всего-то через год по датам
кому в кровавом колесе
жестоко хрустнуть, в обороте
истории вокруг себя,
кому восстать в холодном поте,
чтобы брести, сквозь век трубя,
к тем, кто, как мы сейчас за чаем
и скромным – но каким! – столом,
как будто и не понимаем:
времён срастается разлом.
И Белый – дядя Боря, – спавший
на раскладушке в доме их
в то Рождество и вдруг спаявший
огонь земли с огнём иных
наипрозрачнейших материй
в стихах, как магниевый вспых,
и речь отца: «Нет, только в вере
спастись России и восстать,
до тёмных недр преображённой!»
(он знал такое – то, что знать
иным запретно) – сохранённый
в её рассказе образ тот
во мне по-прежнему поёт.
Я думаю о пробужденье.
Мне кажется, оно тогда
случилось – ясное горенье
прожгло слои сплошного льда.
Гром отогнал вопросы змея.
Дубки, омытые дождём,
в ночи крепчая, зеленея
рванули к солнцу напролом.
И стало зренье, что в себе я
тогда открыл, – моим мечом.
22, 26 и 28–29 июня 2009. Москва
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































