Читать книгу "Живописец душ"
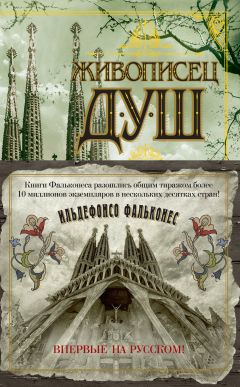
Автор книги: Ильдефонсо Фальконес
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Они вошли в шумное кафе. Свободных столиков не было, и они устроились у стойки, между другими посетителями, которые пили и болтали. Эмма попросила кофе с молоком, погорячее, а Далмау, поколебавшись немного, решил, что выпьет еще вина. На ходу он вроде бы протрезвел, но впечатление было обманчивым. Первый глоток спиртного, выдающего себя за кларет, упал в желудок раскаленным камнем; рассудок вновь затуманился, речь и движения замедлились. Эмма заметила его оцепенение еще до того, как он заговорил.
– Ты объяснишь мне, что произошло? – промямлил он. – Я тебя повсюду искал.
Далмау повысил голос, чтобы перекрыть гвалт, но получилось громче, нежели то было необходимо. Мужчина, расположившийся у стойки рядом с Эммой, повернулся к нему.
– Все соратницы твоей сестры, даже соседи, стоявшие на улице, винили меня в ее смерти, – сказала Эмма.
Он, удивленный, попытался вскинуть голову, но чуть не потерял равновесие. Сделал еще глоток, думая, как на это ответить. Эмма прикидывала, попенять ли ему за пьянку или вывести на улицу, на холодок, но так приятно было держать обеими руками большую чашку обжигающего кофе с молоком. Если Далмау хочет напиться, это его дело.
– Неправда, ты не виновата, – ответил он наконец, борясь с винными парами. – Сама знаешь. Виновата только моя сестра: это ее понесло на баррикаду… Мы сделали то, что должны были сделать, ведь так? Вызволили ее, прикрыли ей спину. С того момента перед Монсеррат были открыты многие пути… и она выбрала неверный. Почему ты не сказала мне об этом на похоронах, а взяла и просто ушла? – спросил он под конец, повышая голос.
Просто ушла! Так он и сказал: «просто ушла»? Их били, оплевывали и оскорбляли, их прогнали прочь, ее и Росу. Эмма покачала головой: какой смысл отвечать? Покинув исправительное заведение монахинь Доброго Пастыря, до того как укор совести не вонзил опять свое острое жало, Эмма короткое время чувствовала, что освободилась, распрощалась от имени Монсеррат со всеми враками и бесконечными религиозными догмами. Она раздумывала, не рассказать ли об этом Далмау, но, учитывая его проспиртованное состояние, решила, что лучше не надо. Святоша дон Мануэль наверняка взбесится, но ей-то какое дело. Пора Далмау расстаться с этим буржуем, католиком и реакционером; безусловно, ее жених может найти лучшую дорогу в жизни. Обо всем этом они поговорят в другой раз.
– Почему? – прервал Далмау ее размышления.
– Что – почему? – спросила Эмма, начиная терять терпение.
– Почему ты не поделилась со мной своим чувством вины? Я…
Эмма задумалась на мгновение.
– Говори что хочешь, но, если бы ее снова посадили, откажись я ходить к монашкам, вина была бы на мне. Я тебе уже говорила. Но и в ее смерти я виновата. Если бы я не лезла к ней с разговорами на баррикаде, если бы сообразила, насколько это опасно… Конечно, я виновата в том, что ее застрелили.
– Нет!
В этот раз на крик Далмау обернулся не только мужчина по соседству с Эммой, но и многие другие.
– Да, Далмау, – подтвердила Эмма, не обращая внимания на любопытных. – Я виновата.
«И ты тоже», – хотела бы она бросить ему упрек; если бы он не подладился под требования дона Мануэля, если бы не предложил ей заменить Монсеррат…
– Ты поступила хорошо, – утешал ее Далмау заплетающимся языком, с мутным, блуждающим взором, абсолютно чуждый тому внутреннему конфликту, какой переживала Эмма в этот момент. – Ее насиловали. – Далмау перешел на сбивчивый шепот, чтобы окружающие не узнали о позоре сестры. – Насиловали, – повторил он. – Ты ее видела, обмывала ее…
После напряжения этого долгого дня Эмма, увидев воочию, как ее подруга стоит голая на полу и с нее стекают струйки воды, окончательно лишилась сил. Она помотала головой, как тогда, когда подтирала пол и мыла ноги Монсеррат. Нет, дело не в том, что ее насиловали, все гораздо сложнее.
– Что не так? – спросил Далмау, сделав очередной изрядный глоток.
– Мы не должны были вторгаться в жизнь Монсеррат.
– Что ты такое говоришь? – Далмау пытался сфокусировать взгляд, но хмель ему застилал глаза.
– Это самое: мы должны были отойти в сторону. Она так хотела. И сказала тебе…
– Ее насиловали! – повторял он как заведенный.
– Она тебе сказала, что не хочет катехизиса, что не собирается подчиниться требованиям твоего учителя. Что предпочитает…
– Умереть? – перебил Далмау. – Стать шлюхой?
Эмма нахохлилась, поджала губы.
– Да, – решилась ответить, когда в памяти ожило лицо подруги за секунду до того, как пули разорвали его. В нем ясно читались решимость, самоотдача, способность к жертве… Воля к борьбе! Монсеррат никогда не опустилась бы до той пародии, в какую вовлек их буржуазный дух покровительства. – Да, предпочла бы умереть! – взорвалась Эмма. – Предпочла бы поругание тела насилию над свободным духом. Предпочла бы…
– Ты с ума сошла! – Далмау швырнул стакан на пол, схватил Эмму за локти и грубо встряхнул. Чашка вылетела у нее из рук, кофе с молоком пролилось на одежду. – Моя сестра не владела собой!
– Отпусти девушку! – велел мужчина, стоявший рядом.
Помимо бармена за стойкой, вокруг них уже собралась порядочная толпа.
– Монсеррат знала, что делает, – продолжала Эмма без сочувствия и страха. – Не то что мы.
– Отпусти ее! – кричали собравшиеся.
– Скажи им, чтобы не встревали, – велел ей Далмау, отмахиваясь от окружавшей толпы.
Эмма вгляделась в покрасневшие глаза жениха. Понятно, что он топит в вине угрызения совести. «Ее насиловали, насиловали, насиловали» – вот оправдание, чтобы не идти до конца.
– Далмау, – проговорила она размеренно. Тот ее отпустил, решив, что ссоре конец. – Мы оба виноваты.
– Нет, – стоял он на своем. – Хочешь взять на себя ответственность, дело твое. Я не хочу. Не обвиняй меня в том, что… – Далмау умолк, увидев, что окружен людьми. – Не смей меня обвинять! – тут же завопил угрожающе, и двое из тех, кто стоял кольцом вокруг пары, чуть не набросились на него.
– Ты пьян. Оставь меня в покое. Уходи. – Эмма пыталась вразумить его, прервать угрозы, утихомирить посетителей, вставших на ее защиту.
– Так его, девочка! Ничего не потеряешь, – вклинился один из них.
Кто-то захохотал.
– Пьянчуга, – припечатал хорошо одетый мужчина и потащил Далмау к выходу.
– Мать твою! – вывернулся тот и, пошатываясь, ринулся на обидчика.
Тот даже не стал уклоняться от удара, который не достиг цели. Теперь хохотали все.
– Далмау! – решила вмешаться Эмма.
– Заткнись! – Далмау нанес еще один удар вслепую и на этот раз попал, но по лицу Эммы, которая как раз подходила к дерущимся. Как Далмау ни был пьян, до него дошло, что он совершил непоправимое, и слова застряли в горле.
– Я не хочу тебя больше видеть, Далмау. Забудь обо мне, – взорвалась Эмма, поднося руку к лицу.
Далмау не успел ничего сказать. На него набросились, и после первых двух ударов он рухнул на пол. Нападавшие подождали, пока он попытается встать, и стали бить его ногами. Потом заставили ползти к двери на четвереньках, плевали, хохотали, свистели… А Эмма горько плакала.
Далмау уже давно не виделся с Эммой. Он приходил в столовую просить прощения за то, что ударил ее, за то, что напился, и поговорить о том, кто и насколько виновен в смерти его сестры. Он пришел потому, что любил ее и скучал по ней, но Бертран его не пустил. «Она не желает тебя знать, – заявил Бертран. – Тебя здесь всегда привечали, Далмау. Так не создавай теперь проблем». Он ждал, пока Эмма закончит работу, но ее всегда кто-нибудь провожал. Далмау знал, что она регулярно заходит к нему домой посидеть и поболтать с его матерью; она-то и попросила сына не преследовать девушку.
– Она очень переживает из-за смерти Монсеррат, – сказала Хосефа, поднимаясь из-за швейной машинки и направляясь в кухню, чтобы сварить кофе. По тому, как она двигалась, Далмау понял, насколько мама устала. – Да… она не хочет тебя видеть. Не досаждай ей, пожалуйста. Ты ведь знаешь, она мне как вторая дочь. Я уже достаточно настрадалась, Далмау. Дай нам передышку.
– Но то, что она сказала… – начал было он.
– Знаю я, что она сказала, – перебила мать. – Она мне все выложила. Знаю, что она думает. А главное, что чувствует.
– Она винит меня в смерти Монсеррат! – вскричал Далмау. Хосефа промолчала. – Может, и ты тоже?
– Не мне судить, сынок, но чувство вины, как все чувства, нам неподвластно, оно не подчиняется разуму. Эмма себя чувствует виноватой. Время покажет ей другие точки зрения, которые сейчас скрывает боль. Так или иначе, только ты сам можешь чувствовать или не чувствовать за собой вину. Не важно, что говорят другие.
Далмау еще раз попытал счастья в доме, где жил Эммин дядя. Такая настырность привела к тому, что он наткнулся на одного из кузенов, который, как и отец, работал на бойне и таскал на спине четверти разрубленных туш. Эмма не хочет видеть его. Назойливые расспросы Далмау в конце концов разозлили кузена, и бывшему жениху пришлось отступить на пару шагов, упросить амбала успокоиться и в бешенстве удалиться.
С той поры он погрузился в работу, правда, не оставил намерения поговорить с Эммой. Он искал встречи с кузиной, болтался поблизости от столовой, подкатывал к подругам, пока однажды вечером не столкнулся с Эммой нос к носу. Она обогнула его. Далмау не решился ее остановить, несколько минут шел рядом и умолял, твердил: «Прости меня». Эмма не удостоила его ответом. Он прошел еще несколько метров, продолжая вымаливать прощение. Эмма не откликнулась ни словом, ни жестом. После этого Далмау отступился и нашел прибежище в работе: только творчество давало успокоение, которого он не находил в мыслях о бывшей невесте. Правда, перестал ходить к пиаристам, несмотря на мольбы преподобного Жазинта и некоторое давление со стороны дона Мануэля. «Я сейчас не в состоянии, – оправдывался он, – может быть, позже».
– А катехизис? – забеспокоился учитель.
Об этом Далмау не подумал.
– Моя сестра была анархисткой и атеисткой всю свою жизнь. Какую пользу принесло ей то, что она приблизилась к Богу? Именно тогда она и погибла.
Дона Мануэля так и подмывало поговорить с ним о его сестре, о Монсеррат. Вернувшись в Барселону по окончании забастовки, он первым делом наткнулся на письмо матери настоятельницы монастыря Доброго Пастыря, в котором она излагала в подробностях все, что выкинула Монсеррат, опуская лишь, подчеркивала монашка, богохульства, извергнутые девушкой напоследок. Потом одна из горничных рассказала, что сестру Далмау застрелили на баррикаде. «Какая кара за кощунственные и богохульные речи!» – связал дон Мануэль эти две новости, осеняя себя крестным знамением. Он поделился этим с преподобным Жазинтом, тот внимательно прочел письмо, и оба решили не усугублять скорбь Далмау.
– Искренне соболезную кончине твоей сестры, – сказал ему учитель, едва они встретились на фабрике: тогда Далмау еще не прекратил ходить к пиаристам. – Передай мои соболезнования твоей матери и прочим родным.
А теперь сам Далмау усомнился в божественном милосердии. Мануэль Бельо решил не поднимать этот вопрос. Его сестра уже заплатила за свою дерзость, что же до Далмау, то, пусть он и не обратился, панель с феями расхваливали архитекторы и керамисты, что повышало репутацию фабрики изразцов. Еще будет время привлечь юношу к Церкви.
Далмау сдал работу, но не был уверен в успехе. Она по-прежнему казалась ему вульгарной, не вызывала никаких особенных чувств. В отличие от рисунков на японские темы, предназначенных для серийного производства, панель была единственной в своем роде, поэтому использовались не многочисленные шаблоны из восковой бумаги, а единый сетчатый трафарет в натуральную величину, выполненный самим Далмау. Этот трафарет наложили на изразцы и присыпали угольной пылью, чтобы обозначить рисунок; оставалось только расписать их вручную и снова обжечь.
Изразцы, уже на завершающем этапе строительства, доставили в здание, расположенное на Рамбла-де-Каталунья, тенистом бульваре, идущем параллельно Пасео-де-Грасия: многие считали это место самым престижным в Барселоне. Из просторного вестибюля высотой более пяти метров массивные двери из кованого железа и стекла вели в конюшенный двор. Уже и на входе царил модерн, главенствующий в архитектуре эпохи: мозаичный пол и мраморная лестница, ведущая на второй, основной этаж, где обычно жили владельцы дома. На каждом этаже имелись балконы, парящие над улицей и над парадным входом: идеальные места для наблюдения за городской суетой. У подножия лестницы, которая, как убедился Далмау, на верхних этажах, где квартиры сдавались внаем, теряла в своем великолепии, а в мансарде, где жили швейцары, и вовсе сводилась к деревянным ступеням, стояла фигура летящей женщины из белого камня; ее линии, простые и чистые, тем не менее впечатляли; оттуда начиналась великолепная балюстрада с резьбой на цветочные мотивы. Повсюду в вестибюле – настоящий парад резного дерева ценных пород: настенные плафоны, кабина швейцара, софиты на потолке; кроме того, железные светильники филигранной ковки и огромный цветной витраж, отделяющий лестничную клетку от светового двора. И среди всего этого, напротив балюстрады, панель, рисунок для которой создал Далмау: воздушные феи, провожающие и сопровождающие всякого, кто поднимался на основной этаж. Эти женские фигуры с металлическим блеском, который появился после обжига расписанных изразцов, ни в колорите, ни в ярком зрительном впечатлении не уступали другим декоративным элементам, выполненным лучшими в Барселоне мастерами прикладных искусств.
Далмау снял пиджак, засучил рукава и вместе с другими мастеровыми принялся устанавливать панель, вникая в каждую деталь, вмешиваясь, если нужно. Он досконально знал свое ремесло. Потом вгляделся в свое творение. Восторги не поколебали его первоначального мнения: чего-то тут не хватало, не красоты, наверное, и, наверное, не искусства; возможно, складывалось впечатление, что чувства автора, его внимание, его любовь не были вложены в эту работу, а пребывали вдали от нее; не получилось непреложной сопричастности художника и его создания. Монсеррат, Эмма, даже мать похитили все его чувства, все эмоции. Это не помешало Далмау отпраздновать успех своих фей вместе с учителем, архитектором, многими другими профессионалами и владельцем строящегося дома на Рамбла-де-Каталунья, богатым промышленником и банкиром, который оплатил все работы, а также устроил за свой счет роскошный ужин в ресторане «Гранд-Отель Континенталь».
– На тебе нет галстука, – упрекнул дон Мануэль, оглядев костюм Далмау, когда дон Хайме Торрадо, владелец здания, предложил отметить событие в ресторане, одном из самых популярных среди барселонской буржуазии.
– А как иначе, – ответил Далмау. – На моей рубашке нет воротничка, не на чем завязать галстук.
– Зато на тебе пиджак, – послышался позади голос дона Хайме, – и этого достаточно: кто посмеет не пустить в ресторан творца, создавшего произведение искусства, которое мы сегодня водрузили в моем доме? Видные художники и архитекторы считают, – добавил он, кладя руку на плечо Далмау, и это показалось юноше жестом чрезмерным и немного стесняющим, – что для продвижения в такого рода работах необходимо владеть рисунком. У тебя есть рисунки, можешь их показать?
– Есть, есть у него рисунки, – вклинился дон Мануэль, хвастаясь ими, будто своими собственными.
– Интересно было бы посмотреть, – заявил банкир.
– Когда пожелаете, – снова вмешался дон Мануэль, взяв на себя главенствующую роль. – Моя фабрика и все коллекции в вашем распоряжении.
До Рамбла-де-Каналетес, где на углу рядом с площадью Каталонии располагался «Гранд-Отель Континенталь», было недалеко, все пошли пешком. Далмау немного отстал от остальных, следуя, словно по инерции, за компанией мастеров, сыпавших остротами. Он думал о рисунках. Конечно, у него есть рисунки! Во множестве! И картины тоже. Еще он неоднократно покушался на глину, лепил из нее фигуры и обжигал в печи. Все хранилось у него в мастерской. Учитель знал эти работы, хвалил их, воодушевлял юношу, обещая, что когда-нибудь устроит ему публичную выставку, где проявится его талант. Нужно работать, подстегивал он Далмау: работать, работать и работать. Далмау не спорил с доном Мануэлем, но ценил не столько сверхурочную, неустанную работу, какой зачастую требовала фабрика изразцов, сколько труды, пусть тяжелые и упорные, которые просто завладевали воображением и приносили радость.
Прошлым вечером, в очередной раз проверив панель, которую должны были перевезти и установить на следующий день, Далмау заперся в мастерской. Домой, где его ждал стук швейной машинки, идти не хотелось, и он всячески откладывал этот момент. Крикнул Пако, чтобы тот принес чего-нибудь поесть. Старик не отозвался, вместо него явился один из живших на фабрике мальчишек.
– Пако пришлось ненадолго отлучиться, – ответил паренек на вопрос Далмау. – Приходила его сестра. Дело срочное. Что-то стряслось с каким-то вроде бы родичем. Старикан совсем разволновался.
Далмау рассмотрел грязное лицо мальчишки, неопрятные волосы, слипшиеся, вставшие дыбом; тусклые, ввалившиеся глаза. Был он малорослый и щуплый, поскольку, как все уличные дети, недоедал.
– Ну-ка, замри, – велел Далмау.
Паренек застыл на месте. Далмау взял лист бумаги и стал рисовать это лицо. Пытался передать глаза, их печаль… нет, наверное, это не печаль, а разочарованный и трезвый, лишенный иллюзий взгляд на жизнь, на целый мир, включая людей и Бога, того самого Бога, к которому учитель призывал являться каждое воскресенье.
Теперь, в обширном зале ресторана, электрический свет, в котором сверкала позолота на лепнине и на рамах картин, висящих на стенах, отраженный в многочисленных зеркалах, ослепил Далмау, контрастируя с полумглой газового освещения, при котором он рисовал портрет мальчика, не выходивший у него из головы. Приглашенные уселись за длинный стол, набралось больше дюжины человек. Льняные скатерти, фарфоровая посуда, серебряные приборы, бокалы тонкого хрусталя, официанты, одетые лучше, чем иные из гостей, и среди всего этого Далмау: в итоге он занял место на нижнем конце стола, далеко от банкира и дона Мануэля, между секретарем сеньора Торрадо, человеком скованным и молчаливым, и помощником архитектора, студентом, изучающим архитектуру; он был немного старше Далмау и не уставал нахваливать творения своего учителя.
Далмау был ошеломлен окружающей роскошью, но не так ей радовался, как мальчишка, прошлым вечером получивший десять сентимо только за то, что позволил себя нарисовать. Паренек схватил монету и обогнул стол, чтобы посмотреть на рисунок Далмау: глаза, только глаза, маленькие, без бровей, без век… Единственная линия, изгибаясь там, где должен быть подбородок, намекала на лицо, которое должно было их обрамлять.
Далмау не стал поддерживать беседу, которую пытался завязать студент справа, и замкнулся в том же сдержанном молчании, что и сосед с другой стороны. Смотрел на тарелку, стоявшую перед ним, салфетку, серебряные приборы, сколько их, для чего так много? – на хрустальные бокалы… Мальчонка сжал монету в кулаке, словно боялся, что ее отнимут; десять сентимо, целое сокровище! Гул голосов вырвал Далмау из воспоминаний, когда подали первое вино, «Шлосс Йоханнисберг», немецкое белое; он отпил всего несколько глотков, ибо последствия его прошлой пьянки еще бередили душу, а встреча, которую он подготовил для нынешней ночи, подстегивала его. Bisque d’écrevisses à la française[9]9
Крем-суп из речных раков по-французски (фр.).
[Закрыть]. Рыбный суп, определил Далмау по запаху, когда подали первое блюдо. «Речные раки» – подсказал секретарь, видя, как Далмау разглядывает содержимое своей ложки. Суп оказался вкусным.
– Вы еще будете меня рисовать? – спросил паренек.
Далмау никогда не пробовал супа из речных раков. Мальчишка ожидал ответа с улыбкой на губах.
– Ты чего улыбаешься? – спросил Далмау. Ребенок раскрыл кулачок, в котором сжимал монету. Насчет глаз Далмау ошибся: они блестели. Художник почувствовал себя обманутым. Он много раз говорил, даже шутил с этим пареньком, кажется, его зовут Педро… или Маурисио? Далмау их не различал. «Нет, не думаю, что буду еще тебя рисовать», – ответил он.
Мальчик стер улыбку и пощелкал языком, сетуя на судьбу. И вдруг спросил:
– Вы хотите рисовать детей, которые не улыбаются?
За супом последовал saumon du Rhin[10]10
Рейнский лосось (фр.).
[Закрыть], и Далмау отважился выпить еще немного белого вина. С приборами управлялся, поглядывая на секретаря. За столом завязалась беседа: политическое положение, всеобщая забастовка, недовольство рабочих, экономический кризис, возвышение республиканцев и отторжение анархистов, – но вот принесли третье блюдо, filet de boef à la Richelieu[11]11
Говяжья вырезка а-ля Ришелье (фр.).
[Закрыть]. Телятина, жаренная с вином, салом и помидорами, к ней овощи и зелень, и красное вино, тоже французское, «Шато д’Икем»: барселонские богачи не пьют испанской бурды. «Дети, которые не улыбаются». «Этого ты хотел?» – спросил он себя с бокалом бордо в руке. И ответил – да. Наверное, ему нужен кто-то такой же грустный, как он сам, способный разделить чувства, угнетающие его дух; мир фей, женщин утонченных и хрупких, глубоко его уязвлял.
– Я знаю многих trinxeraires, – начал мальчишка, и Далмау кивнул. – Но и мне вы что-нибудь заплатите, ладно?
Далмау кивнул снова. Потом, когда паренек вышел из мастерской, порвал рисунок, изображавший глаза.
На десерт – ананас или пирожные, на выбор, в золотой тележке, которую официанты подвозят к столу. Далмау выбрал шоколадное. Шампанское, «Моэт и Шандон», сладкие вина и ликеры для желающих, гаванские сигары. Далмау взял одну и положил в карман пиджака, поскольку сам не курил. Шампанское попробовал, почувствовал, как пузырьки лопаются во рту, достигая нёба. Новое ощущение, слишком свежее, слишком игривое, стерло из памяти образ мальчика с грустными глазами, который так растрогал его накануне и не отпускал весь вечер.
Двадцать семь песет с человека. Цена за ужин вертелась у него в голове во время всего пути от «Континенталя» до фабрики. Ночь уже опустилась, и на Пасео-де-Грасия загорелись огни. Яркое солнце днем, освещение ночью, будто это – другой мир, другой город, и он открывается сразу за площадью Каталонии, грязной, зловонной, сырой и темной, всегда темной. В этот темный город, однако, погрузились иные из сотрапезников, желающие развлечься в какой-нибудь таверне, где женщины поют и пляшут под пианино, а может, и попросту сходить в бордель. Когда кто-то из компании его пригласил, Далмау отказался.
Двадцать семь песет. Это сообщил с укором секретарь банкира после того, как помог ему оплатить счет. Растолковав Далмау, что суп сварен из раков, и односложно ответив еще на какие-то вопросы, которые ему задавали, этот человек не сказал больше ни слова, только озвучил цену, двадцать семь песет, причем с такой злостью, будто Далмау и студент архитектуры – а только они его и слышали – не имели права на такие траты. «Знал бы я, – пошутил студент, – вернул бы какое-нибудь блюдо». Потом рассмеялся, ожидая, что и Далмау воспримет шутку, но нет. Тот, наоборот, нахмурился. «Разве не так устроен мир?» – так и подмывало его ответить. Двадцать семь песет – это девять рабочих дней каменщика. Триста с лишним песет, в которые обошелся банкиру званый ужин, составляют пятую часть суммы, которую учитель одолжил Далмау, чтобы избавить его от военной службы. Двенадцать лет его жизни стоят столько же, сколько пять таких ужинов; да, в самом деле, он не имел права… но как все было вкусно!
Эти песеты, воспоминания об изысканных ароматах и вкусах и мысли о том, как было бы славно рассказать об ужине Эмме, сопровождали его на всем пути. Эмма разносила блюда, но всегда стремилась работать на кухне: она бы слушала его с восхищением, переспрашивала, брала на заметку. Суп из речных раков! Французское шампанское! «Говоришь, оно щиплется?» – точно спросила бы она. При мысли, что ее больше нет рядом, у него все сжалось внутри. Далмау еще не до конца верил в произошедшее. События развивались стремительно: арест Монсеррат, монашки, гибель сестры; все это создало между влюбленными невыносимое напряжение. Но этим вечером Далмау был полон оптимизма: нужно еще немного подождать, а потом попытаться снова. Он улыбнулся, и тоска, теснившая грудь, отпустила, когда он представил воочию, как они с Эммой гуляют, взявшись за руки.
Детишек было четверо. Они ждали у решетки, перед воротами, ведущими на фабрику изразцов: двое своих и еще одна парочка. Пако их не пустил, рассказали они. Неудивительно. Он бы не пустил тоже. Новенькие: мальчик… и девочка? Не разобрать.
– Вы их пропустите, Далмау? – услышал он голос сторожа, подошедшего к решетке с другой стороны.
– Да, – подтвердил Далмау, немного поколебавшись.
– Но вы же знаете правила…
– Под мою ответственность, Пако, – заявил он твердо.
– Если не возражаете, я с вами.
– Мне в мастерской нужен всего один. Остальные будут только мешать. Присмотрите здесь за ними.
Они пересекли обширный двор, где располагались резервуары с водой и сушильни, и пришли к складу, где обычно пребывал Пако. При свете двух свечей Далмау разглядел trinxeraires: оборванные, малорослые, тощие. Одна из новеньких и правда была девочка. Дельфин и Маравильяс, представил их Педро или Маурисио. Брат и сестра, так они сказали. Далмау попытался прикинуть, сколько им лет, но не смог. Десять, двенадцать… восемь?
– Маравильяс, – обратился Далмау к девочке. – Пойдешь со мной наверх. Остальные…
– Что вы будете с ней делать? – крикнул братец.
– Только рисовать ее, сказали же тебе, – вмешался паренек с фабрики.
– Вот именно. Только это, – подтвердил Далмау. – Рисовать ее. Не беспокойся. С ней ничего не случится…
– Вы не станете ее раздевать? Потому что…
– Нет. Разумеется, нет! – рассердился Далмау.
– Потому что это стоит дороже, – закончил брат прерванную фразу.
– Гаденыш!
Тrinxeraire отпрыгнул с удивительной ловкостью, уворачиваясь от палки, которой замахнулся сторож.
Девочка последовала за Далмау на верхний этаж.
– Если он что-то станет делать с тобой, кричи! – напутствовал ее Дельфин, стоя на почтительном расстоянии от палки, которой все еще потрясал Пако.
Далмау увеличил газовый свет в своем кабинете и расчистил место, чтобы девочка могла позировать. Глаза нищенки перескакивали с предмета на предмет: карандаши, кисти, картины, изразцы. На долю секунды взгляд ее задерживался на каждом из них, будто она прикидывала, сколько он стоит и получится ли его украсть.
– Встань тут. – Далмау показал место, где свет был ярче всего.
Маравильяс подчинилась, но продолжала смотреть куда угодно, только не на Далмау, он же не сводил с нее глаз. Он был бы и рад сказать, что у нее хотя бы лицо приятное, но это было не так. От истощения кости резко обозначились, а глаза ввалились, Далмау не мог их как следует разглядеть, так быстро они стреляли туда и сюда из лиловых впадин. Корка довольно большой ссадины виднелась на виске, у корней волос, обкорнанных кое-как. Далмау глубоко вздохнул, это на миг привлекло внимание Маравильяс. Она была грязная. От нее дурно пахло. На ней были лохмотья, много слоев, разноцветные, большей частью темных тонов. Ноги обернуты лоскутами ткани, на манер сапог. Заговорить, что ли, с ней? Или рисовать, ничего о ней не зная; но любопытство пересилило.
– Сколько тебе лет?
Она ответила, глядя в сторону:
– Дельфин говорит, что девять, но… – Девочка пожала плечами. – Иногда говорит, что восемь или десять. Он придурок.
Сев за мольберт, Далмау уже делал первый набросок на большом, метр на полметра, листе бумаги. Он рисовал углем, держа наготове цветную пастель.
– А родители что говорят?
Еще до того, как она впервые вперила в него взор, Далмау осознал свою ошибку: он спросил, не подумав, чтобы снять напряжение, войти в доверие к девочке.
– Родители? – с горькой иронией повторила Маравильяс.
Далмау пристально глянул ей в глаза: большие, темные, с желтоватыми белками, кое-где испещренными красноватыми прожилками.
– Но брат-то у тебя есть?
– Это он так говорит.
Далмау кивнул, что-то промычал: работа уже захватила его.
– Не ерзай, пожалуйста, – умолял он.
Он бы с радостью рисовал дольше, но через пару часов, несмотря на то что ей часто давали отдыхать, Маравильяс превратилась в нервную, раздраженную, неуправляемую модель.
Все trinxeraires, с которыми Далмау имел дело, были одинаковы: хилые, истощенные, пугливые, недоверчивые, непредсказуемые и импульсивные. С короткой памятью, не шибко умные, некоторые вовсе тупые; иные ленивые, а главное, эгоистичные, эгоистичные до крайности.
В Маравильяс, которая приходила еще несколько дней, пока Далмау не закончил ее портрет, наблюдались все эти качества, хотя, может быть, потому, что женщинам труднее, чем мужчинам, выживать в мире нищеты и преступности, девочка обладала живым умом, далеко превосходившим кратковременные проблески сообразительности, на какие были способны ее товарищи по уличным скитаниям.
Поэтому уже в первый вечер она оттеснила Педро, который взял на себя задачу отлавливать trinxeraires для рисунков Далмау. Пако рассказал потом, что мальчишки поспорили и чуть не сцепились, но девочка положила конец сваре.
– Если я узнаю, что ты бродишь по округе и ищешь ребят, скажу всем, что ты нас хочешь надуть. – Спор прекратился. – И мне поверят, – сказала она убежденно, – не сомневайся. Ты тут живешь в тепле и холе, а я нахлебалась дерьма на этих клятых улицах. Знаешь, что мы делаем с теми, кто нас разводит?
Педро не понадобилось много времени, чтобы взвесить угрозу.
– Ладно, – уступил он, – но ты должна отдавать нам часть денег.
Она расхохоталась.
– Денежки мои, – припечатала она. И даже ее брат не стал возражать.
Так что Маравильяс приводила к Далмау следующих trinxeraires, чтобы тот завершил задуманную им серию из десяти портретов. Дон Мануэль обо всем узнал и, разгневанный, ворвался к нему в кабинет. Заверив учителя, что это не повредит текущей работе, более того, как ему кажется, принесет пользу, вернув равновесие и спокойствие духа, которых он лишился после смерти сестры: о разлуке с Эммой он решил не говорить, дабы избежать скользких вопросов, – Далмау показал учителю портрет Маравильяс, выполненный углем и пастелью.
Дон Мануэль долго смотрел на рисунок и наконец кивнул. Губы его вытянулись трубочкой между пышными бакенбардами, которые смыкались с усами, и он кивнул еще раз.
– Ты похитил душу у девочки, – изрек он, – и мастерски изобразил ее.
Далмау продолжил рисовать trinxeraires, теперь уже с согласия дона Мануэля. Все они позировали, как Маравильяс: вертелись, не могли усидеть на месте… или таращились угрюмо. Некоторых приходилось признать негодными после одного-двух сеансов. Одни кричали и прыгали, другие попросту засыпали. Один даже набросился с кулаками на Далмау, и Маравильяс ринулась художника защищать; другие крали что попало, все равно что: набросок, рисунок, халат с вешалки, глиняную фигурку или блестящий изразец; был такой, что схватил добычу и убежал, не дожидаясь обещанной художником платы.






























