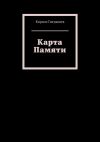Автор книги: Илья Герасимов
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Коллективное обдумывание стратегии изучения немецких «мест памяти», осуществлявшееся в первую очередь в ходе упомянутых выше конференций, продолжилось в разработке конкретных тем в рамках семинара, организованного берлинским Свободным университетом. Семинар этот, которыми руководили мы с Хагеном Шульце, начал функционировать зимой 1995/96 года и продолжал свою работу в течение семи семестров, до зимы 1998/99 года. Вместе с группой студентов, увлеченных этой работой и преданных ей, мы изучали теоретические труды, имеющие отношение к «местам памяти», составляли «немецкий» список таких мест (реки и люди, регионы и мифы, Берлин и Рейх) и даже сделали попытку выйти за пределы Германии и заняться памятными местами Европы в целом. Интерес, который эта тематика вызвала у студентов, качество докладов и письменных работ, интенсивность и плодотворность обсуждений позволили убедиться в осуществимости проекта, оценить серьезность предложенных тем и, наконец, исследовать некоторые из этих тем более подробно.
Контакты с участниками семинара и с немецкими и иностранными исследователями, проявившими интерес к нашему проекту, позволили нам с Хагеном Шульце набросать возможный состав будущих сборников; мы постоянно возвращались к этой работе и переделывали ее, потому что стремились выработать такие перечни «мест памяти» и такую структуру книги, которые были бы разом и убедительны, и удобны для читателя. Исходя из наблюдения, сделанного самим Пьером Нора, мы в конце концов остановились на следующем решении: берутся восемнадцать центральных понятий, по большей части непереводимых (от Bildung до Zerrissenheit, не говоря уже о Erbfreind, Freiheit, Leistung, Reich и Schuld), затем вокруг каждого из них выстраивается «гроздь ассоциаций», почерпнутых из различных регистров коллективной памяти и изложенных в пяти-шести статьях. Например, к понятию Leistung (выполненная работа, успех, результат, показатели) имеют отношение следующие статьи: «Die D-Mark», «Krupp», «Die Bundesliga», «Die STASI», «Das goldene Handwerk», «Die Hanse». Общий список таких статей включает в себя около сотни позиций; впрочем, каждая статья порождает собственные ассоциации, отсылки и неожиданные выводы (точно так же работает сама память). Таким образом, предложенная структура не замыкает немецкую память в жесткий каркас, но, напротив, сообщает ей форму открытого лабиринта, который разжигает воображение и побуждает к открытиям.
Наконец, летом 1998 года, заручившись поддержкой двух немецких фондов, а главное, получив согласие от мюнхенского издателя Бека, мы начали заказывать статьи авторам, причем обращались не только к известным исследователям и признанным специалистам по той или иной теме, но также к молодым историкам и самым талантливым из участников нашего семинара. Принципиально важным мы считали также привлечение к работе не только немцев, но и иностранцев (их число должно было составлять не меньше 20% от общего числа участников). Эта подготовительная фаза заняла в общем чуть больше полугода, и результат ее превзошел наши ожидания: большинство намеченных нами авторов ответили согласием; общение с ними помогло нам расширить рамки нашего проекта и уточнить его составляющие. Статьи, которые уже сданы, внушают большой оптимизм. Жребий брошен, мы пустились в путь и рассчитываем за ближайшие два года добраться до конечной точки.
В завершение этого короткого рассказа о готовящемся издании я хотел бы привести три цитаты: две из них принадлежат немецким историкам, одна – французскому. Первая заимствована из предисловия к «Краткой истории немецкой идеи Bildung» Алеиды Ассман:
В заново объединенной Германии, остро нуждающейся в национальных символах, размышления о национальной памяти важны как никогда: особый путь (Sonderweg) Германии, приведший ее к гитлеровскому режиму и его последствиям, делает решение этого вопроса столь же сложным, сколь и неотложным. Освенцим стал национальной катастрофой, взорвавшей культурную память немцев, и процесс этот не завершился еще и сегодня. Однако неверно было бы думать, что катастрофа эта обрекает немцев на бездейственность памяти; совсем напротив, она побуждает их более пристально и более критично взглянуть на ту сложную роль, которую играла и играет культурная память в немецкой истории.[59]59
Assmann A. Op. cit. P. 2.
[Закрыть]
Вторая цитата – отрывок из столь же проницательной, сколь и побуждающей к дальнейшим разысканиям книги моего друга и соратника Хагена Шульце «Gibt es überhaupt eine deutsche Geschichte?». Книга эта, опубликованная всего за несколько месяцев до падения Берлинской стены, заканчивалась следующим утверждением: «Только включение в европейский контекст возвратит немецкой истории то, чего ей недостает как истории национальной: особость и преемственность».[60]60
Schulze H. Gibt es überhaupt eine deutsche Geschichte. Berlin, 1989. S. 70.
[Закрыть]
И, наконец, третья цитата, перекликающаяся со второй, принадлежит, как и следовало ожидать, Марку Блоку. Он любил повторять: «Истории Франции не существует; существует лишь история Европы». Разве можно сомневаться в том, что мысль эта, которая никогда не звучала так актуально, как сегодня, еще больше подходит к истории Германии?
Тони Джадт
«Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память?
I
Когда вы едете на машине по прекрасным скоростным автомагистралям Франции, изумительно вписанным в окрестный ландшафт, невозможно пропустить необычные указатели, отстоящие друг от друга на небольших промежутках. Заметные, но при этом не вызывающие раздражения, выдержанные в теплых, мягких тонах, эти щиты установлены парами: сначала вы видите указатель, на котором помещены два или три символа – достаточно наглядные и занимательные, чтобы привлечь к себе внимание автомобилиста, но все же требующие некоторого дополнительного объяснения – гроздь винограда или стилизованное изображение горы или замка. Затем, примерно через километр – расстояние как раз достаточное, чтобы сидящие в машине задались вопросом, что бы это значило, – появляется второй такой же щит, на котором сообщается, что вы проезжаете мимо виноградников Бургундии, Реймсского собора или горы Св. Виктории. И действительно, слева или справа от дороги (стрелка на втором указателе покажет вам, куда надо смотреть) видны виноградники, готический шпиль или живописный холм, знакомый нам по картинам Сезанна. Далеко не всегда за этими указателями последует ответвление главной дороги – их цель вовсе не в том, чтобы помочь вам добраться до изображенной на них достопримечательности, и уж тем более не в том, чтобы рассказать вам о ней. Эти щиты поставлены, чтобы рассеять дорожную скуку, подсказать современному путешественнику, через какие места он, сам того не зная, проезжает. Ирония состоит в том, что узнать об этом вы сможете, лишь двигаясь по скоростной магистрали, надежно отгороженной от окружающего ландшафта.
Кроме того, эти указатели намеренно и недвусмысленно назидательны: они рассказывают вам об историческом прошлом Франции или о ее настоящем, неразрывно связанном с этим прошлым (о виноделии, например), так чтобы у вас создалось вполне определенное представление об этой стране. «Да! Да, конечно! – говорим мы. – Поля сражений под Верденом, римский амфитеатр в Ниме, пшеничные поля области Бос…» Размышляя о богатстве и многообразии этой страны, о ее древних традициях и об испытаниях, выпавших на ее долю в XX веке, у нас в сознании возникает определенный образ, общие с другими людьми воспоминания о Франции. На скорости свыше 100 километров в час мы движемся по Музею истории Франции – сама Франция стала для нас таким музеем.
Франция, конечно, уникальна в этом отношении. Но не одна она превратилась в огромный музей под открытым небом. Все мы живем в эпоху постоянных юбилеев и годовщин. По всей Европе и Америке воздвигнуты мемориалы, памятные доски, открыты музеи и исторические центры – все это создано для того, чтобы напомнить нам о нашем наследии. В этом нет ничего принципиально нового: в Греции, на месте битвы при Фермопилах, на памятнике царю Леониду (памятник воздвигнут в 1955 году) можно прочитать древнегреческий текст, обращенный к путнику с призывом сохранить память о героическом подвиге трехсот спартанцев, погибших в сражении с персами в 480 году до н. э. В Англии существует древняя традиция отмечать память не только побед, но и поражений – от поражения англосаксов в битве при Гастингсе (1066) до эвакуации английских войск, блокированных немцами в районе Дюнкерка в 1940 году. Город Рим – это огромный музей под открытым небом: на его улицах и площадях перед нами проходит вся история западной цивилизации. История США окружает нас повсюду в Америке – от колониального Вильямсбурга до Маунт-Рашмор.
Так было всегда, но в наши дни появилось и нечто новое. Мы отмечаем гораздо больше памятных дат, мы спорим друг с другом о том, какие события в нашей истории следует отмечать и как их нужно отмечать. До самого последнего времени (по крайней мере в Европе) весь смысл музея, мемориальной доски или памятника состоял в том, чтобы напомнить людям о том, что они и без того знают сами (или думают, что знают). Сегодня, однако, все эти вещи служат другим целям. Музеи и памятники теперь создаются для того, чтобы рассказать людям о вещах, о которых они могут ничего не знать, совершенно забыли или вовсе никогда не слыхали. Все сильнее нас охватывает страх, что мы забудем свое прошлое, что оно исчезнет, затеряется в суете настоящего. Мы отмечаем память об утраченном мире – иногда еще до того, как его утратим.
Воздвигая памятники или создавая копии предметов старины, мы рискуем еще больше забыть о прошлом: созданный нами символ или законсервированные руины подменяют собой прошлое. Мы тешим себя иллюзией, что сохраняем прошлое, в то время как его подлинный смысл ускользает от нас, оставляя нам лишь сувенир на память. Вспоминаются слова Джеймса Янга: «Как только мы заключаем память в монументальные формы, мы в определенной степени снимаем с себя обязанность помнить… Ошибочно полагая, что наши памятники всегда будут с нами, чтобы напоминать нам о прошлом, мы уходим прочь от них и возвращаемся, лишь когда нам заблагорассудится». Кроме того, памятники – воинские мемориалы, например, – со временем сливаются с окружающим ландшафтом, становятся частью прошлого – вместо того, чтобы напоминать нам о нем.[61]61
Young J. E. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning. Cornell, 1993. P. 5. См. также: Sherman D. Art, Commerce and the Production of Memory in France after World War I // Commemorations: The Politics of National Identity / Ed. by John R. Gillis. Princeton, NJ., 1994. P. 186—215.
[Закрыть]
В Соединенных Штатах об этих проблемах вспоминают, когда разгорается очередная «война памяти». Кто имеет право определять содержание и оформление музейной экспозиции, устанавливать мемориальную доску или знак, решать, какой смысл несет для потомков поле сражения? Эти стычки – всего лишь часть той борьбы, которую ведут в сфере культуры разные группы населения за свое самоопределение, свое самосознание – национальное, региональное, языковое, религиозное, расовое, этническое, половое. В Польше или в Германии споры о том, как следует отмечать память о недавнем историческом прошлом, привели в итоге к тому, что общество этих стран с обостренным, болезненным вниманием обратилось к теме уничтожения европейских евреев – спланированного в Германии и проведенного в жизнь в концентрационных лагерях на польской земле. Вместо ностальгических воспоминаний о героическом прошлом мемориальные акции, посвященные этим событиям, намеренно пробуждают скорбь и гнев. Некогда эти памятные торжества были проверенным средством, вызывающим у людей ощущение единства, воспитывающим чувство сопричастности к жизни своей «малой родины», своей страны, своего народа. Теперь же они стали одним из основных поводов к расколу в обществе, как это произошло во время недавнего обсуждения вопроса о том, нужно ли воздвигать памятник жертвам Холокоста в Берлине.
Историкам принадлежит ключевая, но не вполне понятная роль в этих процессах. Не следует излишне противопоставлять историю и память: задача историков не исчерпывается сохранением от имени всего общества памяти о прошлом, – однако этим они тоже должны заниматься. Говоря словами Милана Кундеры, простое сохранение памяти – это тоже одна из форм забвения, и в конечном счете именно историки должны исправлять ошибки людской памяти[62]62
Kundera M. Testaments Betrayed: An Essay in Nine Parts. N.Y., 1995. P. 128.
[Закрыть]. Так, например, недавно в Ницце на одной из центральных улиц города были повешены новые таблички с названием «Проспект Жуана Медесина, консула Ниццы, 1928—1965». Перед нами – политически корректная попытка напомнить прохожим о том, что жители этого французского города некогда говорили на напоминающем итальянский язык провансальском диалекте, и тем самым подчеркнуть особый характер Ниццы. Однако Жан Медсэн, мэр города Ниццы с 1928 по 1965 год, не проявлял никакого интереса к местным диалектам и обычаям Прованса, никогда не писал свое имя или должность в старинной провансальской орфографии – подобно большинству своих избирателей, он ощущал себя французом и общался на французском языке. Перед нами всего лишь один пример из целого ряда подобных случаев, когда происходит подмена прошлого во имя вполне конкретных потребностей сегодняшнего дня – здесь историк по крайней мере может помочь восстановить истину.
Таким образом, историки действительно имеют дело с памятью. В силу нашей профессии мы давно уже занимаемся критикой и исправлением официальной, публичной памяти о прошлом, которая решает свои особые задачи. Более того, при написании современной истории или истории недавнего прошлого память является бесценным источником. Она не просто вносит дополнительные детали и формирует нашу точку зрения – сама история складывается из ответов на вопросы: что сохраняется в памяти общества? что предается забвению? каким целям служат воспоминания о прошлом? Так, Саул Фридлендер написал книгу, посвященную истории евреев в нацистской Германии, опираясь на воспоминания – свои собственные и воспоминания других людей. Задавшись вопросом: какого рода воспоминания сохранили французы о годах оккупации и режиме Виши и что из этой эпохи оказалось забыто, – Анри Руссо рассказал о всей истории послевоенной Франции. В его исследованиях память стала действующим лицом истории, в то время как сама история в какой-то мере предстала перед нами в своей более древней роли – особого мнемонического приема, с помощью которого удается сохранять память о вещах.[63]63
Friedl ä nder S. Nazi Germany and the Jews. N.Y., 1997. Vol. I: The Years of Persecution, 1933—1939; Rousso H. The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944. Cambridge, Mass., 1991.
[Закрыть]
Таким образом, когда французский историк Пьер Нора проводит строгое различие между «памятью», которая «поднимается из глубин прошлого, исходит от тех групп, которые она помогает объединить», и «историей», которая «принадлежит всем и не принадлежит никому и потому имеет универсальное предназначение», то на первый взгляд кажется, что он слишком далеко заходит в этом противопоставлении. Разве все мы не согласны с тем, что невозможно провести четкую грань между объективным и субъективным способом познания прошлого, что подобное деление – лишь пережиток прошлого, доставшийся нам от старого, достаточно наивного подхода к историческому исследованию? Почему же в таком случае руководитель самого известного и авторитетного современного исследования, посвященного проблеме исторической памяти нации, начинает свое введение с того, что настойчиво утверждает столь строгое различие?[64]64
Nora P. General Introduction: Between Memory and History // Realms of Memory: The Construction of the French Past / Ed. by Pierre Nora; English-language edition ed. by Lawrence D. Kritzman; trans. by Arthur Goldhammer. N.Y., 1996. Vol. I. P. 3.
[Закрыть]
Чтобы понять подход Пьера Нора и общекультурное значение массивного многотомного (три части, семь томов, 5600 страниц!) издания под общим названием «Места памяти», главным редактором которого он был с 1984 по 1992 год, мы должны снова обратиться к Франции и ее уникальному прошлому[65]65
Les Lieux de mémoire / Ed. Pierre Nora. Paris, 1984—1992. Т. I: La République; Т. II: La Nation; Т. III: Les Frances.
[Закрыть]. Франция не только старейшее национальное государство в Европе с многовековой историей сильной центральной власти, давно сформировавшимся национальным литературным языком и административным аппаратом, восходящим по крайней мере к XII веку, – по сравнению с другими государствами Западной Европы эта страна дольше других сохраняла свой древний облик. Ландшафт Франции, характерный уклад жизни деревенской общины, повседневные занятия и быт ее провинциальных городов и сел в гораздо меньшей степени были затронуты влиянием промышленности, современных средств транспорта и коммуникации, социальными и демографическими изменениями, нежели это было в Великобритании, Германии, Бельгии, Италии или любой другой стране западного мира.
Точно так же и политическое устройство Франции – структура административного аппарата на уровне всей страны и ее отдельных областей, отношения между центральной и местной властью, иерархия органов управления в сфере юстиции, налогов, культуры, образования, от Парижа и до самого маленького поселка, – все это почти не менялось на протяжении столетий. Конечно, Великая французская революция уничтожила политические формы Старого Порядка. Однако их авторитарное содержание и дух были воссозданы во времена империи и республики верными наследниками монархии Бурбонов, начиная с Робеспьера и Наполеона Бонапарта и кончая Шарлем де Голлем и Франсуа Миттераном.
Череда политических смут и волнений XIX века не оставила глубоких следов в повседневной жизни большинства французов. Даже противостояния правых и левых, монархистов и республиканцев, коммунистов и голлистов с течением лет постепенно сглаживались в национальном политическом и культурном ландшафте. Подобно отложениям горных пород, наслоения идеологических баталий былых времен стали частью общего прошлого страны. Как заметил Филипп Бюррен, «Франция всегда стремилась к тому, чтобы осмыслить свои внутренние конфликты в исторической перспективе и представить свою историю в категориях борьбы».[66]66
Burrin P. Vichy // Realms of Memory. Vol. I. P. 182.
[Закрыть]
Однако в 1970-х – начале 1980-х годов вся эта конструкция, которую с любовью называли la France profonde (глубинная Франция), la douce France (сладостная Франция), la bonne vieille France (добрая старая Франция), la France é ternelle (вечная Франция), стала, по мнению самих французов, разваливаться на глазах. Модернизация сельского хозяйства в 1950–1960-х годах, миграция крестьянских сыновей и дочерей в города постепенно привели к оскудению и запустению сельской местности – несмотря на то что товарной продукции деревня стала производить гораздо больше. Большие и малые города страны, пребывавшие до тех пор в сонной атмосфере заброшенности и хронического недостатка средств, пробудились к жизни, заполнились людьми, ключом забила деловая активность. Оживление национальной экономики вызвало глубокие изменения в структуре занятости нового класса городских жителей, характере и маршрутах их поездок, способах проведения досуга. Десятилетиями зараставшие травой железные и автомобильные дороги Франции были отремонтированы, перестроены или полностью заменены новой сетью магистралей национального значения.
В трудные послевоенные годы первые перемены были еще не так заметны. Изменения начали нарастать в 1960-х – эпоху всеобщего процветания и оптимизма. По-настоящему последствия этого переворота стали ощутимы только десятилетие спустя – до того момента люди обращали внимание на приобретения, но не на потери. Однако к 1970-м годам французы с тревогой и растерянностью стали оглядываться назад в прошлое, которое большинство взрослых людей еще застало в своем детстве и которое теперь исчезало на глазах. Это чувство утраты совпало по времени с распадом другой неотъемлемой черты всего уклада жизни в стране, черты, доселе казавшейся вечной, – политической культуры, заложенной еще Великой французской революцией. Благодаря усилиям историка Франсуа Фюре и его коллег Революция была свергнута со своего пьедестала – она перестала служить мерилом прошлого и будущего французской нации, определять политическое самосознание ее граждан. На этом фоне в 1970-х годах постепенно закатилась и звезда Французской коммунистической партии, утратившей свой авторитет и голоса избирателей. Марксизм тоже потерял привлекательность в глазах интеллигенции.
На президентских выборах 1981 года победил кандидат от социалистической партии, однако уже в течение первых двух лет своего пребывания на этом посту Франсуа Миттеран отказался от всех основных принципов традиционного социализма – от обещаний достойно завершить революционные преобразования, начатые левыми в 1792 году, приверженность которым во многом и помогла ему прийти к власти. В 1970 году умер Шарль де Голль, чья харизматическая личность объединяла вокруг себя правых. Традиционный альянс между консервативными силами и католической церковью тоже оказывался изрядно подточенным по мере того, как население Франции утрачивало интерес к религиозной жизни: некогда усердные прихожане переселялись из небольших населенных пунктов в крупные города, где быстро забывали дорогу в церковь. К началу 1980-х годов были подорваны самые основы французской общественной жизни.
Наконец, и с большим опозданием, французы осознали, что их страна перестала занимать лидирующее положение на международной арене, – так, по крайней мере, утверждает Пьер Нора[67]67
«Во Франции… особая выраженность этого феномена (коммеморации, стремления к сохранению памяти. – Т.Дж.) связана не столько с какими-то конкретными событиями, сколько с поразительным богатством французской истории, с глубиной разрыва с прошлым во время Революции и с постоянным перемалыванием собственного прошлого, чем постоянно занимается страна, чувствующая, что ее вытеснили из круга великих держав» (Nora P. The Era of Commemoration // Realms of Memory. Vol. III. P. 610).
[Закрыть]. Перестав быть великой державой, Франция потеряла и статус ведущей силы в регионе – этому помешало неуклонное возрастание роли Западной Германии. Все меньше и меньше людей в мире владело французским языком – экономическое и культурное господство США и вступление Великобритании в Европейский союз означали, что в итоге весь земной шар будет говорить по-английски. С политической карты мира исчезали последние французские колонии, а возродившийся в 1960-х годах интерес к локальным и региональным наречиям и культурам, казалось, угрожал целостности и единству самой Франции. В то же самое время другое наследие 1960-х годов – требование пролить свет на самые темные стороны национального прошлого – стимулировало растущий интерес к истории режима Виши 1940—1944 годов, память о котором, ради достижения национального примирения, стремились предать забвению де Голль и его современники.
Напуганным современникам казалось, что перед ними разворачивается единый процесс, все части которого как-то связаны между собой: Франция одновременно модернизировалась, уменьшалась в размерах, раскалывалась на части. В то время как Франция, скажем, в 1956 году в своих основных чертах оставалась достаточно схожей с Францией образца 1856 года, вплоть до поразительного сходства карт географического распределения политических и религиозных пристрастий населения, – Франция образца 1980 года почти ничем не напоминала страну десятилетней давности. В ней не осталось ничего прежнего: никаких преданий старины, никакой прошлой славы, никаких крестьян. В «Местах памяти» это чувство прекрасно передал с печальной иронией Паскаль Ори. В разделе, озаглавленном «Гастрономия», он пишет: «Неужели из всего, что некогда было с нами и что теперь оказалось совсем забыто, уцелела лишь французская кухня?»[68]68
Ory P. Gastronomy // Realms of Memory. Vol. II. P. 443.
[Закрыть]
Амбициозный проект Пьера Нора появился на свет в эпоху сомнений и растерянности. Его замысел даже подчеркивал неотложность поставленной задачи – ведь все прочно утвердившиеся в общественном сознании основы того, что называлось Францией, исчезали день ото дня, незыблемый порядок вещей, существовавший при дедах и прадедах, уходил в прошлое. То, что некогда было повседневностью, бытом, превращалось в историческую достопримечательность. Многовековой уклад жизни Франции – от типов полей до церковных процессий, от передававшихся из поколения в поколение воспоминаний о жизни своей деревни до запечатленной в слове и камне официальной истории страны – все это пропадало на глазах. Этот уклад еще не стал историей, но он уже перестал быть неотъемлемой частью коллективного опыта нации.
Налицо была настоятельная потребность запечатлеть этот момент, сохранить образ Франции, с большим трудом переводящей свое прошлое из сферы живого, личного опыта в разряд истории, определить в исторических категориях целый ряд национальных традиций, которые отмирали на глазах. «Места памяти (lieux de mémoire), – как отмечает Пьер Нора в своей вводной статье к многотомнику, – существуют потому, что они перестали быть средой памяти (milieux de mémoire), пространством, в котором память является неотъемлемой частью повседневного существования людей». Что же такое «места памяти»? «<Они>, в сущности, есть не что иное, как следы… обряды, сохранившиеся в культуре, где не осталось никаких ритуалов, мимолетные вторжения сакральных сил в мир, где больше не действуют законы магии, осколки местечковых привязанностей и симпатий в обществе, решительно избавляющемся от любых проявлений местечковости».[69]69
Nora P. Between Memory and History. P. 3, 6–7.
[Закрыть]
«Места памяти» – выдающееся исследование, очень французское по своему духу. С 1984 по 1992 год Пьер Нора координировал усилия почти ста двадцати ученых, в большинстве своем французов, почти все они были профессиональными историками. Перед ними Нора поставил задачу запечатлеть в 128 статьях то, что представляет собой (или чем была раньше) Франция. Критерии отбора сюжетов менялись с течением времени. В первой из опубликованных частей речь шла о «Республике» – о символах, монументах, юбилеях и памятных торжествах, педагогических приемах, с помощью которых в XIX—XX веках во Франции утверждалась идея республики (например, статья о парижском Пантеоне). Вторая часть, в три раза превышающая первую по объему, была посвящена «Нации». Она затрагивает самые разные вопросы – от географии и историографии до символов и материальных воплощений национальной славы (например, Верден и Лувр), значения языка и литературы в истории страны (Французская академия), а также образов, связанных с государственной властью (Версаль, национальная статистика). Третья часть – «Франции» – больше двух первых частей, вместе взятых, и содержит в себе почти все, что может быть как-то связано с Францией и что не вошло в первые две части.
Таким образом, к 1992 году издание вышло из своих первоначальных берегов и приобрело энциклопедический характер. Ушел и единый методологический подход, характерный для первых двух частей. Показательно введение Пьера Нора к английскому переводу этой работы, заметно отличающееся от его же вступительной статьи в первом томе французского издания, опубликованном двенадцатью годами ранее. «Место памяти (lieu de mémoire), – пишет теперь Нора, – это любое значимое явление, вещественное или нематериальное по своей природе, которое по мановению человеческой воли или под воздействием времени приобрело статус символа в мемориальном наследии того или иного сообщества (в данном случае, – французского народа)». В таком случае трудно придумать что-то – слово, место, имя, событие или идею, – что не подходило бы под это определение. Как заметил один иностранный рецензент: «К концу книги читатель-иностранец теряет нить повествования. Есть ли во Франции хоть что-то, что не было бы „местом памяти“?»[70]70
«En fin de parcours, le lecteur étranger perd le fil. Qu’est-ce qui n’est pas lieu de mémoire?» (Boer P. den. Lieux de mémoire et l’identité de l’Europe // Lieux de mémoire et identités nationals / Eds. Pim den Boer et Willem Frijhoff. Amsterdam, 1993. P. 17). См. также: Nora P. Preface to the English-Language Edition // Realms of Memory. Vol. I. P. xvii.
[Закрыть]