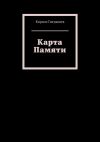Автор книги: Илья Герасимов
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
3
Я постараюсь перевести этот вопрос на язык более конкретных гипотез с помощью описания феномена, ставшего предтечей посткоммунистического состояния. Мой эксперимент заключается в том, чтобы под увеличительным стеклом посмотреть на политический импульс деколонизации – т. е. на процесс предоставления независимости бывшим колониям европейских империй – с точки зрения того, как он генерировал историческую память, а затем рассмотреть сходные процессы в бывших социалистических странах. Для этого необходимо выявить черты сходства между постсоциализмом и посткоммунистическим состоянием, с одной стороны, и постколониализмом и постколониальным состоянием – с другой. Преодоление колониализма и расставание с государственным социализмом схожи в том, что в обоих случаях была создана новая (и имевшая большие последствия в мировом масштабе) ситуация как в институциональной, так и в дискурсивной сфере. На эту новую ситуацию разные общества реагировали по-разному в зависимости от того, каковы были их исходные позиции, которые, в свою очередь, определялись главным образом тем, по какую сторону баррикад в бывшем конфликте (колониальные центры vs. периферии; демократически-капиталистические страны vs. страны с государственно-социалистическим строем) находилось то или иное общество. Таким образом, мотив «глобализации» в данном контексте актуален не потому, что в мировом масштабе предположительно происходит нивелировка культурно-интерпретационных парадигм, и не в силу обратного тезиса о локальной фрагментации интерпретационных схем, якобы сопровождающей прогресс капитализма. «Глобализация» в данном случае релевантна, поскольку оказались подорваны глобальные макроинституциональные конфигурации и связанные с ними политико-легитимационные дискурсы. Этот конец общественных формаций – реальных и ожидаемых – глубоко сказывается на существовании постколониальных и постсоциалистических обществ, как в общественной политике, так и на уровне коллективной идентичности, а значит – и исторической памяти.
Как сказался этот новый контекст (исторически сложившаяся исходная диспозиция плюс новая глобальная констелляция) на практиках памяти в обществах, освободившихся от колониального господства, можно показать с помощью краткого обзора таких научных направлений, как постколониальные исследования и subaltern studies[105]105
В русском научном языке нет готового эквивалента, позволяющего кратко передать суть этой дисциплины. В ее рамках изучается подчиненный субъект вообще, т. е. те социальные, национальные, гендерные, возрастные и прочие группы, которые не были представлены в доминирующих исторических нарративах, что зачастую сопровождалось политической и иной дискриминацией. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Хотя в данном случае нельзя говорить о некоем едином подходе и было бы натяжкой подводить целый ряд разнородных течений под общую рубрику «постколониализм», все же такое название вполне оправданно – но только в значении дискурсивной и макроинституциональной конфигурации. Ниже я собираюсь доказать это, рассмотрев вкратце основные темы постколониальных исследований.
Ранаджит Гуа – один из наиболее известных представителей и пионеров «постколониального» подхода к изучению обществ – считает, что перед современными историками бывших колоний стоит задача выработать альтернативу тем историографическим (и политическим) дискурсам о прошлом их стран, которые все еще оперируют западноевропейскими понятиями. В содержательном плане он имеет в виду прежде всего переоценку крестьянских восстаний и проявлений неповиновения в колониальной и постколониальной Индии: по его мнению, проникнутая колониальным духом историография представляла их в ложном свете, поскольку пользовалась понятийными категориями и имплицитными представлениями о течении исторических процессов, сформированными под воздействием западноевропейского опыта[106]106
ArnoldD. Gramsci and Peasant Subalternity in India // Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial / Ed. by V. Chaturvedi. London, 2000. P. 24—49 (здесь c. 34 и след., впервые опубликовано в 1984 году); Guha R. On Some Aspects of the Historiography of Colonial India // Mapping Subaltern Studies. P. 1—7 (здесь с. 2 и след.; впервые опубликовано в 1982 году).
[Закрыть]. С 1980-х годов вышел целый ряд работ, развивающих идеи Гуа. В них, в частности, критически разбирается национальная историография бывших колоний начиная с XIX века и подвергается критике (с использованием разных понятийных средств) более или менее осознанное использование западноевропейских историко-философских процессуальных моделей и, особенно, представлений об образовании наций[107]107
Chatterjee P. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, 1993. P. 85—115; Duara P. Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives in Modern China. Chicago, 1995. P. 3—80; Prakash G. Writing Post-Orientalist Histories of the Third World: Perspectives from Indian Historiography // Mapping Subaltern Studies. P. 163—190 (здесь с. 168—171; впервые опубликовано в 1990 году).
[Закрыть]. В результате такого переноса чужих категорий на контексты, сложность которых они не способны отразить, проникнутая колониальным и гегемонистским духом наука может участвовать в формировании доминантного знания, затушевывая особенности конкретного исторического опыта колонизованного народа. Поле своей исследовательской деятельности представители «постколониального» подхода видят в изучении конкретного опыта спорадического сопротивления и формирования стратегической горизонтальной солидарности, с одной стороны, и эксплуатации и подчинения населения различными элитами – с другой.
Как отмечает Партха Чаттерджи, новая исследовательская программа не может ограничиться лишь критикой понятийного аппарата, демонстрирующей систематическую неприменимость его к бывшим колониям: она должна рассматривать категории типа «сознание», «восстание», «угнетение» и т. д. с точки зрения их принадлежности к такому дискурсу, который исторически способствовал и в настоящее время продолжает способствовать подчинению бывших колоний. В том, что касается, например, категории «сознания», Чаттерджи формулирует следующее парадигматическое положение: «Мы должны признать, что крестьянское сознание обладает своей собственной парадигмальной формой, которая не только отлична от формы буржуазного сознания, но на самом деле является его полной противоположностью»[108]108
Chatterjee P. The Nation and Its Peasants // Mapping Subaltern Studies. P. 8—23 (здесь с. 14, впервые опубликовано в 1993 году).
[Закрыть]. Отсюда вытекает необходимость представления самого западноевропейского исторического и отчасти социологического дискурса как явления исторического и относительного. Одной из ранних и приобретших большую известность попыток реализации подобного подхода стала книга Эдварда Саида «Ориентализм» (1978). Отталкиваясь от теории дискурса Фуко, автор выстраивает историю ориенталистского дискурса – т. е. того, как говорили и писали о «Востоке» в XVIII–ХХ веках, включая в свой анализ и макроинституциональные факторы: экономические, политические и военные отношения между колониями и центром, т. е. метрополиями. Согласно Саиду, дискурс «ориентализма» сам создал свой предмет и одновременно придал этому взгляду дополнительную силу за счет макроинституциональных отношений подчинения между метрополией-центром и колониальной периферией, и потому неудивительно, что в закамуфлированной форме этот дискурс встречается и в ХХ веке[109]109
Said E. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. London, 1995. P. 1—28 (впервые опубликовано в 1978 году); Prakash G. Op. cit. P. 167.
[Закрыть]. Сочетание дискурсивных факторов с макроинституциональными автор рассматривает в первую очередь применительно к вопросу о механизме удержания в подчиненном состоянии региональных и социальных групп – в частности, крестьян, – несмотря на всевозможные метаморфозы, происходившие с момента преодоления колониального господства[110]110
ArnoldD. Op. cit. P. 45.
[Закрыть]. Таким образом, внимание «постколониального» исследователя направлено прежде всего на буржуазные слои, а внутри таковых – на круги интеллектуалов. При этом рассматривается и критикуется – отчасти в порядке саморефлексии – их роль в дискурсивной и политической репрезентации обществ: та роль, которая нормативно задана как возможная, и та, которую они фактически играют в истории.[111]111
Guha R. Op. cit. P. 5 и след.; Chatterjee P. Op. cit. P. 22 и след.; Said E. Götter, die keine sind: Der Ort des Intellektuellen. Berlin, 1997.
[Закрыть]
Выступая с критикой прошлых и современных исследований, посвященных бывшим колониям, «постколониализм» полемизирует с политико-теоретическими презумпциями и моделями социальных структур и процессов, восходящими к западноевропейской политической и социологической теории. Что касается критики политической теории, то она направлена, к примеру, против марксистского понимания классовой борьбы, потому что оно, как считают критики, не отражает реальные взаимоотношения между рабочими и крестьянами в Индии[112]112
Arnold D. Op. cit. P. 34—45.
[Закрыть]; против теорий сопротивления и бунта, которые уделяют излишнее внимание политико-правовой сфере и не рассматривают повседневные практики сопротивления; против теории формирования политических общностей, которая ориентирована на политические институты, а не на отношения и статус членов группы[113]113
Chatterjee P. Op. cit. P. 16—21.
[Закрыть]. Постколониальная критика отвергает западные модели социальных структур и процессов – например, теории классов или теории модернизации – на том основании, что эти модели, с одной стороны, являются просто вариациями ориенталистского дискурса, ибо исходят из неравенства между наличным уровнем и возможностями развития разных обществ, а с другой – отрицают гетерогенность и историческую непредопределенность взаимодействия практик подчинения и сопротивления в колониальном контексте. Так, критикуемые теории создают некий единый образ Индии, выставляя длительное подчиненное состояние значительных групп населения этой страны в качестве их естественного состояния и одновременно призывая к корректирующему вмешательству извне[114]114
Prakash G. Writing Post-Orientalist Histories. P. 164—167, 171—179.
[Закрыть]. В качестве новейшей интеллектуальной модели подобного рода Гайан Пракаш приводит «девелопментализм», который, по его словам, переписывает отмененный ныне колониальный проект развития в духе инструкции по обеспечению национального экономического подъема[115]115
Ibid. P. 173.
[Закрыть]. В основании этой весьма и весьма радикальной критики (ср. спор между Пракашем[116]116
Ibid.; Prakash G. Can the Subaltern Ride? A Reply to O’Hanlon and Washbrook // Mapping Subaltern Studies. P. 220—238 (впервые опубликовано в 1992 году).
[Закрыть] и О’Ханлоном-Уошбруком[117]117
O’Hanlon R., Washbrook D. After Orientalism: Culture, Criticism and Politics in the Third World // Mapping Subaltern Studies. P. 191—219 (впервые опубликовано в 1992 году).
[Закрыть] по поводу того, допустимо ли применение каких бы то ни было категориальных аппаратов в социологической теории) лежит подозрение, что социальные науки выступают как сообщники конституирующих и доминантных дискурсов и институтов колониализма. При таком взгляде представляется необходимым по возможности избегать антиисторических обобщений и теоретических построений.
Очевидно, что историография не может выступать только как инструмент коррекции социологических и политико-теоретических категориальных аппаратов, воспроизводящих дискурс ориентализма. Как пишет Партха Чаттерджи, данная ситуация «стимулирует историка сыграть подобающую ему/ей роль провокатора социологов и политологов»[118]118
Chatterjee P. Op. cit. P. 19.
[Закрыть]. Только скрупулезное изучение исторических документов, компенсирующее перекосы западноевропейских ориенталистских интеллектуальных моделей, лежащих в основе политических и социологических теорий, может выявить обстоятельства жизни и, в конце концов, последствия подчиненного положения населения в бывших колониях, ибо только так можно избежать недопустимых обобщений, считает Чаттерджи[119]119
Bayly CA. Rallying Around the Subaltern // Mapping Subaltern Studies. P. 116—126 (здесь p. 117, впервые опубликовано в 1988 году).
[Закрыть]. Важнейшее значение он придает работе с источниками. Историкам, работающим в русле постколониализма, надлежит не столько создавать новые массивы данных, сколько подвергнуть критическому пересмотру уже имеющиеся источники – полицейские отчеты, административные меморандумы, газеты, сообщения колониальных чиновников и интеллектуалов – и задаться вопросом о том, в каких целях они до сих пор использовались. Именно так можно пролить свет на взаимосвязь между производством определенного знания («знания-власти») в недрах колониального аппарата и его превращением в источник информации для повторного издания ориенталистских дискурсов. Это позволит историографии с критических постколониальных позиций рассматривать не только содержание источников, но и условия их возникновения и функционирования.
Наконец, последний важнейший признак постколониального подхода в изучении истории бывших колоний заключается, на мой взгляд, в ярко выраженной тенденции к рефлексии по поводу собственной роли исследователя как историка, интеллектуала, ученого. Иначе и не может быть, поскольку постколониализм интересуется ролью историографии и взятыми ею на себя функциями в деле конструирования колониальной и национальной идентичности, игнорирующей фактическую гетерогенность.[120]120
Guha R. Op. cit. P. 5 и след.; Chatterjee P. Op. cit. P. 22 и след.; Said E. Götter, die keine sind.
[Закрыть]
В завершение этого раздела надо выяснить вопрос о том, насколько оправданно говорить не только о дискурсивном постколониальном состоянии (как выше говорилось о посткоммунистическом состоянии – ведь все общества на земле расстались с колониализмом и теми политическими, социальными и моральными идеями, выражением которых он являлся), но и об общественном «постколониализме». Это означало бы, что общества, находящиеся на постколониальном историческом этапе (исходная позиция их трансформации поддается точному описанию), оказываются подвержены дискурсивным и макроинституциональным потрясениям, сопровождающим крушение колониальных империй, и вырабатывают в связи с этим специфические практики памяти. В своих рассуждениях я исхожу из того, что постколониальный исторический дискурс сам по себе есть своего рода институционализированная практика памяти, которую можно исследовать через своеобразие репрезентации этой исходной позиции. Поскольку далее я буду более подробно говорить на эту тему, здесь я ограничусь самыми общими замечаниями.
На мой взгляд, анализ дискурсивных концептов нации и национального государства, как и их деконструкцию, можно рассматривать как реакцию на два процесса макроинституциональных изменений и обусловленное ими реструктурирование политико-легитимационных дискурсов. Я имею в виду, во-первых, постколониальное состояние – глобальное усиление такой политической формы организации, как национальное государство, вследствие деколонизации (примечательным исключением из этого процесса является СССР и ряд социалистических стран) и, во-вторых, общественный постколониализм, вернее, такое специфическое явление, как установление в новых независимых государствах правительств, образовавшихся на основе национально-освободительных движений[121]121
О постколониальной Африке см.: K öß ler R., MelberH. – H. Chancen internationaler Zivilgesellschaft. Frankfurt a.M., 1993. S. 143—191.
[Закрыть]. Продемонстрированная этими правительствами неспособность представить интересы всего населения новообразовавшихся государств в сочетании с их непрекращающейся политической, экономической и военной зависимостью от бывших метрополий (и от Советского Союза) не могла не дискредитировать сам концепт нации как объединяющего и политизирующего фактора. По этой причине репрезентация прошлого в бывших колониях была невозможна без одновременной рефлексии по поводу его связи с национальными институтами и дискурсами («национальное государство», «национальная идея»). На интерпретацию этой связи сильное влияние оказали метрополии. Таким образом, постколониальный подход в историографии касается не только постколониальных обществ.
Кроме того, как я уже писал, в данном контексте было невозможно обойтись без массированной критики социологических и политологических представлений об общественном устройстве – например, теории модернизации парсоновского или марксистского толка.
Выбор источникового материала, которым пользуется постколониальная историография и история «подчиненных обществ», надо, как я полагаю, также рассматривать в контексте генеалогической критики макромоделей социальной эволюции и политической легитимации. Целью постколониальных штудий является не создание альтернативной истории на базе новых или прежде недоступных источников: критика направлена не против тенденциозного подбора или сокрытия данных, а против тех дискурсивных рамок, в которых они интерпретируются. В то время как историография, взор которой обращен на элиты и которая смотрит через национально-государственные очки, утверждает, что крестьянские восстания в колониальной Индии были безрезультатны, постколониализм считает это суждение ошибочным не потому, что не были учтены какие-то данные, а потому, что предметом познавательного интереса исследователей все время было только влияние этих восстаний на сферу оформленных политических институтов. Те же самые источники, из которых были сделаны такие заключения, допускают и иной вывод: политическая активность представителей подчиненного общества должна рассматриваться в силовом поле между повиновением, эксплуатацией, покорностью, с одной стороны, и сопротивлением, подрывной деятельностью и саботажем – с другой, ибо в рамках этого поля они могли испытать себя в политической деятельности посредством объединения в коалиции на основе стратегического расчета либо чувства идентичности[122]122
ArnoldD. Op. cit. P. 40, 47; Bayly CA. Op. cit. P. 117.
[Закрыть]. Отсюда же, вероятно, проистекает и проблематизация функции историка, ведь главная трудность его работы заключается в том, чтобы критически относиться к дискурсивной природе своей собственной деятельности.
Все сказанное не должно создавать впечатления, будто постколониальный подход, во всей своей гетерогенности, является некой автоматической реакцией на обнаруживаемые макроинституциональные и дискурсивные данности. Правильнее было бы сказать, что эти данности вызывают определенное отрицание, которое затем – в форме требования какого-то историографического течения – становится предметом социальной критики. Коллективные практики памяти, таким образом, превращаются в элемент критического описания общества. Поэтому постколониальный дискурс не может в принципе быть ограничен какими-то определенными странами, группами или предметными областями, ибо он конституируется на основе конкретного опыта подчиненного существования, требующего конкретной же репрезентации, каковая, однако, возможна только путем критики общемодернистских институтов и дискурсов.
4
Обратимся теперь к постсоциалистическим практикам памяти в посткоммунистическом состоянии. Я буду двигаться по тому же пути, по которому шел при реконструкции постколониализма, но в обратном направлении и с другой целью. Вместо того чтобы интерпретировать те или иные практики памяти как творческую или критическую реакцию на процессы макроинституциональных и дискурсивных изменений, как я делал это применительно к постколониальной историографии, я задамся вопросом о том, как изменения макроинституциональных конфигураций и политико-легитимационных дискурсов, наступившие в ходе постсоциалистической демократизации, обусловливают творческую и критическую коммеморативную рецепцию концептов нации и модернизации, а также обращение с эмпирическим материалом и рефлексию по поводу практик памяти или их носителей в постсоциалистических обществах[123]123
Соответственно, и характеристика этого комплекса будет неполной, однако, на мой взгляд, она все же способна прояснить мою аргументацию.
[Закрыть]. Проще говоря, речь пойдет о социальной памяти после исчезновения социалистического строя и краха ожиданий коммунистического будущего. Компасом мне послужит постулат Вагнера о тотальности политического действия и связанный с ним вопрос об общественной идентичности в условиях, когда ход истории подверг политические и социальные институты радикальной ревизии, воздействие чего на практики памяти мы теперь можем систематизировать.
По сравнению с постколониальным состоянием, которое возникало в контексте освобождения колоний, посткоммунистическое состояние породило более запутанную картину в том, что касается идеи и института национального государства. С одной стороны, национальное государство – практически единственная из оставшихся форм политической организации, применительно к которой можно говорить о суверенитете. Поэтому неудивительно, что протест против социалистических режимов в конце 1980-х годов, когда он формулировался «снизу», зачастую высказывался от имени нации. Пример ГДР, в которой лозунг «Мы – народ!» вскоре превратился в «Мы – единый народ!», показывает, что протест против некоей определенной формы общественно-политического устройства скоро слился с национальными кодами (этническими, языковыми, территориальными и др.). Поэтому концепт нации, особенно в контексте реакции на опыт социализма, явился главным для интеллектуалов и других элит, в руках которых была сосредоточена интерпретативная власть. С другой стороны, после 1989 года казалось, что именно нация одновременно находится под большой угрозой и сама представляет бóльшую угрозу, чем в послевоенный период. Угроза для нации возникла с пониманием того, что самые важные политические, экономические и культурные процессы не знают государственных границ и что требуемая международным сообществом интеграция в интернациональные и транснациональные организации в ставшем более тесном мире плохо согласуется с национальными претензиями на суверенитет. Более опасной нация стала потому, что несовпадение национальных границ с политическими – наследие социалистического строя – породило практически в каждом национальном государстве сепаратистские и ирредентистские движения. Это были не разгоревшиеся в новых условиях многовековые конфликты, как не устают твердить те, кто рассматривает культуру как самостоятельную сущность. Активизация национализма связана с присущим трансформационному процессу состоянием «общественной политики»: вследствие того, что практические политические вопросы оказываются неразрывно переплетенными с глобальными социальными проектами (что, в свою очередь, связано с проектом полной перестройки общества), появляется тенденция втягивать эти частные политические вопросы в сферу символического конструирования коллективной идентичности. Таким образом, Чеченская «кампания» в России, так же как и «политика» в отношении Косова, проводившаяся Союзной Республикой Югославией при Милошевиче, воспринимались и воспринимаются общественным мнением не как политические проблемы, а как этнические конфронтации[124]124
LangenohlA. Erinnerungskonflikte und Chancen ihrer “Hegung” // Soziale Welt. 2001. Bd. 52. H. 1. S. 71—92.
[Закрыть]. В более общем плане это можно сформулировать так: обсуждение частных вопросов текущей политики на фоне разговоров о коллективной идентичности способствует не столько интеграции всего общества, сколько закреплению, увековечению и, во всяком случае, оправданию механизмов символического исключения.
«Национальная» дилемма постсоциалистических обществ состоит, таким образом, в том, что с точки зрения общественной трансформации национальное государство и национальные идеи представляются хотя и не имеющими альтернативы, но вместе с тем все же проблематичными. Освобождение от нации и обреченность на нацию – две стороны одной медали. Поэтому и неудивительно, что историография в новых демократических государствах Восточной и Восточно-Центральной Европы сделала своей задачей конструирование национальной истории[125]125
Davies R. W. Soviet History in the Yeltsin Era. Basingstoke, 1997; Kozlov V. “Post-Kommunismus” und die Erfahrung der russischen Geschichte im 20. Jahrhundert: Ideen und Konzeptionen (1992—1995) // Sozialwissenschaft in Russland / Hrsg. von I. Oswald, R. Possekel, P. Stykov, J. Wielgohs. Berlin, 1996. Bd. 1: Analysen russischer Forschungen zu Sozialstruktur, Eliten, Parteien, Bewegungen, Interessengruppen und Sowjetgeschichte. S. 219—246; LassA. From Memory to History: The Events of November 17 Dis/membered // Memory, History, and Opposition under State Socialism / Ed. by R.S. Watson. Santa Fe, 1994. P. 87—104; Романенко С.А. История и историки в межэтнических конфликтах. (Югославия конца 80-х – начала 90-х годов) // Общественные науки и современность. 1997. № 5. С. 54—62; Kohrs M.H.
Die baltischen Staaten. Доклад на конференции “Die Gegenwart der Vergangenheit. Umbruch und Aufarbeitung in Ost– und Mitteleuropa”, Берлин, 23—25 мая 2002 года; Die Rückkehr der Geschichte: Osteuropa auf der Suche nach Kontinuität / Hrsg. von L. Luks. Köln, 1999; Im Osten erwacht die Geschichte: Essays zur Revolution in Mittel-und Osteuropa / Hrsg. von F. Schirrmacher. Stuttgart, 1990.
[Закрыть], оборотной стороной которой, к сожалению, является символическое (а порой и не только символическое) исключение меньшинств.
Еще одна институциональная констелляция и связанный с нею дискурс, которые отличают посткоммунистическое состояние от постколониального, – это неоднозначные отношения между бывшими социалистическими обществами и старыми демократиями Запада. В этой сфере никогда в новейшей истории не существовало явного подчинения или зависимости. Тем не менее практически беспрепятственное «продвижение на Восток» капиталистического способа производства (который, например, в польских промышленных центрах XIX века развивался вполне свободно) породило социальное неравенство, резкие социальные контрасты и жесткую классовую структуру, которую вполне можно назвать «вторым крепостным правом»[126]126
Kideckel D. A. Us and Them: Concepts of East and West in the East European Tradition // Cultural Dilemmas of Post-Communist Societies. P. 134—144 (здесь c. 135 и след.).
[Закрыть]. В противоположность колониализму, социалистическая модернизация представляла собой структурную трансформацию, не навязанную Западом, а вызванную политическими силами внутри самого социалистического блока[127]127
В бывших социалистических странах за пределами экс-СССР это приводит к тому, что «вину за коммунизм» взваливают на Советский Союз. Cр.: Wolff – Powqska A. Geschichte im Dienste der Politik. Erfahrungen bei der Bewältigung der Vergangenheit im 20. Jahrhundert // Osteuropa. 1997. Bd. 47. H. 3. S. 215—229 (здесь c. 218).
[Закрыть]. То же самое можно, в общем, сказать о переходе от авторитарной фазы к поставторитарной в конце 1980-х годов. Эта ситуация, с одной стороны, приводит к тому, что воспоминание-смыкание с европейскими культурными и политическими традициями при конструировании национальной идентичности в постсоциалистическом пространстве оказывается менее проблематичным, чем в постколониальном: коммеморативный мотив «возвращения в Европу» оказывается возможным – зачастую в виде дискуссии о «гражданском обществе»[128]128
Kideckel D. A. Op. cit. P. 137 и след.
[Закрыть] – именно благодаря тому мнению, что Европа все время ждала этого возвращения, а не требовала подчинения, как в случае с колониями. К тому же ввиду вышеупомянутой хрупкости национальной идеи и социальной интеграции в рамках национального государства зачастую кажется, что историческая легитимность той или иной нации рассматривается как недостаточная. Тогда добавляется притязание на международное признание определенной исторической функции, которая обосновывается географическим положением национального государства. Особую известность приобрел аргумент о «мосте» между Востоком и Западом, который проявляется в различных элементах коммеморативного дискурса, таких как «Восточно-Центральная Европа» вместо «Центральная Европа», или в значительно более отграничительном концепте евразийства в России[129]129
Shlapentokh D. V. Eurasianism: Past and Present // Communist and Post-Communist Studies. 1997. Vol. 30. № 2. P. 129—151 (здесь c. 148 и след.).
[Закрыть]. Но, с другой стороны, институционализация Европы в форме Европейского союза препятствует такому осмыслению собственного положения в этом регионе, которое руководствовалось бы исключительно культурными соображениями. Поскольку политические переговорные процессы (например, в контексте расширения ЕС на Восток) интерпретируются постсоциалистическими обществами как давление тотальной общей идентичности, то естественно напрашивается интерпретация нынешних отношений между Европой и постсоциалистическими странами в духе модели «центр–периферия», когда европейский центр вмешивается в коллективные процессы самоопределения новых демократических государств[130]130
Jacyno M. Center and Periphery – Continuity in Change // Cultural Dilemmas of Post-Communist Societies. P. 59—67 (здесь с. 59 и след.).
[Закрыть]. В своих наиболее острых формах такое оформление европейской идентичности нацелено против США[131]131
Это прежде всего относится к России, о чем свидетельствует контент-анализ материалов избирательной кампании и публикаций в прессе при подготовке президентских выборов 1996 года, а также контент-анализ ряда периодических изданий. Cр.: Achkasov V.A. The Changing Image of the West // Political Culture and Political Change in Post-Communist Societies / Ed. by V. Goutorov, A. Koryushkin, G. Meyer. St. Petersburg, 1997. P. 23—35; Shlapentokh V. Old, New and Post Liberal Attitudes Toward the West: From Love to Hate // Communist and Post-Communist Studies. 1998. Vol. 31. № 3. P. 199—216.
[Закрыть]. Историзация отнесения себя к Европе у переходных обществ, таким образом, колеблется между семантикой возвращения и отторжения. В целом она обнаруживает тенденцию к поляризации, что скорее препятствует, нежели способствует дифференцированному осмыслению отношений с Европой и идентификации общих проблем (если не считать проблемы якобы существующих «потоков беженцев»).
Историзация самоопределения в постсоветских государствах включает в себя и проблему отношения коллективной памяти к социалистическому периоду. Я уже писал о том, что, по сравнению с колониальным порядком, реально существующий социализм был институционально самостоятельной, а не навязанной Западом общественной конфигурацией. Это не могло не сказаться и в дискурсивной сфере, где социализм понимался как реально осуществлявшаяся, но неудавшаяся или сорванная альтернатива конкретным западным моделям модернизации[132]132
Cм. применительно к России: Langenohl A. Erinnerung und Modernisierung. Die Rekonstruktion politischer Kollektivität am Beispiel des Neuen Rußland. Göttingen, 2000. S. 229—268.
[Закрыть]. Поэтому, в отличие от постколониализма, в этом случае главным для исторического исследования становится не столько модель исторического процесса (например, социологическая теория модернизации), сколько сам исторический процесс. После того как в конце 1980-х годов марксистско-социалистические модели исторического процесса подверглись тотальной критике и почти полностью сошли с дискурсивной сцены в сегодняшних постсоциалистических обществах, изучение социализма свелось к вопросам: «Как мы дошли до жизни такой?» или «Почему не получилось?». Таким образом, обнаруживается тенденция к рассмотрению истории как причинно-следственной цепи событий, приведших к нынешнему положению вещей, что переживается исключительно в свете проблем переходного периода. Поэтому в центре осмысления прошлого в постсоциалистических странах находятся не столько принципы конструирования истории как дискурса, сколько отношения каузальности в истории как процессе.
Понимаемая таким образом история, со своей стороны, «подсказывает» определенные темы при анализе источникового материала. Практически во всех постсоциалистических обществах огромную роль играет дискуссия о содержании и политическом использовании исторических документов, источников и свидетельств. Я назову несколько примеров. 1990-е годы в новых демократических государствах Восточно-Центральной Европы и в бывшей ГДР были временем публичного политического (порой происходившего на высоком административном уровне) спора о легитимности использования документов спецслужб, которые потенциально могли содержать информацию о связях нынешних политиков с диктаторскими режимами[133]133
Juristische Bewältigung des kommunistischen Unrechts in Osteuropa und Deutschland / Hrsg. von G. Brunner. Berlin, 1995; Holmes S. The End of Decommunization // Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes / Ed. by N.J. Kritz. Washington, 1995. Vol. 1: General Considerations. P. 116—120; Vergangenheitsbewältigung am Ende des 20. Jahrhunderts / Hrsg. von H. König, M. Kohlstruck, A. Wöll. Opladen, 1998; Schwartz H. Lustration in Eastern Europe // Transitional Justice. P. 461—483; Smith K.E. Decommunization after the “Velvet Revolutions” in East Central Europe // Impunity and Human Rights in International Law and Practice / Ed. by N. Roht-Arriaza. N.Y., 1995. P. 82—98.
[Закрыть]. В Чехии и Польше требования предать документы спецслужб огласке получили название «люстрации». В бывшем Советском Союзе прокатилась волна публикаций неожиданно открывшихся секретных документов. Часто они печатались без комментариев, на том лишь основании, что ранее были закрытыми, причем никто не давал себе особого труда ответить на вопрос о том, в каком контексте их правильно было бы рассматривать и как их следует адекватно интерпретировать[134]134
Cр.: Langenohl A. Op. cit. S. 229—268.
[Закрыть]. Споры о содержании и политическом использовании исторических источников с очевидностью выявили тенденцию к игнорированию вопросов об их смысле, репрезентативности и эвристической ценности. Само собой разумеется, что подобная зацикленность на «голом факте» не может быть долговечной, хотя бы потому, что в современных модернизационных процессах особенно ярко проявляются исторические и процессуальные случайности[135]135
Магическое словосочетание «открытие архивов» – например, в бывшем Советском Союзе – не может сохранять свою действенность бесконечно. Можно, однако, задаться вопросом, не способствуют ли поддержанию его актуальности разговоры о «снова закрываемых архивах», независимо от их реалистичности.
[Закрыть]. Тем не менее именно она определяет собой выбор направления в начале поставторитарного трансформационного процесса[136]136
В последнее время можно было наблюдать реакцию против этой наивной веры в документы: маятник, так сказать, сильно качнулся в сторону интерпретаций. Так, в России с середины 1990-х годов вышло множество работ, которые ориентированы на историю личностей и подвергаются критике за недостаточную (в лучшем случае) фундаментальность. Cр.: Ibid. S. 283 и след.
[Закрыть], что сильно отличается от весьма типичной для постколониальной историографии дискурсивной интеграции и апроприации исторических документов.
Сосредоточенность на историческом материале и его политическом использовании связана, в частности, с двумя постсоциалистическими особенностями посткоммунистического состояния. Во-первых, она представляет собой понятную реакцию на десятилетиями скрывавшийся массив данных, некий способ его общественного освоения, а кроме того, разумеется, – еще и аргумент в поставторитарной политической дискуссии. Во-вторых, этот интерес к документам характерен для такого понимания прошлого, при котором история рассматривается как цепь причинно-следственных связей и поиск ответа на вопрос «Как было на самом деле?» ведется за счет расширения источниковой базы, а не за счет переформулирования дискурсивной рамки.
В заключение я хотел бы – со всей подобающей осторожностью – попробовать сравнить саморефлексию постколониальных и постсоциалистических интеллектуалов. Я показал, что саморефлексия постколониальных историков коренным образом связана со склонностью к социальной критике, причем вопрос, каковы их отношения с населением, хотя и обсуждается время от времени, в целом все же бледнеет на фоне осознаваемого риска впустить, так сказать, через заднее крыльцо латентно неоимпериалистические аргументационные схемы в постколониальную историческую науку. Ситуация, в которой обнаруживают себя постколониальные интеллектуалы, сложна, но узнаваема, поскольку связана с дискурсами колониализма и ориентализма и их политизированными контркатегориями. Напротив, постсоциалистические интеллектуалы склонны определять свою позицию не столько как некую рефлексию по поводу общества, сколько как моральную установку. Наиболее известный, однако отнюдь не единственный пример тому – девиз Вацлава Гавела «жить по правде». Дискурс-анализ, проведенный Шалини Вентурелли, продемонстрировал, что понятийные категории, с помощью которых интеллектуалы в Восточно-Центральной Европе конструируют свое понимание общества и политические проекты, представляют собой наследие гуманистической традиции: индивидуум воспринимается как вне-институциональная репрезентация гуманистических идеалов, а социальные структуры мыслятся не в политических или экономических категориях, а в категориях коллективизма[137]137
Venturelli S. S. Reinventing Culture of “Humanism” in Post-Socialist Society: New Social Thought on Civic Community // Cultural Dilemmas of Post-Communist Societies. P. 115—133.
[Закрыть]. Отчасти знакомая и родная восточно-центральноевропейская концепция «гражданского общества», подразумевающая отвоевывание у государства сфер политической самодеятельности, которая, со своей стороны, определяется началами коллективизма, человечности и солидарности, вписывается в этот же контекст (и, между прочим, самую радикально-демократическую ее форму создали в основном западные интеллектуалы). С точки зрения памяти это означает, что постсоциалистическим интеллектуалам важен не столько институционализированный способ обращения с прошлым, сколько интериоризованное и персонализированное отношение к нему. Лозунг «жить по правде» можно считать постсоциалистическим самоопределением постольку, поскольку он напоминает о существовавших при реальном социализме формах целенаправленной и управляемой государством дезинформации и пропаганды – напоминает, отграничиваясь от них. Так как прежняя (социалистическая) ложная интерпретация истории рассматривается не в качестве побочного продукта дискурсивных воздействий, а в качестве преднамеренного и беззастенчивого обмана подвластных властями предержащими, то критика ложной интерпретации проявляется в виде стремления к правдивости, то есть как внутренняя позиция, которая, однако, находит свое внешнее соответствие в особой близости к «народу». Не говоря уже о том, что такие моральные императивы грозят упрощением реальности прошлого[138]138
Wolff – Powqska A. Op. cit. S. 218.
[Закрыть], декларируемая близость к народу, как насмешливо замечает Здзислав Краснодембски, в высшей степени проблематична, ибо на размышления о высоких нравственных ценностях в период постсоциалистической трансформации ни у кого, кроме интеллектуалов, времени не хватает.[139]139
Krasnod ę bski Z. Efforts toward a New Modernization in Eastern Europe and the Cultural Dilemmas of the Postmodern West // Cultural Dilemmas of Post-Communist Societies. P. 91–101 (здесь c. 99).
[Закрыть]
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?