Читать книгу "К вечному миру"
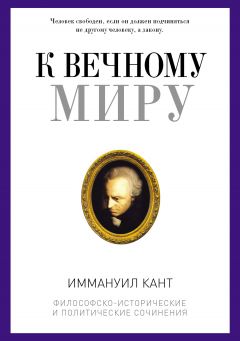
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Спор факультетов ведется за влияние на народ, и добиться этого влияния они могут лишь в той мере, в какой каждому из них удастся убедить народ в своей способности наилучшим образом содействовать его благополучию. При этом, однако, способы, какими эти факультеты намереваются его достигнуть, прямо противоположны друг другу.
Но народ усматривает свое благополучие не в свободе, а прежде всего в своих естественных целях, стало быть, в трех вещах: в блаженстве после смерти, в том, чтобы при жизни среди своих ближних иметь гарантию своей собственности, основанную на публичных законах, и, наконец, в физическом наслаждении жизнью самой по себе (т. е. в здоровье и долгой жизни).
Однако философский факультет, который может судить об этих желаниях только на основе предписаний, заимствованных им от разума, и, стало быть, привержен принципу свободы, придерживается лишь того, что человек сам может и должен делать: жить честно, ни с кем не поступать несправедливо, быть умеренным в наслаждении, терпеливым в болезни и прежде всего рассчитывать на самопомощь организма; для всего этого, конечно, не требуется особой учености, и к тому же можно было бы в большинстве случаев вообще обойтись без нее, если бы люди умели обуздывать свои склонности и доверять руководство ими разуму, что народ вряд ли сумеет сделать собственными усилиями.
Народ (который в вышеуказанных учениях осуждается за свою склонность к наслаждениям и за свое нежелание прилагать к этому усилия) требует от трех высших факультетов более приемлемых предложений и предъявляет ученым такие претензии: то, что вы, философы, болтаете, я сам знаю уже давно; я бы хотел узнать от вас, от ученых, как бы мне, прожившему нечестивую жизнь, все же в последний момент получить позволение войти в Царство Небесное; как бы мне, если даже я неправ, выиграть тяжбу и как бы мне остаться здоровым и долго прожить, если даже я полностью черпал свои телесные силы для наслаждения и даже злоупотреблял ими? Вы ведь для того и учились, чтобы знать больше, чем кто-либо из нас (которых вы называете неучами), притязающих только на здравый рассудок и ни на что больше. Здесь, однако, получается, что народ обращается к ученому словно к прорицателю и волшебнику, сведущему в сверхъестественных делах. Ведь неученый охотно создает себе преувеличенное представление об ученом, когда он чего-то требует от него. Поэтому естественно ожидать, что если у кого хватает наглости выдавать себя за такого чудотворца, то народ будет обращаться к нему и с презрением отвернется от философов.
Однако практические деятели трех высших факультетов оказываются такими чудотворцами всякий раз, когда философскому факультету не позволяют публично возражать им – не для подрыва их учений, а лишь для оспаривания той магической силы, которую суеверно приписывает им и связанным с ними обычаям публика, считающая, что если пассивно отдаться во власть таких искусных наставников, она избавится от необходимости самостоятельно действовать и ее с великими удобствами приведут к указанным выше целям.
Если высшие факультеты принимают такие принципы (к которым совсем не предназначены), то они находятся и всегда будут находиться в споре с низшим факультетом. Но этот спор также незаконен, так как они не только не видят в нарушении законов какого-либо препятствия, но считают это нарушение желанным поводом показать свое великое искусство и способность делать все хорошо, и даже лучше, чем это могло бы быть сделано без их участия.
Народ желает быть ведомым, т. е. (на языке демагогов) обманутым. Но он хочет, чтобы им руководили не ученые факультетов (ведь их мудрость для него слишком высока), а их практические деятели, знающие всю механику (savoir faire): священники, юристы, врачи; они, как практики, имеют наилучшую репутацию. А это вводит само правительство, которое может влиять на народ только через них, в искушение навязать факультетам теорию, не имеющую своим источником чистое разумение ученых этих факультетов, а рассчитанную на влияние, которое могут через нее иметь их практические деятели на народ, так как народ большей частью следует тому, что требует от него меньше всего усилий и применения собственного разума, и тогда долг может наилучшим образом быть приведен в согласие со склонностями. Так, в области богословия полагают, что «вера» в самом узком смысле без изучения (даже без надлежащего понимания) того, во что следует верить, сама по себе спасительна, и что совершением тех или иных согласных с предписаниями обрядов можно искупить преступления; или в области права – что соблюдение буквы закона избавляет от [необходимости] исследовать замыслы законодателя.
Здесь перед нами серьезный, никогда не прекращающийся незаконный спор между высшими и низшим факультетами, так как принцип законодательства для первых, который внушают правительству, может оказаться освященным им самим беззаконием. В самом деле, так как склонность и вообще то, что каждый считает полезным для своих личных целей, не может стать законом, следовательно, не может проповедоваться высшими факультетами как закон, то правительство, которое утверждает его и тем самым вступает в противоречие с разумом, вовлекает высшие факультеты в спор с философским – спор, который вообще недопустим, так как он совершенно уничтожает философский факультет, что, правда, представляет собой кратчайший, но вместе с тем (по выражению врачей) смертельно опасный героический путь завершения спора.
Раздел четвертый. О законном споре высших факультетов с низшим
Каково бы ни было содержание учений, которые правительство правомочно утверждать для публичного преподавания высшими факультетами, учения эти можно рассматривать и почитать лишь как уставы, исходящие от правительственной воли, и как человеческую мудрость, которую нельзя считать непогрешимой. Истинность этих учений ни в коей мере не должна быть безразличной правительству; в отношении ее ему необходимо оставаться в подчинении разуму (интересы которого должен оберегать философский факультет); но это возможно, только если предоставляется полная свобода публичной проверки учений. Вот почему спор между высшими факультетами и низшим, во-первых, неизбежен, ибо произвольные, пусть даже утвержденные высшей инстанцией, положения не всегда могут сами по себе быть согласованными с учениями, которые разум считает необходимыми; во-вторых, этот спор будет законным, и не только право, но и долг философского факультета, если и не высказывать публично всю истину, то хотя бы стремиться к тому, чтобы все, что выставляется, так сказать, в качестве принципа, было истинно.
Если источник некоторых утвержденных учений исторический, то как бы их ни рекомендовали как священные тем, кто не задумываясь, высказывает послушание догматам веры, философский факультет вправе, более того, обязан проверять этот источник критически. Если источник рациональный, хотя он и представлен в виде некоего исторического знания (как откровение), то ему (низшему факультету) не возбраняется выискивать разумные основания законодательства в историческом исследовании и, кроме того, определять, каковы они – технически-практические или морально-практические. Если, наконец, источник провозглашающего себя законом учения не более чем эстетический, т. е. основанный на связанном с каким-нибудь учением чувстве (поскольку чувство не служит объективным принципом, оно значимо лишь субъективно и не может лечь в основу общего закона; оно может быть разве благочестивым ощущением некоего сверхъестественного внушения), то философскому факультету должно быть дозволено беспристрастно проверять происхождение и содержание такого мнимого основания наставления и давать ему оценку, не страшась святости самого предмета, который будто бы чувствуют, и решительно свести это мнимое чувство к понятиям. Изложенное ниже содержит формальные принципы ведения такого спора и вытекающие отсюда следствия.
1) Этот спор не может и не должен быть улажен посредством мирной сделки (amicabilis composite), а нуждается (как процесс) в приговоре, т. е. в имеющем законную силу решении судьи (разума); ведь этот спор можно уладить, только если идти по нечестному пути, по пути умалчивания причин распрей и по пути уговаривания, но такого рода максимы противны духу философского факультета, задача которого – публичное изложение истины.
2) Спор никогда не может прекратиться, и именно философский факультет должен быть всегда готов к нему. Ведь статутарные предписания правительства в отношении публично проповедуемых учений всегда будут иметь место, так как неограниченная свобода преподнесения публике своего мнения неизбежно становится опасной отчасти для правительства, отчасти же для самой публики. А так как все постановления правительства исходят от людей или по крайней мере утверждаются ими, то всегда есть опасность, что они могут быть ошибочными или нецелесообразными. Стало быть, это касается и санкции правительства, которую оно дает высшим факультетам. Следовательно, философский факультет не может складывать оружия ввиду опасности, грозящей истине, защита которой возложена на него, потому что высшие факультеты никогда не умерят свое страстное желание господствовать.
3) Этот спор не может нанести ущерб престижу правительства. Ведь это не спор факультетов с правительством, а спор факультетов между собой, и правительство может спокойно наблюдать за ним, хотя оно и берет под свою защиту некоторые положения высших факультетов, предписывая практикам их публичное изложение, однако оно берет под свою защиту высшие факультеты не как ученые сообщества, [т. е.] не ради истинности публично излагаемых ими учений, мнений или утверждений, а только ради собственной выгоды, ибо было бы несовместимо с его достоинством решать вопрос об истинности внутреннего содержания этих факультетов и тем самым играть роль ученого. Высшие факультеты, собственно говоря, ответственны перед правительством только за те инструкции и наставления, которые они дают своим практическим деятелям для публичного сообщения; эти последние выступают перед публикой как перед гражданским обществом, и поэтому они зависят от санкции правительства, поскольку могут нанести ущерб влиянию правительства на эту публику. Учения же и мнения, относительно которых факультеты в качестве теоретиков должны договариваться между собой, обращены к публике другого рода, а именно к ученой публике, занимающейся науками; народ скромно полагает, что он в этих науках ничего не смыслит, правительство же считает неприличным для себя ввязываться в ученые споры[197]197
Если же спор ведется перед гражданским обществом (открыто, например с кафедры), как пытаются делать практические деятели факультетов (под именем практиков), то он неправомочно выносится на суд народа (которому не дано судить об ученых делах) и перестает быть ученым спором; в этом случае наступает упомянутое выше состояние спора, когда учения излагаются соответственно склонностям народа и зароняются семена возмущения и крамолы, представляющие опасность для правительства. Эти самозванные народные трибуны тем самым исключают себя из сословия ученых, нарушают права гражданского устройства (вторгаются в политику) и образуют породу неологов, справедливо ненавистное имя которых часто понимается совершенно неверно, когда неологом называют каждого обновителя учений или систем обучения (и действительно, почему старое всегда должно считаться лучшим?). Наоборот, этим именем следует заклеймить тех, кто вводит совершенно другую форму правления, или, вернее, отсутствие всякого правления (анархию), причем они отдают дела ученых на суд народа, суждениями которого они управляют по своему усмотрению, влияя на его привычки, чувства и склонности, и тем самым могут лишить законное правительство влияния на народ.
[Закрыть]. Класс высших факультетов (как правое крыло парламента ученых) защищает правительственные установления, но в то же время при свободном государственном устройстве, каковым ему и следует быть, когда дело идет об истине, должна существовать некая оппозиционная партия (левое крыло) – место философского факультета, ибо без его строгой проверки и возражений у правительства не будет достаточно ясного понятия о том, что ему самому полезно или вредно. Однако если практические деятели факультетов вздумают по собственному усмотрению вносить изменения в предписания, данные им для публичного изложения, то правительство вправе считать их опасными для себя неологами, но решение о них оно должно принимать не непосредственное, а через всеподданейший арбитраж, созданный высшим факультетом, так как эти практические деятели могли быть назначены правительством для изложения тех или иных учений только через факультет.
4) Этот спор вполне совместим с согласием между ученым и гражданским обществом будучи в максимах, следование которым должно способствовать постоянному совершенствованию обоих факультетских классов, и в конечном итоге подготавливает отмену всяких ограничений свободы общественного мнения со стороны правительственной воли.
Так могло бы наступить время, когда последние стали бы первыми (низший факультет высшим), правда, не в смысле господства, а в смысле способности советовать властям (правительству); в этом случае свобода философского факультета и вытекающая отсюда свобода воззрений будет лучшим средством для достижения целей правительства, чем его собственный абсолютный авторитет.
ЗаключениеИтак, этот антагонизм, т. е. спор двух связанных друг с другом общностью конечной цели сторон (concordia discors, discordia concors)[198]198
Согласие в несогласии, несогласие в согласии (лат.).
[Закрыть], не есть война, т. е. не распри, возникающие из противопоставления конечных целей моего и твоего ученых, которое, как и политическое мое и твое, состоит из свободы и собственности, где свобода как условие необходимо должна предшествовать собственности. Следовательно, низшему факультету должно быть предоставлено такое же, как и высшим, право высказывать свои критические суждения перед ученой публикой.
I. Предмет спора
Основывающийся на Библии богослов есть, собственно, знаток Священного Писания для церковной веры, покоящейся на уставах, т. е. на законах, исходящих от воли другого. Рациональный же богослов есть знаток разума для религиозной веры, следовательно, для веры, покоящейся на внутренних законах, которые могут быть развиты из собственного разума каждого человека. Что это так, т. е. что религия не может основываться на установлениях (какого бы высокого происхождения они ни были), явствует из самого понятия религии. Религия – это не совокупность определенных учений как божественных откровений (такая совокупность называется богословием), а совокупность всех наших обязанностей вообще как велений Божьих (и субъективно – совокупность максим соблюдения их как таковых). Религия ничем не отличается от морали по своему содержанию, т. е. объекту, ибо она касается долга вообще; ее отличие от морали лишь формальное, т. е. религия есть законодательство разума, призванное придать морали влияние на человеческую волю для исполнения человеком его долга при помощи созданной самим разумом идеи Бога. Но именно поэтому есть только одна религия; нет различных религий, есть лишь различные виды веры в Божественное откровение и установленные ими учения, которые не могут возникать на основе разума, т. е. существуют различные формы чувственного способа представления о Божественной воле для обеспечения ее влияния на умы людей; среди всех этих форм христианство, насколько нам известно, наиболее подходящая. Христианство содержится в Библии и состоит из двух частей: одна – канон, другая – органон, или средство религии; первую можно назвать чистой религиозной верой (без уставов, основанной только на разуме), а вторую – церковной верой, покоящейся всецело на уставах, нуждающихся в откровении для того чтобы считаться священным учением и предписаниями для жизни. – Но так как долг человека – пользоваться этим направляющим средством для указанной цели, если мы можем признать его Божественным откровением, то отсюда ясно, почему, когда говорят о религиозной вере, обычно подразумевают вместе с ней и опирающуюся на Священное Писание церковную веру.
Основывающийся на Библии богослов говорит: ищите в Писании, в котором вы полагаете найти вечную жизнь. Но вечную жизнь ни один человек не найдет ни в каком Писании, разве что он привнесет ее туда сам, так как условие ее только одно – моральное совершенствование, которое человек как бы вкладывает в Писание, ибо необходимым для этого понятиям и принципам нельзя, собственно, научиться у других, они, когда этого требует изложение, должны быть развиты из собственного разума преподавателя. Писание же содержит больше того, что само по себе нужно для вечной жизни, а именно то, что принадлежит исторической вере и хотя с точки зрения религиозной веры может быть полезным только как чувственное средство (для того или иного лица, для той или другой эпохи), но не принадлежит ей необходимо. И вот основывающийся на Библии богословский факультет настаивает на этом как на Божественном откровении так, как если бы историческая вера принадлежала религии. Философский же факультет выступает против такого допускаемого богословским факультетом смещения и выявляет то, что историческая вера содержит истинного о подлинной религии.
К этому средству (т. е. к тому, что присовокупляется к религиозной вере) относится также метод обучения, который нужно рассматривать как [нечто] предоставленное самим апостолам, а не как Божественное откровение, и можно считать значимым для образа мыслей тогдашних времен (ϰατ᾽ ανυρωπον), а не как учения сами по себе (ϰατ᾽ αληυειαν), а именно или негативно, только как допущение некоторых господствовавших тогда, самих по себе ошибочных мнений, дабы не идти против господствующего, но по существу не оспаривающего религию тогдашнего заблуждения (например, против заблуждения одержимых), или положительно, дабы использовать предпочтение, оказанное народом своей старой церковной вере, с которой следует покончить, для того чтобы ввести новую (например, истолкование истории Ветхого Завета как прообраза того, что произошло в Новом Завете, и если эту историю в виде иудаизма ошибочно включают в вероучение как его часть, то она может вызвать у нас сожаление: nunc istae reliquiae nos exercent. – Cicero)[199]199
«Теперь эти оставшиеся не дают нам покоя» (Цицерон).
[Закрыть].
По этой причине библейская ученость сталкивается с некоторыми затруднениями в искусстве толкования, и по вопросу о нем и его принципе высший факультет (основывающийся на Библии богослов) должен вступить в спор с низшим, причем первый, как заботящийся преимущественно о теоретическом библейском знании, подозревает низший факультет в том, что он своей философией отвергает все учения, которые следует считать подлинными учениями откровения и потому принять их буквально, и что он ложно приписывает им какой угодно смысл. Наоборот, низший факультет, как обращающий больше внимания на практическое, т. е. больше на религию, чем на церковную веру, обвиняет богословский факультет в том, что он таким образом совершенно упускает из виду конечную цель, которая, как внутренняя религия, должна быть моральной и покоиться на разуме. Вот почему разум, имеющий своей целью истину, стало быть, философия, притязает в случае спора на преимущественное право определять смысл тех или иных мест Писания. Ниже мы излагаем философские принципы толкования Священного Писания; но мы вовсе не считаем, что толкование должно быть философским (имеющим целью расширение философии); мы имеем в виду, что так должны быть сформулированы лишь принципы толкования, так как все принципы, касаются ли они историко-критического или грамматически-критического толкования, также должны всегда диктоваться разумом, а здесь в особенности, поскольку речь идет о том, что можно найти в Писании для религии (которая может быть только предметом разума).
II. Философские принципы толкования Писания, способствующие улаживанию спора
I. Места в Писании, содержащие теоретические, объявленные священными учения, которые выше всех (даже моральных) понятий разума, могут, а те места в Писании, которые содержат положения, противоречащие практическому разуму, должны быть истолкованы в пользу разума. Приведем несколько примеров.
а) Из учения о Святой Троице, если принимать его буквально, решительно ничего нельзя вывести для сферы практического, даже когда полагают, что понимают его, а еще менее, когда убеждены, что оно выше всех наших понятий. Ученик с одинаковой легкостью поверит на слово в то, что мы должны почитать в Боге три лица или десять лиц, потому что у него вообще нет никакого понятия о Боге во многих лицах (ипостасях), а еще больше потому, что он из этой многоликости не может извлечь какие-либо правила для своего поведения. Другое дело, когда догматам придают моральный смысл (как я попытался сделать в своем сочинении «Религия в пределах только разума»); в этом случае они содержат не бесполезную, а относящуюся к нашему моральному назначению понятную веру. Именно так обстоит дело с учением о вочеловечении Божества. Действительно, если этого Богочеловека представляют не как от века заложенную в Боге идею человечества во всем угодном Богу моральном совершенстве[200]200
Фанатизм жившего в XVI в. в Венеции Постеля в этом пункте есть фанатизм именно такого весьма оригинального рода и служит хорошим примером того, в какие заблуждения можно впасть, и притом неистовствовать с помощью разума, когда наглядное объяснение какой-либо чистой идеи разума превращают в представление о предмете чувств. В самом деле, если под такой идеей подразумевают не отвлеченное понятие человечества, а человека, то этот человек должен принадлежать к какому-то полу. Если этот Богом порожденный мужского пола (сын) и если он обладал людской слабостью и взял на себя грехи людей, то ведь слабости и грехи противоположного пола специфически отличаются от слабостей и грехов мужского пола, и не без основания хочется допустить, что мужской пол должен возыметь свою особую заместительницу (нечто вроде божественной сестры) как примирительницу. И Постель полагал, что он нашел такую божественную дочь в лице одной скромной венецианской девицы.
[Закрыть][201]201
Постель (Postel) Гийом (в латинизированной форме Постеллус (1511–1581) – французский лингвист, известен своими путешествиями по Востоку и визионерством.
[Закрыть] (см.: там же, стр. 81 и далее), а как «воплощенное» в реальном человеке Божество, действующее в нем как вторая природа, то из такой тайны мы не извлечем для себя ничего практического, так как мы не можем требовать от себя, чтобы мы действовали подобно Богу, следовательно, в этом смысле Он не может стать для нас примером; кроме того, возникло бы затруднение, почему, если такое совмещение возможно, Божество не наделило им всех людей, и тогда они все без исключения стали бы ему угодными. То же можно сказать про повествование о воскресении Христа и его вознесении.
С практической точки зрения нам совершенно безразлично, будет ли в загробном мире только наша душа, или для установления подлинности нашей личности на том свете потребуется та же материя, из которой состояло наше тело здесь, на Земле; следовательно, душа не есть особая субстанция, и само наше тело должно быть воскрешено; а кому свое тело столь мило, чтобы тащить его с собой в мир вечности, если можно от него избавиться? Стало быть, вывод апостола: «Если Христос не воскрес (не ожил телесно), то и мы никогда не воскреснем (не будем жить после смерти)»[202]202
Слова Канта близки к I Посланию к коринфянам 15,12–14 апостола Павла.
[Закрыть] – неубедителен. Но пусть он будет неубедительным (нельзя ведь в основу аргументации положить внушение), этим он хотел только сказать, что у нас есть основание верить в то, что Христос еще жив и что наша вера была бы ложной, если бы такой совершенный человек не остался жить после (телесной) смерти. Эта вера, внушенная ему (как всем людям) разумом, побудила его к исторической вере в общее дело, которое он искренне принял за истинное и в котором он нуждался для доказательства моральной веры в загробную жизнь, не понимая, что он вряд ли поверил бы в эту легенду без моральной веры. При этом моральная цель была достигнута, хотя способ представления нес на себе отпечаток школьных понятий, в которых он воспитывался. Впрочем, против этого имеются серьезные возражения: таинство причастия (печальной беседы) в память о Христе похоже на прощание навсегда (а не только в надежде на скорое свидание). Мольба на кресте выражает неудавшееся намерение (Христа привести евреев к истинной религии еще при его жизни), в то время как следовало бы ожидать радости по поводу исполненного желания. Наконец, слова учеников Христа в Евангелии от Луки: «Мы думали, он спасет Израиль» – не дают нам основания заключить, что они были подготовлены к ожидавшемуся через три дня возвращению Христа, и еще меньше основания заключить, что они что-нибудь слышали о его воскресении. Но почему мы должны историческую легенду постоянно ставить на место религии (среди второстепенных вещей) и таким образом впутываться в такое множество ученых исследований и споров, когда речь идет о религии, для которой в практическом отношении вполне достаточно веры, внушаемой нам разумом.
b) При истолковании тех мест Писания, в которых форма выражения противоречит нашему основанному на разуме понятию о природе и воле Бога, основывающиеся на Библии богословы уже давно взяли за правило: то, что выражено человеческим способом (ανυρωποπαυωζ), должно быть истолковано в богодостойном смысле (υεοπρπωζ); на основе этого они совершенно явно отрицают, что в делах религии разум – высший толкователь Писания. Но мысль о том, что даже тогда, когда автор Священного Писания мог придать своим словам только такой смысл, который противоречит нашему разуму, разум все же считает себя вправе толковать места Писания сообразно со своими принципами, а не буквально, если он не желает обвинить автора Писания в ошибках, – эта мысль кажется противоречащей высшим правилам толкования, и тем не менее с ней всегда были согласны самые прославленные богословы. Так было с учением св. Павла об избрании к спасению, из которого явствует, что, по его личному мнению, должно было существовать предопределение в самом строгом смысле слова, которое поэтому и было принято одной из крупных протестантских церквей в свое вероучение, но впоследствии большой частью ее адептов было оставлено или в меру своих сил истолковано иначе, так как разум считает предопределение несовместимым с учением о свободе, об ответственности за поступки и, следовательно, несовместимым со всей моралью. Даже там, где вера в Священное Писание некоторыми своими учениями приходила в противоречие не с нравственными принципами, а только с максимами разума при объяснении физических явлений, некоторые библейские исторические легенды, например легенда об одержимых (демонических людях), хотя они были изложены в Священном Писании в той же исторической манере, что и вся священная история, и почти нет сомнения, что авторы принимали их за буквальную истину, – эти легенды были истолкованы комментаторами Писания с почти полным единодушием так, что это толкование удовлетворяло и разум (чтобы не давать свободного доступа [в религию] предрассудкам и обману), но при этом не оспаривалось у авторов Писания такое правомочие.
II. Вера в библейские учения, которые должны быть даны в откровении, чтобы их можно было познать, сама по себе не заслуга; а отсутствие веры, даже противостоящее ей сомнение само по себе не есть вина; важнее всего в религии поведение, и в основе всех библейских вероучений должна лежать эта конечная цель, стало быть, также некий соответствующий этой цели смысл.
Под догматами подразумевают не то, во что следует верить (ибо вера не допускает никаких императивов), а то, что возможно и целесообразно принять в практическом (моральном) отношении, хотя оно и недоказуемо, в него можно только верить. Если я принимаю веру в качестве принципа безотносительно к морали, только в значении теоретического признания истинности, например в значении того, что исторически опирается на свидетельства других, или же поскольку я некоторые данные явления могу объяснить не иначе как на основании тех или иных предпосылок, то такая вера вовсе не часть религии, ибо она не делает человека лучше и не доказывает [возможность] этого. Если такая вера притворна, навязана душе страхом и надеждой, то она противна искренности, стало быть и религии. Если, следовательно, некоторые места из Библии звучат так, как если бы они веру в то или иное основанное на откровении учение не только рассматривали как заслугу, но и возвышали над морально добрыми делами, то они должны быть истолкованы так, как если бы под ними подразумевалась моральная вера, очищающая и возвышающая душу посредством разума; при этом даже можно предположить, что такому толкованию противоречит буквальный смысл, например: кто верит и крещен, обретет блаженство и т. п. Таким образом, моральную, благонамеренную душу не может тревожить сомнение в упомянутых выше статутарных догматах и их подлинности, Эти же положения можно рассматривать как существенные требования к способу изложения той или иной церковной веры, которую, однако, поскольку она есть лишь средство религиозной веры, стало быть, сама по себе подвержена изменению и должна сохранить способность к постоянному очищению вплоть до совпадения с религиозной верой, не следует превращать в символ веры, хотя и в церкви она не должна публично подвергаться нападкам и попираться, потому что она находится под охраной правительства, заботящегося об общественном согласии и мире; между тем дело наставника предостерегать от того, чтобы церковной вере приписывалась самостоятельная святость, и призывать к тому, чтобы без промедления перейти к введенной таким образом религиозной вере.
III. Поступки человека следует представлять как вытекающие из применения самим человеком своих моральных сил, а не как результат влияния некой внешней высшей действующей причины, по отношению к которой человек пассивен. Истолкование тех мест Священного Писания, которые как будто указывают буквально на положение о пассивности, должно быть намеренно направлено на согласие с первым принципом.
Если под природой понимают господствующий в человеке принцип содействия своему счастью, а под милостью Божией – заложенные в нас непостижимые моральные задатки, т. е. принцип чистой нравственности, то природа и милость не только различны, но часто находятся в противоречии друг с другом. Если же под природой (в практическом значении) понимают способность достигать определенных целей собственными силами, то милость есть не что иное, как природа человека, поскольку он определен к поступкам своим собственным внутренним, но сверхчувственным принципом (представлением о своем долге), который мы, стремясь его объяснить, но не зная основания его, представляем как вызванное в нас божеством побуждение к добру, задатки которого заложены в нас не нами, стало быть, представляем этот принцип как милость. Грех (злонамеренность в человеческой природе) сделал необходимым уголовные законы (словно для рабов), милость же (т. е. надежда на развитие доброго, которую животворит вера в изначальные задатки доброго в нас и пример, подаваемый Сыном Божьим богоугодному человечеству) может и должна стать еще могущественнее в нас (как свободных), если мы только позволяем ей действовать в нас, т. е. пробудить в нас убеждение в возможности образа жизни, сходного с упомянутым святым примером. Итак, те места Писания, которые как будто содержат [призыв к] пассивной покорности внешней силе, порождающей в нас святость, должны быть истолкованы так, чтобы стало ясно, что мы сами должны трудиться над развитием моральных задатков в нас, хотя эти задатки свидетельствуют о божественности происхождения, которое выше всякого разума (при теоретическом исследовании причины), и поэтому обладание ими есть не заслуга, а Божья милость.
IV. Там, где собственных поступков недостаточно для оправдания человека перед своей (строго судящей) совестью, разум вправе допустить некое сверхъестественное дополнение к недостаточной справедливости человека (и не имея права определять, в чем состоит это дополнение).
Такое право разума само по себе ясно; ведь тем, чем человек должен быть по своему назначению (а именно сообразным священному закону), он и должен быть в состоянии стать, а если это невозможно естественным образом, собственными силами, то он может надеяться, что это произойдет при внешнем божественном содействии (каким бы образом это содействие ни совершалось). Можно еще добавить, что вера в это дополнение душеспасительна, ибо только благодаря ей он может обрести мужество и твердые убеждения для богоугодного образа жизни (как единственного условия надежды на блаженство), дабы он не отчаялся в достижении своей конечной цели (стать угодным Богу). Но нет никакой необходимости знать и точно указать, в чем заключается средство этой замены (оно в конце концов запредельно и при всем том, что сам Бог мог бы сообщить нам о нем, непостижимо для нас); более того, притязать на такое знание было бы дерзостью. Итак, те места Священного Писания, которые, кажется, содержат такое специфическое откровение, должны быть истолкованы так, чтобы они касались лишь средства моральной веры для народа на основе вероучений, которые были до сих пор у народа, и не относились к религиозной вере (для всех людей), стало быть, относились лишь к церковной вере (например, для принявших христианство евреев), нуждающейся в исторических доказательствах, которые не каждый человек способен представить. В отличие от нее религия (как основанная на понятиях морали) должна быть сама по себе совершенной и свободной от всякого сомнения.









































