Читать книгу "К вечному миру"
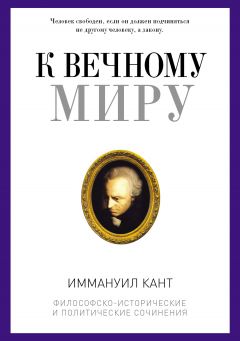
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Здесь совершенно ясно, сколько зла причиняет принцип счастья (которое, собственно говоря, вообще нельзя подвести ни под какой определенный принцип) в государственном праве, так же как и в морали, даже при самых лучших намерениях его проповедников. Суверен хочет по своим понятиям сделать народ счастливым и становится деспотом; народ не хочет, чтобы его лишили общечеловеческого притязания на личное счастье, и становится бунтовщиком. А если бы сначала спрашивали, в чем заключается право (в том случае, когда априорные принципы твердо установлены и никакой эмпирик не может ничего напортить), то идея общественного договора сохранила бы свое бесспорное значение, но не как факт (как думал Дантон, который без этого факта считал абсолютно недействительными все права в реально существующем гражданском устройстве и всякую собственность), а только как основанный на разуме принцип суждения о всяком публично-правовом устройстве вообще. И тогда бы поняли, что, до того как появляется всеобщая воля, народ не имеет никакого права принуждения по отношению к своему повелителю, потому что только через него народ и может по праву принуждать; когда же всеобщая воля существует, также не может иметь место принуждение народа по отношению к повелителю, так как сам народ был бы тогда верховным повелителем; следовательно, народу никогда не может принадлежать право принуждения по отношению к главе государства (право сопротивляться ему словом или делом).
Теория эта достаточно подтверждается практикой. В государственном устройстве Великобритании, где народ так гордится своей конституцией, как если бы она служила образцом для всего мира, мы находим, однако, что эта конституция ровно ничего не говорит о правомочии, которым обладал бы народ, в случае если бы монарх нарушил договор 1688 года; стало быть, конституция негласно оставляет за народом право восставать против монарха, если бы он перестал соблюдать конституцию, потому что никакого закона об этом нет. Да и было бы очевидным противоречием, если бы конституция для такого случая содержала в себе закон, который давал бы право (хотя бы и при нарушении договора) ниспровергнуть существующее, государственное устройство, из которого исходят все отдельные законы; ведь в таком случае конституция должна была бы заключать в себе и публично установленную противостоящую силу[110]110
Никакое право в государстве не может быть, так сказать, коварно обойдено молчанием при помощи какой-нибудь тайной оговорки, а всего менее такое право, которое народ приписывает себе как относящееся к конституции, потому что все законы конституции должно мыслить как возникающие из одной публичной воли. Поэтому, если бы конституция разрешила восстание, она должна была бы открыто признать право на него и указать способ его осуществления.
[Закрыть], стало быть, еще второго главу государства, который защищал бы права народа против первого главы, а затем еще и третьего, который решал бы, на чьей стороне право. Поэтому то руководители (или, если хотите, опекуны) народа позаботились о том, чтобы оградить себя от такого рода обвинений на случай, если бы они промахнулись со своим начинанием: они считали, что лучше приписать низвергнутому ими монарху добровольный отказ от управления, чем присваивать себе права на его свержение, так как этим они привели бы конституцию в явное противоречие с самой собой.
Если эти мои утверждения не вызовут (а я в этом уверен) упрека, будто я слишком льщу монарху, приписывая ему такую неприкосновенность, то надеюсь, что меня избавят и от другого упрека, будто я слишком много говорю в пользу народа, утверждая, что и он имеет свои неотъемлемые права по отношению к главе государства, хотя они не могут быть принудительными правами.
Гоббс придерживается противоположного мнения. Он полагает (de Cive, cap. 7, § 14), что глава государства в своих отношениях к народу никаким договором не связан и не может причинить гражданам несправедливость (как бы он ни распоряжался ими). Это положение было бы вполне верным, если бы под несправедливостью понимать такой ущерб, который дает обиженному право принуждения по отношению к тому, кто поступил с ним несправедливо; но в такой общей форме это положение ужасно.
Всякий нестроптивый подданный должен иметь возможность допускать, что государь его не хочет поступать с ним несправедливо. Стало быть, так как каждый человек имеет свои неотъемлемые права, от которых он не может отказаться, если бы даже и хотел, и о которых он сам имеет право судить, а несправедливость, которая, по его мнению, выпадает на его долю, может, согласно указанному предположению, быть совершена только по ошибке или от незнания тех или иных следствий, вытекающих из законов высшей власти, – то гражданин государства, и притом с позволения самого государя, должен иметь право открыто высказывать свое мнение о том, какие из распоряжений государя кажутся ему несправедливыми по отношению к обществу. В самом деле, допустить, что глава [государства] никогда не может ошибаться или быть несведущим в каком-нибудь деле, значило бы считать его боговдохновенным и стоящим выше человечества. Поэтому свобода печатного слова есть единственный палладиум прав народа – свобода в рамках глубокого уважения и любви к своему государственному устройству, поддерживаемая либеральным образом мыслей подданных, который оно внушает (и в этом те, кто пишет, сами ограничивают друг друга, чтобы не утратить своей свободы). Ведь намерение отказать народу в этой свободе было бы равносильно не только лишению его всякого притязания на право по отношению к верховному повелителю (как думает Гоббс), но и лишению самого повелителя – чья воля дает приказания подданным как гражданам только потому, что он представляет общую волю народа, – всяких знаний о том, что он сам изменил бы, если бы знал об этом, и в таком случае он стал бы в противоречие с самим собой. Внушать же главе опасение насчет того, что самостоятельные и открыто высказанные суждения могут привести к беспорядкам в государстве, значит то же, что вызывать у него недоверие к своей собственной власти или же ненависть к своему народу.
Однако общий принцип, по которому народ имеет свои негативные права, т. е. право лишь судить о том, что́ в высшем законодательстве можно было бы рассматривать как не согласующееся (nicht verordnet) с его самой доброй волей, содержится в следующем положении: чего народ не может решить относительно самого себя, того и законодатель не может решить относительно народа.
Так, если поставить следующий вопрос: может ли закон, предписывающий неизменность определенного, однажды установленного церковного устройства, считаться исходящим из истинной воли (намерения) законодателя, то прежде всего следует спросить себя: позволено ли народу сделать для себя законом, чтобы определенные, однажды принятые догматы и формы внешней религии сохранились на вечные времена, и, следовательно, смеет ли он сам себе в лице своего потомства препятствовать идти вперед в религиозных взглядах или исправлять какие-то старые ошибки? Тогда станет очевидным, что первоначальный договор народа, возводящий этот народ в закон, был бы сам по себе недействительным, потому что он противоречил бы предназначению и целям человечества; стало быть, изданный на основании такого договора закон нельзя рассматривать как истинную волю монарха, против которого, следовательно, могут быть сделаны возражения. Однако во всех случаях, когда нечто подобное было бы предписано верховным законодательством, общие и публичные суждения об этом, правда, возможны, но противодействие этому словом или делом никогда не может быть провозглашено.
Во всяком обществе необходимо повиновение механизму государственного устройства по принудительным законам (имеющим в виду целое), но вместе с тем необходим и дух свободы, так как в делах, касающихся общечеловеческого долга, каждый желает убедиться разумом, что такое принуждение правомерно, ибо иначе он впадет в противоречие с самим собой. Повиновение без духа свободы есть причина, вызывающая возникновение всех тайных обществ. В самом деле, сообщать друг другу прежде всего то, что касается самого человека, – это естественная человеческая склонность; поэтому тайные общества прекращают свое существование, когда указанная свобода поощряется. И как же иначе может правительство получить знания, которые способствовали бы [достижению] его основной цели, если оно не позволяет открыто проявлять себя духу свободы, который по своему источнику и по своим действиям заслуживает столь глубокого уважения?
* * *
Нигде практика, оставляющая в стороне все чистые принципы разума, не отрекается от теории с большим высокомерием, как в вопросе о том, что необходимо для хорошего государственного устройства. Причина этого в том, что долго существующее законное устройство постепенно приучает народ к правилу судить о своем счастье и своих правах по той обстановке, в которой все до сих пор шло спокойно; но не наоборот – оценивать спокойный ход всего по понятиям о счастье и правах, которые внушает ему разум; нет, народ всегда предпочитает это пассивное состояние связанным с опасностями поискам лучшего состояния (здесь приложимо то, что Гиппократ советует врачам принимать в соображение: iudicium anceps, experimentum periculosura[111]111
Оценка сомнительна, опыт опасен (лат.).
[Закрыть]). А так как все достаточно давно существующие государственные устройства, какими бы недостатками они ни страдали, при всем различии между собой приводят к одному результату, а именно что люди довольны тем устройством, в котором живут, то, если обращать внимание на благополучие народа, никакая теория не имеет, собственно говоря, значения, а все зиждется на практике, послушно следующей за опытом.
Но если в разуме есть нечто такое, что может быть обозначено словами государственное право, и если для людей, свобода каждого из которых сталкивается со свободой другого, это понятие имеет обязательную силу, стало быть, объективную (практическую) реальность, независимо от блага или зла, которое может из этого возникнуть (знание об этом зиждется только на опыте), то оно основывается на априорных принципах (ведь что такое право, этому не может научить опыт), и существует теория государственного права, без согласия с которой не имеет значения никакая практика.
Против этого можно возразить только одно: хотя люди и имеют идею о принадлежащих им правах, но из-за своей черствости они непригодны к тому, чтобы с ними обращались в соответствии с этими правами, и недостойны этого; а потому некоторая высшая власть, действующая по одним лишь правилам благоразумия, может и должна держать их в рамках порядка. Но этот прыжок отчаяния (salto mortale) таков, что, когда речь идет даже не о праве, а только о силе, народ мог бы испытать свою силу и таким образом сделать ненадежным всякое законное устройство. Если нет ничего такого, к чему разум внушает непосредственное уважение (как, например, человеческое право), то никакое влияние на произволение людей не в силах обуздать их свободу. Но когда рядом с благоволением возвышает свой голос и право, то оказывается, что человеческая природа не столь испорчена, чтобы не внимать с почтительностью и этому голосу.
(Turn pietate gravem meritisque si forte virum quem Conspexere, silent arrectisque auribus adstant.
III. Об отношении теории к практике в международном праве с точки зрения общего человеколюбия, т. е. космополитической[113]113
Сразу нельзя понять, каким образом предпосылка общего человеколюбия указывает на всемирно-гражданское устройство, а это последнее – на создание международного права как на состояние, в котором только и могут должным образом развиться человеческие способности, делающие наш род достойным любви. Заключительная часть данного параграфа сделает эту связь очевидной.
[Закрыть]. (Против Моисея Мендельсона)
Достоин ли любви род человеческий в целом? Или это такой предмет, на который надо взирать с неприязнью, и если и желать ему всякого блага (чтобы не стать мизантропом), то от него никогда ничего хорошего ожидать нельзя, и, стало быть, скорее всего, следует отвращать от него свои взоры? Ответ на этот вопрос связан с ответом на другой вопрос: есть ли в человеческой природе такие задатки, которые дали бы основание заключить, что род человеческий всегда идет вперед к лучшему и что все злое настоящего и прошедшего времени исчезнет в добром будущего? Ведь если это так, то мы можем любить род человеческий по крайней мере за его постоянное приближение к доброму; иначе мы должны были бы его ненавидеть или презирать, что бы при этом ни говорило кокетство общечеловеческой любовью (которая в таком случае оказалась бы – самое большее – любовью благоволения, а не удовольствия). В самом деле, то, что есть зло и им остается, в особенности в преднамеренном взаимном нарушении самых священных человеческих прав, нельзя не ненавидеть, как бы ни старались заставлять себя его любить; это не значит причинять людям зло, это значит как можно меньше иметь с ними дела.
Моисей Мендельсон держался именно последнего мнения («Jerusalem», второй раздел, с. 44–47), которое он противопоставляет гипотезе своего друга Лессинга о божественном воспитании человеческого рода[114]114
Работа М. Мендельсона, о которой идет речь, называется «Иерусалим, или О религиозной власти и еврействе» (Jerusalem, Oder iiber die religiose Macht und Judentum. Berlin, 1783).
[Закрыть]. Ему кажется химерой взгляд, «будто бы в совокупности человечество здесь, на земле, в последовательности времени постоянно движется вперед и совершенствуется. Мы видим, – говорит он, – что человеческий род в целом совершает незначительные изменения (Schwungungen), и никогда не делает он нескольких шагов вперед, не возвращаясь сразу после этого с удвоенной скоростью в свое прежнее состояние». (Это настоящий сизифов камень; и при таком понимании земля оказывается, как и для индийцев, местом искупления старых, теперь уже забытых грехов.) «Человек идет вперед; но человечество постоянно движется то вверх, то вниз в установленных пределах; однако, рассматриваемое в целом, оно во все периоды сохраняет приблизительно одну и ту же ступень нравственности, одну и ту же меру религиозности и безрелигиозности, добродетели и порока, счастья (?)[115]115
Вопросительный знак принадлежит Канту.
[Закрыть] и несчастья». Эти свои утверждения Мендельсон обосновывает следующим образом (с. 46): «Вы хотите отгадать, каковы намерения Провидения относительно человечества? Не стройте никаких гипотез» (теорий, как он назвал их выше); «смотрите только вокруг себя на то, что действительно происходит, а если можете бросить взгляд на историю всех времен, смотрите на то, что происходило раньше. Таков факт; к нему и относился замысел [Провидения], он и был одобрен или по крайней мере воспринят наряду с другим в план мудрости».
Я придерживаюсь другого мнения.
Если достойно божественного взора лицезрение добродетельного человека, который борется с невзгодами и с искушениями злого и все же может устоять перед ними, то в высшей степени недостойно взора не то что божества, а даже самого обыкновенного, но благомыслящего человека лицезрение рода человеческого, с каждым новым периодом идущего все выше по пути добродетели и тотчас же после этого вновь низко опускающегося к порокам и несчастью. Одно мгновение наблюдать за этой трагедией, быть может, трогательно и поучительно, но занавес должен в конце концов упасть. Ведь если трагедия затягивается, она превращается в фарс; и хотя бы актеры и не устали, потому что они шуты, но устает зритель, которому довольно того или другого акта, чтобы с полным основанием заключить, что эта никогда не оканчивающаяся пьеса есть вечное повторение одного и того же. Правда, наказание, наступающее в конце, может, если это не более как спектакль, сгладить благодаря развязке неприятное впечатление. Но позволить бесчисленному количеству пороков (хотя бы иногда и вперемежку с добродетелями) на деле нагромождаться только для того, чтобы когда-нибудь было много наказаний, – это, по крайней мере по нашим понятиям, противно даже моральности мудрого творца и мироправителя.
Таким образом, я осмелюсь допустить, что так как род человеческий постоянно идет вперед в отношении культуры как своей естественной цели, то это подразумевает, что он идет к лучшему и в отношении моральной цели своего существования; и хотя это движение иногда и прерывается, но никогда не прекратится. Мне не нужно доказывать это предположение: доказать должен противник его. Ведь я опираюсь на свой прирожденный долг: в каждом звене цепи поколений, в котором я (как человек вообще) нахожусь, я обязан – хотя бы и не так, как должен был бы, а значит, и мог бы соответственно требуемым от меня моральным свойствам, – так воздействовать на потомство, чтобы оно становилось все лучше и лучше (возможность чего, следовательно, также должна быть допущена) и чтобы этот долг мог таким образом правомерно передаваться по наследству от одного звена поколений к другому. Можно привести много примеров из истории, дающих повод сомневаться в исполнимости моих надежд, и, если бы эти сомнения что-то доказывали, они могли бы заставить меня отказаться от бесплодной, казалось бы, работы; но пока нет полной достоверности, я не могу променять долг (как liquidum[116]116
Liguidum – достоверное, illiguidum – недостоверное.
[Закрыть]) на правило благоразумия – не стремиться к неосуществимому (словно как illiquidum, потому что оно чистая гипотеза). И как бы я ни был и как бы ни должен был оставаться неуверенным, действительно ли следует роду человеческому надеяться на лучшее, это не может причинить вред ни максиме, ни, стало быть, необходимому с практической точки зрения предположению ее, что лучшее возможно.
Эта надежда на лучшие времена, без которой серьезное желание чем-то содействовать общему благу никогда не согревало бы человеческое сердце, всегда оказывала влияние и на формирование благомыслящих людей; и добрый Мендельсон также должен бы рассчитывать на это, когда он столь ревностно трудился над просвещением и благом того народа, к которому принадлежал. Ибо разум его не позволил бы ему надеяться на то, что только он сам, и притом один, может содействовать просвещению и благоденствию народа, если другие после него не пойдут по тому же пути. Как бы ни было печально зрелище не столько тех зол, которые угнетают человеческий род по естественным причинам, сколько тех, которые люди сами причиняют друг другу, все же душа испытывает радость, уповая на то, что в будущем станет лучше, уповая с бескорыстным благоволением, поскольку мы сами давно уже будем в могиле и не пожнем плодов того, что мы отчасти сами посеяли. Эмпирические доводы, приводимые против удачи решений, основанных только на надежде, не имеют здесь никакой силы. Ведь предположение, что если что-нибудь до сих пор не удавалось, то оно и никогда не удастся, еще не дает основания отказываться от каких-либо прагматических или технических целей (например, стремиться к полетам на воздушных шарах); еще в меньшей мере оно дает основание отказываться от моральной цели, осуществление которой, если только оно не явно невозможно, становится долгом. Помимо всего этого можно представить многие доказательства того, что в наше время род человеческий в целом на самом деле значительно продвинулся вперед в моральном отношении по сравнению со всеми предшествующими эпохами (кратковременные задержки еще ничего не доказывают) и что крики о неудержимо усиливающейся испорченности человеческого рода объясняются как раз тем, что, поднявшись на более высокую ступень моральности, человечество видит гораздо дальше, и суждение о том, что мы есть, по сравнению с тем, чем мы должны быть, а следовательно, наше самопорицание становится тем более строгим, чем больше ступеней нравственности прошли мы на протяжении всего известного нам периода истории.
Если мы теперь спросим, какими средствами можно поддержать, да еще и ускорить это постоянное движение к лучшему, то окажется, что продвижение в неизмеримую даль зависит не столько от того, что мы делаем (например, не от воспитания, которое мы даем юному поколению) и по какому методу мы поступаем, чтобы осуществить это, сколько от того, что сделает человеческая природа в нас и с нами, чтобы заставить нас идти по тому пути, на который нам самим нелегко вступить. Ведь только от нашей природы или, вернее, от Провидения (так как для достижения этой цели требуется высшая мудрость) можем мы ожидать такого результата, который отразится на целом, а через него и на отдельных частях, тогда как, напротив, люди в своих планах исходят только от частей и дальше их не идут, а на целое, как слишком для них великое, они могут распространить, правда, свои идеи, но не свое влияние; в особенности потому, что в своих планах они враждебны друг другу и вряд ли могут по собственному свободному решению сговориться между собой.
Насилие, которому подвергается народ со всех сторон, и проистекающие от него бедствия заставляют его в конце концов прийти к решению подчиниться тому принуждению, которое сам разум предписывает ему как средство, а именно подчиниться публичным законам и перейти к государственно-гражданскому устройству; точно так же бедствия, испытываемые от беспрестанных войн, в которых государства стремятся притеснить или покорить друг друга, заставляют в конце концов эти государства или перейти, хотя бы и против своей воли, к всемирно-гражданскому устройству, или, если такое состояние всеобщего мира с точки зрения свободы более опасно, потому что оно приводит к самому ужасному деспотизму (как это не раз случалось с чрезмерно большими государствами), перейти к такому состоянию, которое хотя и не будет общностью граждан мира, объединенных под властью одного главы, но будет правовым состоянием федерации, основанной на общесогласованном международном праве.
Развивающаяся культура государств с одновременно возрастающим стремлением их увеличиваться за счет других хитростью или силой неизбежно приводит ко все большему числу войн и ко все большим расходам из-за постоянного увеличения войска (при постоянном жалованьи), которое держат наготове и в строгой дисциплине и снабжают все более многочисленным оружием; в то же время цены на предметы потребления беспрестанно растут, а надежды на соразмерное им приумножение представляющих их металлических денег нет никакой; мирное время длится не столь долго, чтобы сделанные за этот срок сбережения были равны расходам на следующую войну, а изобретение государственных долгов представляет собой остроумное, правда, но в конечном итоге само себя уничтожающее средство. Вот почему бессилие [государства] приведет в конце концов к тому, что должна была бы сделать, да не сделала добрая воля, а именно чтобы каждое государство имело такую внутреннюю организацию, при которой решающий голос по вопросу о том, быть или не быть войне, принадлежал бы не главе государства, которому война, собственно, ничего не стоит (так как он ведет ее на средства другого, а именно народа), а народу, за счет которого она и ведется (для этого, конечно, необходимой предпосылкой должно быть осуществление идеи первоначального договора). Ведь народ не будет из одной лишь жажды расширения или из-за мнимого, чисто словесного оскорбления подвергать себя опасности собственного разорения, которое не коснется главы государства. Тогда и потомство (на которое уже не будут обрушиваться никакие не заслуженные им тяготы) будет в состоянии все время идти к лучшему, и именно в моральном отношении, а причиной этого будет не любовь к потомству, а просто любовь каждого поколения к самому себе; при этом каждая общность, не будучи в состоянии посредством насилия вредить другой, сама должна придерживаться права и может с полным основанием надеяться, что и другие так же формировавшиеся общности будут ей в этом помогать.
Однако все это только предположение и чистая гипотеза, недостоверная, как и все суждения, которые стремятся для какого-нибудь намеренного действия, не находящегося целиком в нашей власти, найти единственно ему соответствующую естественную причину; но даже как гипотеза оно в существующем уже государстве заключает в себе принцип не для принуждения подданных (как было выше показано), а только для главы государства, свободного от принуждения. И хотя в обычных условиях не в природе человека произвольно ослаблять свою власть, тем не менее в угрожающих обстоятельствах это не невозможно; поэтому нельзя считать, что выражение ожидать необходимых для этого условий от Провидения не соответствует моральным желаниям и надеждам людей (при сознании своего бессилия); благодаря Провидению будет достигнута цель всего человеческого рода для осуществления его конечного назначения свободным применением его сил, насколько их хватит, – это будет такой исход, которому прямо противодействуют цели людей, рассматриваемых отдельно друг от друга. В самом деле, именно противодействие наклонностей друг другу, из которых возникает злое, предоставляет разуму свободную игру, при которой он все эти наклонности подчиняет себе и вместо злого, само себя разрушающего, делает господствующим доброе, которое, если уж оно есть, в дальнейшем поддерживается само собой.
* * *
Человеческая природа нигде столь не достойна любви, как во взаимных отношениях между народами. В отношении своей самостоятельности или своей собственности никакое государство ни на одно мгновение не гарантировано от посягательств другого. Желание подчинить другого или ограничить его в том, что ему принадлежит, всегда налицо; и никогда нельзя уменьшить необходимые для защиты вооружения, которые делают мир часто еще более тяжелым и для внутреннего блага более опустошительным, чем даже война. Против этого нет никакого средства, кроме международного права, основанного на публичных и опирающихся на силу законах, которым должно подчиняться каждое государство (по аналогии с гражданским или государственным правом для отдельных лиц), ведь продолжительный всеобщий мир, достигаемый так называемым равновесием европейских держав, есть чистейшая химера подобно дому Свифта, который был построен с таким строгим соблюдением всех законов равновесия, что тотчас рухнул, как только на него сел воробей. Но, скажут нам, государства никогда не подчинятся таким принудительным законам; и призыв ко всеобщему государству народов, под власть которого добровольно склонятся все отдельные государства, чтобы исполнять его законы, как бы приятно он ни звучал в теории аббата де Сен-Пьера или Руссо, на практике не имеет никакого значения; потому-то великие государственные мужи, а еще больше главы государств всегда подвергали его осмеянию как педантически детскую, вышедшую из школы идею.
Я же со своей стороны имею доверие к теории, которая исходит из правового принципа, указывающего, каково должно быть отношение между людьми и государствами, и которая рекомендует земным богам максиму во всех своих спорах действовать так, чтобы их поступки приводили к подобному всеобщему государству народов, и, значит, считать, что оно возможно (in praxi) и что оно может существовать; вместе с тем (in subsidium) я доверяю и природе вещей, которая принуждает к тому, к чему нет охоты (fata volentem ducunt, nolentem trahunt[117]117
Судьба желающего ведет, нежелающего тащит (лат.).
[Закрыть]). В этом отношении следует принимать в расчет и человеческую природу, которую я, так как в ней всегда живо уважение к праву и долгу, не могу и не хочу считать настолько погрязшей во зле, чтобы морально практический разум после многих неудачных попыток не мог наконец его победить и представить человеческую природу достойной любви. Таким образом, и с космополитической точки зрения остается в силе утверждение: то, что по соображениям разума имеет значение в теории, имеет значение также и на практике.









































