Текст книги "Речи к немецкой нации"
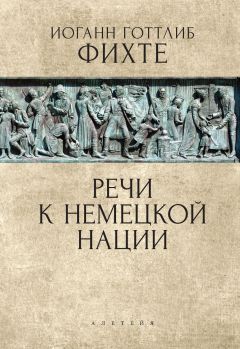
Автор книги: Иоганн Фихте
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Словно какая-то коренная зараза всего германского племени, это же может случиться и с немцем в его отечестве, если возвышенная серьезность духа не послужит ему защитой. И нашим ушам звуки латинской речи нередко кажутся возвышенными, и нашим глазам римские нравы представляются благородными, а немецкие – вульгарными; а раз мы не были настолько счастливы, чтобы получить все это из первых рук, то запросто соглашаемся принять это и из вторых рук, через коммивояжеров из числа новых римлян. Пока мы немцы, мы кажемся сами себе такими же людьми, как другие; когда же мы говорим наполовину или больше чем наполовину на чужом, не немецком, наречии, и носим непохожие нравы и платья, привезенные по-видимому из дальних стран, мы сразу мним себя благородными; но величайшее торжество для нас, это – если нас вовсе уже не считают за немцев, а видят в нас, например, испанцев или англичан, – смотря по тому, кто из них теперь более в моде. И мы правы. Естественность, со стороны немцев, произвольность и деланность, со стороны иностранцев, – таково основное различие; если мы сохраним в себе первую, то именно что будем таковы же, как весь наш народ; народ поймет нас и признает в нас подобных себе; только если мы прибегнем к подражанию последним, мы станем непонятны для него, и он сочтет нас существами иного мира. В жизнь иностранца эта неестественность входит сама собою, потому что он изначально и в главном уклонился от природы; а мы вынуждены сперва отыскивать ее, и еще приучать себя верить, будто прекрасно, уместно и удобно то, что нам естественным порядком таким не кажется. Основная причина всего этого – твердая вера немца в большее благородство романизированной заграницы, а равно и наклонность вести себя столь же благородным образом и искусственно создать также и в Германии ту пропасть между высшими сословиями и народом, которая естественно возникла за границей. Здесь достаточно будет указать основной источник этой тяги к подражанию иностранщине среди немцев. Сколь обширно ее распространение, а также и то, что зло, от которого гибнет ныне наш народ, – иностранного происхождения, но что оно должно было повлечь за собою нравственную порчу, только соединившись с немецкой серьезностью и стремлением воздействовать на жизнь своей мыслью, – это мы покажем в другой раз. Кроме двух этих явлений, возникающих вследствие основного различия, – а именно, вмешивается ли духовное образование в развитие жизни или нет, и существует ли преграда между образованными сословиями и народом или нет, – я укажу еще вот какое явление: народ с живым языком обнаруживает прилежание и серьезность и прилагает старания во всех делах, народ же с мертвым языком считает духовное занятие скорее некоторой игрой гениальности, и пассивно предается произволу своей счастливой природы. Это обстоятельство само собою следует из вышесказанного. У народа с живым языком исследование возникает из потребности жизни, которую это исследование должно удовлетворить, и получает отсюда все понуждающие импульсы, заключающиеся в самой жизни. У народа с мертвым языком это исследование стремится единственно лишь к тому, чтобы приятно и не без пользы для чувства прекрасного провести время, и если оно так и сделает, оно вполне достигнет своей цели. У иностранцев последнее почти необходимо так; у немца же, там где мы встречаем это явление, все настойчивые ссылки на гениальность или счастливую природу суть недостойная немца иностранщина, которая, как всякая иностранщина, появляется от желания выглядеть поважнее. Хотя ни в каком народе на свете без изначального стимула в душе человека, – который, как сверхчувственный, по праву носит иностранное имя гения, – не может возникнуть ничего замечательного. Но этот стимул сам по себе только возбуждает воображение и рисует в нем витающие над землею и никогда не достигающие полной определенности фигуры. Чтобы эти фигуры получили законченность, вплоть до самого основания действительной жизни, и достаточную определенность, чтобы могли быть в этой жизни долговечны, – для этого нужно усердное, тщательное и совершающееся по твердому правилу мышление. Гениальность дает прилежанию материал для обработки, и прилежание без гениальности могло бы обрабатывать или только то, что уже было им прежде обработано, или же ему не над чем было бы трудиться. Но прилежание вводит этот материал, который без него остался бы игрою без содержания, в самую жизнь; и потому лишь сообща они на что-то способны, поодиночке же они ничтожны. А кроме того, у народа с мертвым языком подлинная гениальность решительно не могла бы проявиться, потому что им недостает изначальной способности обозначения, и они могут только развивать уже начатое и вплетать его в совокупность уже имеющихся и законченных обозначений.
Что касается, в частности, большего труда, то вполне естественно, что он достается народу с живым языком. Живой язык может стоять сравнительно с другим языком на более высокой ступени образования, но он никогда не сможет сам по себе получить такую законченность и образованность, которую без труда получает мертвый язык. В последнем словесный объем языка закончен, а многообразие возможных уместных сочетаний этих слов тоже постепенно бывает исчерпано, – так что тому, кто желает говорить на этом языке, приходится именно только говорить на нем, как он есть; а когда он однажды научится этому, язык будет сам говорить в его устах, мыслить и слагать стихи за него. А в живом языке, если только люди действительно живут в нем, слова и их значения непрестанно умножаются и изменяются, и именно благодаря этому оказываются возможны новые сочетания их, и язык, который никогда не есть, но всегда только становится, говорит здесь не сам по себе, но тот, кто хочет пользоваться этим языком, вынужден именно что сам, на свой манер и творчески говорить на нем для своих нужд. Последнее же, без сомнения, требует гораздо большего прилежания и упражнений, чем первое. Так же точно, как мы уже говорили, у народа с живым языком его исследования восходят до самых корней истечения понятий из духовной природы; в мертвом же языке они пытаются лишь проникнуть в смысл чужого понятия, сделать его понятным для себя, и таким образом они в самом деле бывают лишь историческими и истолковательными, а у первого народа они суть подлинно философские исследования. Понятно само собою, что исследование этого последнего рода быстрее и легче может достичь завершения, чем исследование первого рода.
И наконец, гений иностранца усыплет цветами исхоженные военные дороги древности, и соткет изысканно-красивый наряд той житейской мудрости, которая легко сойдет у него за философию; немецкий же дух станет прокладывать новые шахты, и вносить свет дня в их бездонные пропасти, и ворочать массивные глыбы мысли, из которых будущие века выстроят себе жилища. Гений иностранца будет подобен хорошенькому эльфу, что легко порхает над цветами, которые сами собою пробиваются из почвы, садится на цветы, не обременяя нисколько собою их стеблей, и пьет с них по капле освежающую росу; или пчеле, что деловито и ловко собирает мед с этих цветов и складывает его в правильно построенные ею в красивом порядке соты; а немецкий дух подобен орлу, что мощно поднимает ввысь свое тяжелое тело и сильным взмахом испытанных крыльев рассекает воздух, чтобы подняться еще ближе к солнцу, на которое он так любит смотреть.
Соединим все вышесказанное в одном основном соображении. Применительно к истории образования человеческого рода вообще, который исторически распадается на древность и новый мир, отношение двух описанных нами основных племен к первоначальному формированию этого нового мира будет, в общем и целом, таково. Часть новорожденной нации, оказавшаяся за границами отечества, приняв язык древности, получила благодаря этому гораздо большее сродство с этой древностью. Для этой части нации поначалу станет гораздо легче постичь язык этого древнего народа также и в его первой и неизменной форме, проникнуть в смысл памятников его образованности и внести в эти памятники приблизительно столько живой свежести, чтобы они могли приобщиться к возникшей только что новой жизни. Короче, именно от этих народов начнется в новейшей Европе изучение классической древности. Вдохновляясь все еще нерешенными задачами этой науки, эти народы станут трудиться над их дальнейшим решением, но, разумеется, лишь так, как решают задачу, которую ставит перед нами не потребность жизни, а просто любознательность – относясь к ней легко, постигая ее не всей душой своей, а одним только воображением, и единственно в этом воображении даруя ей легкие черты воздушного тела. При богатстве материала, оставленного нам древностью, при той легкости, с которой можно работать подобным образом над этим материалом, они представят кругозору нового мира великое множество таких образов древности. Эти уже облеченные в новую форму образы древнего мира, явившись среди той части первоначального племени, которая, сохранив природный язык, осталась в непрерывном потоке первоначального образования, привлекут к себе и ее внимание и побудят ее к самодеятельности, – они, которые, останься они в прежней форме, прошли бы, может, мимо нее незамеченными и неуслышанными. Но эта часть первоначального племени, если только она действительно постигнет их, а не передаст их только другим из рук в руки, постигнет их соответственно своей природе – не в отвлеченном знании чужого, но как составную часть своей собственной жизни; а потому она не только выведет их из жизни нового мира, но и вновь введет их в эту жизнь, воплощая их, прежде только воздушно-легкие, очертания в плотные тела, которые будут долговечны и устойчивы в стихии действительной жизни.
В этом превращении, которого сама заграница никогда не смогла бы произвести над образом древности, она вновь получит его от этого народа, и лишь благодаря этому процессу станет возможно дальнейшее формирование человеческого рода на путях древности, соединение двух основных его половин и правильное течение человеческого развития в дальнейшем. В этом новом порядке вещей наша родина ничего не будет собственно изобретать; но – и в малейшем, и в величайшем, – она всегда должна будет признаться себе, что ее побудил к тому некий намек иностранцев, иностранцев же к этому в свою очередь побудили древние; но наше отечество примет всерьез и введет в недра жизни то, что там только бегло, вскользь и шутя набросают. Здесь, как мы уже и говорили, не место доказывать это обстоятельство верными и далеко идущими примерами, и такое доказательство мы оставляем за собою до следующей речи.
Обе части единой нации остаются таким образом едины, и лишь в этом одновременном разделении и единстве они будут привоем на стволе образования в античном духе, которое в противном случае совершенно прервалось бы в новое время, и человечеству пришлось бы снова начинать весь свой путь сначала. И обе части нации должны познать себя – каждая и саму себя, и другую – в этих своих определениях, различных в исходном пункте, но вновь сходящихся у цели, и соответственно им должны пользоваться друг другом; а в особенности они должны смириться с тем, чтобы поддерживать одна другую и хранить в первоначальной чистоте это свое и другой половины своеобразие, если целое должно преуспеть во всестороннем и полноценном образовании. Что же до этого познания, то оно, вероятно, должно исходить из нашего отечества, которому прежде всего даровано чувство духовной глубины. Но если, будучи слепа к подобным отношениям и увлекаясь поверхностной кажимостью, заграница когда-нибудь задастся целью лишить свое отечество самостоятельности и тем самым уничтожить его и воспринять в себя, – то, если бы эта затея удалась, заграница тем самым отрезала бы последнюю жилу, которая еще связывала ее до сих пор с природой и жизнью, и ее постигла бы совершенная духовная смерть, которая и так уже все с большей очевидностью являла себя с течением времени как ее подлинная сущность; а тогда и в самом деле остановился бы, продолжавшийся до сих пор непрерывно, поток образования человеческого рода, и необходимо началось бы опять варварство, и от этого варварства не будет спасения, пока все мы не поселимся вновь в пещерах, подобно диким зверям, и не начнем подобно им пожирать друг друга. Что это действительно так, и что необходимо должно случиться так, – это, конечно, может понять только немец, да только он и должен это понять: иностранцу, которому, коль скоро он не знает чужой образованности, открыто безгранично широкое поле для того, чтобы любоваться собою в своей собственной, это покажется – и необходимо должно казаться – безвкусной бранью непросвещенного невежды.
Заграница – это земля, от которой отделяются и возносятся к облакам плодотворные пары, и через которую прежние боги, сосланные в Тартар1818
Тема из «Теогонии» Гесиода, где младшее поколение богов побеждает древних владык космоса и ссылает их в темноту и ничто нижнего мира, Тартара.
[Закрыть], еще сохраняют связь с областью живых. Наша родина – окружающее эту землю вечное небо, на котором легкие эти пары сгущаются в облака, и облака эти, отягощенные молнией громовержца, что является к нам из иного мира, ниспадают на землю плодоносным дождем, соединяющим землю и небо, и позволяющим тем дарам, коих родина – небо, прорасти из недр земных. Не собираются ли новые титаны опять штурмовать небо? Оно не будет для них небом, ибо они – земнородные; вид и воздействие неба просто отдалится от них, и у них останется лишь их земля, – холодное, мрачное и бесплодное жительство. Но что может сделать, – как говорит один римский поэт, – что может сделать Тифей, или могучий Мим, или Порфирион в угрожающей позе, или Рет, или бесстрашно несущий вырванные с корнем деревья Энкелад, если столкнутся они с звонким Паллады щитом1919
Гораций. Оды, III, 4, 53 ff.:
Но что Тифей и мощный Мимант моглиИль грозный видом Порфирион свершить,И Рет и Энкелад, метавшийГруды исторгнутых с корнем вязов, –Когда Паллада мощный простерла щитНавстречу дерзким… (пер. Н. С. Гинцбурга)Квинт Гораций Флакк.Полное собрание сочинений.М.-Л., 1936. С. 97–98.
[Закрыть]? – Этот самый щит укроет, без сомнения, и нас, если мы сумеем вовремя стать под его защиту.
Примечание к странице 3362020
Место, к которому относится примечание, соответствует тексту на с. 38–39 настоящего издания.
[Закрыть].
О большем или меньшем благозвучии языка также, по нашему мнению, следовало бы заключать не по непосредственному впечатлению, зависящему от столь многих случайностей, но и подобное суждение должно быть возможно основать на твердых принципах. Заслугу некоторого языка в этом отношении нужно видеть, несомненно, в том, чтобы он, прежде всего, исчерпывал и всесторонне представлял в себе возможности человеческого органа речи, далее, чтобы он соединял между собою отдельные звуки этого органа в естественную и приличную слитность. Уже из этого следует, что те нации, у которых органы речи формируются лишь отчасти или односторонне, и которые под предлогом трудности или неблагозвучия избегают произносить известные звуки или их сочетания, и которым запросто может показаться благозвучным только то, что они привыкли слышать и могут произнести сами, не имеют права голоса в подобном изыскании.
Каково же окажется теперь, при предпосылке этих высших принципов оценки, наше суждение о немецком языке в этом отношении, – этот вопрос мы оставляем здесь без ответа. В самом коренном римском языке каждая новоевропейская нация произносит слова сообразно своему собственному говору и диалекту, и восстановить подлинное произношение древних римлян будет, по-видимому, непросто. А потому остается только один вопрос: действительно ли, в сравнении с новолатинскими языками, немецкий язык звучит столь дурно, резко и грубо, как склонны думать некоторые?
Пока на этот вопрос не найдено основательного ответа, объясним, по крайней мере, предварительно, как это получается, что иностранцам и даже немцам, даже если они судят непредвзято, и лишены всякого пристрастия или ненависти, дело представляется именно так. – Народ еще необразованный, обладающий очень живым воображением, детски-непосредственный в своих чувствованиях и лишенный национального тщеславия (а все эти свойства были, похоже, присущи германцам), чувствует тягу к тому, что вдали, и охотно переносит в неясную даль (в далекие земли и заморские острова) предмет своих желаний и все то прекрасное, что он предчувствует в будущем. В нем развивается романтическое чувство (слово понятно само по себе и едва ли могло быть составлено точнее). Звуки и гласы из этих дальних краев достигают этого чувства и возбуждают весь заключенный в нем мир предчувствуемых чудес, и потому они нравятся.
Поэтому, вероятно, и случается, что наши отправившиеся в дальние края земляки так легко сменили собственный язык на чужой, и что даже до сих пор нам, их весьма далеким родственникам, так чарующе приятны звуки чужой речи.
* * *
Шестая речь
Изложение основных черт немцев в истории
Каковы были бы основные различия между народом, неизменно развивающимся в своем первоначальном языке, и народом, усвоившим чужой язык, – это мы разобрали в прошлой речи. При этом случае мы сказали: что касается заграницы, то мы хотим предоставить собственному суждению всякого наблюдателя решение вопроса, действительно ли случились в ней все те явления, которые, по нашему утверждению, должны были там случиться: но что касается немцев, то мы беремся показать, что они действительно проявили себя именно так, как, согласно нашим утверждениям, должен был проявить себя народ изначального языка. Сегодня мы перейдем к исполнению нашего обещания, причем то, что нужно доказать, мы покажем Вам вначале на примере последнего великого и, в известном смысле, законченного всемирного деяния немецкого народа – реформации церкви.
Христианство, происходящее из Азии и ставшее вследствие проникшей в него порчи тем более азиатским2121
«Еще более азиатским» стало христианское учение, по мнению Фихте, под влиянием апостола Павла. Истинное христианское учение заключено для философа в учении апостола Иоанна Богослова. См. об этом: Основные черты современной эпохи. S. 103–105.
[Закрыть], проповедовавшее только бессловесную преданность и слепую веру, уже для римлян было чем-то чужеродным и иностранным. Оно никогда не было по-настоящему постигнуто и усвоено ими, и делило их существо на две несовместимые половины – причем однако прибавление чуждой части облегчалось для них их исконным меланхолическим суеверием. Пришлые германцы были для этой религии такими питомцами, в которых никакое предшествующее образование рассудка не было ей помехой, но и никакое исконное суеверие народа ей не благоприятствовало, и так им передавали эту религию, просто как непременную принадлежность римлянина, которым они теперь хотели быть. Она не оказывала на их жизнь особенно сильного влияния. Само собою разумеется, эти христианские воспитатели сообщали этим новообращенным христианам не больше древнеримской образованности и понимания языка, чем то было совместимо с их намерениями; и в этом также заключается одна из причин упадка и умерщвления, который претерпел в их устах римский язык. Когда впоследствии в руки этих народов попали подлинные и неподделанные памятники древней образованности, и тем самым в них зародилось влечение к самодеятельному мышлению и пониманию; то, коль скоро отчасти это влечение было для них свежей новостью, отчасти же ему не был противовесом наследственный страх перед богами, противоречие между слепой верой и странными вещами, ставшими, с течением времени, предметами этой веры, должно было поразить их сильнее, чем даже римлян, в ту пору, когда к ним впервые пришло христианство. Обнаружение полного противоречия в том, во что до сих пор мы чистосердечно верили, вызывает смех; те, кто отгадал загадку, смеялись и потешались, и сами священники, так же точно ее отгадавшие, смеялись с ними вместе. Защитой им было то, что лишь очень немногим была доступна классическая образованность – средство для снятия чар. Здесь я имею в виду преимущественно Италию, бывшую в ту пору главным жилищем новоримской образованности. Прочие новоримские племена еще весьма отставали от нее во всех отношениях.
Они смеялись над обманом, ибо в них не было ни одного серьезного стремления, которое оскорблялось бы этим обманом; это исключительное обладание необыкновенными знаниями тем вернее делало их благородным и образованным сословием, и они спокойно мирились с тем, что толпа, к которой они были черство безразличны, пребывала и далее жертвой обмана, а потому оставалась послушным орудием и для служения их собственным целям. И вот так это могло продолжаться и впредь: народ обманывали, а благородные сословия пользовались этим обманом и смеялись над ним, – и если бы в истории нового времени не было ничего, кроме новоримлян, так продолжалось бы, вероятно, до скончания века.
Здесь Вы видите ясное подтверждение сказанному прежде о продолжении древней образованности в новой и о том участии, какое способны принимать в этом новоримляне. Новая ясность исходила от древних, она попала сперва в фокус новоримской образованности, она сложилась там лишь в рассудочное познание, не захватывая жизни, не придавая жизни нового вида.
Но прежнее положение вещей не могло уже сохраняться далее, как только этот свет проник в душу, подлинно и всерьез религиозную во всей полноте своей жизни, и если душа эта жила среди народа, которому легко могла сообщить свое более серьезное воззрение на вещи, а народ этот нашел вождей, которые могли что-то дать его решительной потребности. Как бы низко ни пало христианство, в нем всегда остается все же основной элемент, в котором заключена истина, и который наверняка возбудит жизнь, если только это действительная и самостоятельная жизнь; это вопрос: что мы должны делать, чтобы обрести блаженство? Если этот вопрос попадал на мертвую почву, где или вообще склонны были сомневаться в том, можно ли всерьез говорить о возможности какого-то блаженства, или, если бы даже эту возможность допускали, все-таки не имели твердой и решительной воли стать и самому блаженным; то на этой почве религия уже с самого начала не вмешивалась бы в жизнь и волю, но болталась бы только в памяти и воображении бледной и колеблющейся тенью, а потому, естественно, и все дальнейшие попытки прояснить состояние имеющихся в народе религиозных понятий должны были так же точно пройти без всякого влияния на жизнь. Но если этот вопрос попадал на почву изначально живую, где всерьез верили, что блаженство есть, и сами имели твердую волю стать блаженными, а для того с искренней верой и честной серьезностью применяли те средства для достижения блаженства, какие указывала прежняя религия: то, если бы на эту почву, которая именно по причине серьезности своей веры долгое время оставалась невосприимчива к свету познания о характере этих средств, упал все же наконец свет этого познания, родился бы страшный ужас при виде того, как людей обманывают в деле спасения их души, и беспокойное стремление сохранить для них вечное блаженство иным способом, и то, что представлялось повергающим в вечную погибель, не могли бы принимать как шутку. Кроме того, человек, которым впервые завладело бы это воззрение, отнюдь не мог бы довольствоваться тем, чтобы спасти, скажем, только свою собственную душу, оставаясь безразличным ко благу всех прочих бессмертных душ, ибо, согласно его более глубокой религиозности, таким образом он не спас бы даже и собственной души; но с тем же страхом, который он чувствовал за свою душу, он должен был стараться открыть глаза на этот обман, грозящий вечным проклятием, безусловно всем людям на свете.
И вот таким-то образом познание, которое, конечно, с куда большей рассудочной ясностью открывалось задолго до него очень многим иностранцам, упало в душу немца Лютера. Классической и тонкой образованностью, ученостью, другими преимуществами его превосходили не только иностранцы, но даже и многие люди в его собственной нации. Но им завладел всемогущий мотив – страх за вечное спасение душ? – и этот мотив стал жизнью его жизни, и всякий раз именно этот мотив становился последней гирей на весах его решения и сообщал ему силу и дарования, которым удивляются потомки. Пусть другие люди преследовали в реформации мирские цели, – они никогда не победили бы, если бы во главе их не стоял предводитель, которого воодушевляло вечное; и если этот вождь, всегда видевший, что на карту поставлено вечное спасение всех бессмертных душ, спокойно и бесстрашно выступал навстречу всем духам ада, то это совершенно естественно, и в этом нет вовсе никакого чуда. Это только еще одно доказательство немецкой серьезности и присутствия духа.
То, что с этим чисто человеческим делом, о котором каждый должен заботиться только сам, Лютер обратился ко всем людям, и прежде всего к целокупности своей нации, – это, как мы сказали, объяснялось самой сутью дела. Как же его народ воспринял его предложение? Остался ли он в тупом покое, прикованный к земле мирскими делами, и невозмутимо следуя дальше привычным путем, или же необыденное явление столь могучего воодушевления вызвало в нем только смех? Отнюдь нет; но, как бегущий огонь, овладела им та же забота о спасении души, и эта забота вскоре открыла их око совершенной ясности, и они на лету воспринимали то, что он им предлагал. Не было ли это воодушевление лишь минутным парением воображения, которое не могло устоять в жизни, против ее нешуточных битв и опасностей? Отнюдь нет; они отказывали себе во всем и сносили все мучения, и сражались в кровавых войнах, исход которых был неясен, единственно затем, чтобы не подпасть снова власти губительного папства, но чтобы им, и их детям, и детям их детей неизменно светил единоспасающий свет Евангелия; и в них в последние времена повторились вновь все те чудеса, какие христианство явило в своих исповедниках в начале своей истории. Все суждения того времени исполнены этой всепроникающей озабоченности блаженством души. В этом Вы видите подтверждение своеобразия немецкого народа. Воодушевлением его легко можно возвысить к любому воодушевлению и любой ясности, и его воодушевление выдерживает столкновение с жизнью и преобразует ее.
Реформаторы и прежде, и в других странах, воодушевляли толпы народа, собирали их в общины и образовывали их; однако общины эти не были прочны и постоянны, не были утверждены на почве прежнего устройства, потому что вожди народа и князья прежнего устройства не встали на их сторону. Поначалу казалось, что и реформацию Лютера ожидает не лучшая судьба. Мудрый курфюрст, при котором она началась2222
Курфюрст Саксонский Фридрих Премудрый (1463–1525, правил 1486–1525). Хотя курфюрст Фридрих не объявлял себя открыто сторонником реформации и до конца дней своих считал себя верным сыном римско-католической церкви, однако оказывал помощь Мартину Лютеру (в частности, выдал ему паспорт для свободного проезда на Вормсский рейхстаг, предоставлял защиту во время пребывания в замке Вартбург). Лично он никогда не видался с Лютером. Историки признают, что именно сдержанная, но недвусмысленная политика курфюрста Фридриха в отношении реформации обеспечила ей успех и распространение в Германии.
[Закрыть], был мудрым, казалось бы, скорее в смысле заграничном, нежели в немецком. Казалось бы, он не очень-то понял тот вопрос, о котором, собственно, идет дело, и не придал большого значения раздору, как ему представлялось, между двумя монашескими орденами, и озабочен был, самое большее, только хорошей репутацией недавно учрежденного им университета2323
Виттенбергский университет, основанный курфюрстом Фридрихом Саксонским в 1502 году, впоследствии одна из основных опор лютеранской реформации в ученом мире.
[Закрыть]. Но у него были наследники, которые, будучи далеко не столь мудры, как он, были охвачены той же серьезной заботой о своем блаженстве, которая жила в их народах, и через это частное тождество слились со своими народами до того, что готовы были жить или умереть, победить или погибнуть с ними вместе.
Здесь Вы видите подтверждение указанному выше основному свойству немцев как целокупности и их утвержденному на самой природе общественному устройству. До сих пор великие национальные и мировые задачи излагали народу добровольно выступающие ораторы, и народ принимал или не принимал их. Если и князья народа поначалу из подражания иностранщине и из жажды такого же, как за границей, блеска и напыщенности, отделялись от своей нации и оставляли или предавали ее, то впоследствии они все-таки легко снова увлекались к согласию с нацией, и проникались милосердием к своим народам. То, что неизменно всегда случалось первое – это мы докажем ниже на других примерах; того же, чтобы непременно происходило последнее, мы можем только горячо и страстно желать.
И вот, хотя мы и должны сознаться, что в охватившем ту эпоху страхе за спасение душ оставалась некая темнота и неясность, ибо дело было не только в том, чтобы заменить внешнего посредника между Богом и человеком, но в том, чтобы не нуждаться ни в каком внешнем посреднике и найти связующую нить в самом себе, – тем не менее религиозному образованию человечества в целом было, вероятно, необходимо пройти через это промежуточное состояние. Самому Лютеру его честное усердие дало еще больше того, что он искал, и вывело его далеко за пределы его системы. Как только он пережил те первые борения и муки совести, которые вызывал в нем его смелый разрыв со всем тем, во что он прежде верил, всякое слово его сочинений исполнено торжества и ликования по поводу достигнутой отныне свободе сынов Божиих, которые уже не ищут блаженства вне себя и за гробом, но сами суть живой всплеск непосредственного чувства этого блаженства. Он стал в этом образцом для всех последующих эпох, и совершил дело за всех нас. – В этом Вы также видите основную черту немецкого духа. Если только он ищет, он находит больше, чем искал; ибо он попадает в поток живой жизни, которая течет сама собою и уносит его с собой.
С папством, – если мы будем рассматривать и оценивать его по его собственному образу мысли, – реформация, тем, как она его трактовала, поступила, без сомнения, несправедливо. Ведь изречения пап были большей частью вслепую вырваны из наличного языка, по-азиатски риторически преувеличены, между тем как они долженствовали означать то, что могли, и рассчитывали при этом, что из их смысла и так уже почерпнут больше, чем подобает по значению слов, – но их никогда не обдумывали, не взвешивали и не подразумевали сколько-нибудь серьезно. Реформация, с немецкой серьезностью, приняла их во всей полноте веса и значения; и она была права в том, что все следует принимать именно так, но неправа, если полагала, что сами папы принимали это таким же образом, и если упрекала эти изречения в чем-то еще, кроме их естественной плоскости и безосновательности. Это вообще неизменно повторяющееся явление во всяком споре немецкой серьезности с заграницей, все равно, пребывает ли заграница в стране или за ее пределами: Заграница понять не может, как можно поднимать так много шума вокруг столь безразличных вещей, как слова и выражения, а иностранцы спешат уверить нас, будто не говорили того, что они все же говорили, и говорят, и всегда говорить будут, как только слышат то же из немецких уст, и жалуются на клевету, которую называют страстью к скоропалительным выводам, если кто-нибудь попробует принять их высказывания в их буквальном смысле и как сказанные всерьез, и рассмотреть эти высказывания как элементы последовательного ряда мысли, в котором можно восстановить его исходные принципы и следующие из него выводы; между тем как при этом он еще, может быть, весьма далек от того, чтобы подозревать у самих иностранцев ясное сознание того, что они говорят, и логическую последовательность мысли. А в просьбе, чтобы всякую вещь принимали так, как ее подразумевал сказавший, а не ставили еще сверх того под сомнение его право иметь мнение и вслух высказывать его другим, всегда обнаруживается иностранщина, как бы глубоко ее ни старались спрятать.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































