Текст книги "Речи к немецкой нации"
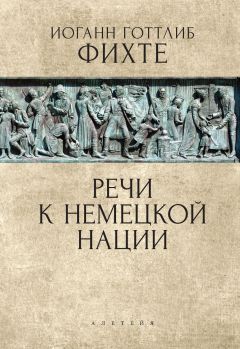
Автор книги: Иоганн Фихте
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Серьезность, с которой люди принимали старую систему религии, вынудила саму эту систему к большей серьезности мысли, нежели какая была ей свойственна прежде, и к новой проверке, новому толкованию, укреплению основ старого учения, а также к тому, чтобы быть в будущем более осмотрительной в жизни и учении; и это, равно как и нижеследующее, пусть послужит Вам подтверждением того способа, каким Германия всегда оказывала обратное воздействие на остальную Европу. А тем самым старое учение получило, по крайней мере, в общем составе народа ту безвредную действенность, которую оно могло иметь, если уж его не следовало совершенно оставить; в частности же, оно стало для его защитников поводом и призывом к более основательному и последовательному мышлению, чем то, которое встречалось прежде. О том, что улучшенное в Германии учение распространилось и за границей, и произвело там то же самое следствие высокого воодушевления, мы можем умолчать здесь, как о явлении преходящем; хотя все-таки примечательно, что ни в одной из собственно новолатинских стран новое учение не добилось себе признанного государством существования; ибо, кажется, нужна была немецкая основательность правителей и немецкое добродушие народа, чтобы почитать это учение совместимым с верховной властью и сделать его таковым.
Однако в другом отношении Германия оказала своим церковным улучшением всеобщее и устойчивое влияние на иностранные государства, причем не на народ, а на образованные сословия; и этим своим влиянием сама, в свою очередь, подготовила себе в этой загранице предшественника и вдохновителя для нового творчества. К свободному и самодеятельному мышлению, или философии, люди испытывали побуждение и занимались ею уже и в предшествующие столетия, под властью старого учения, но отнюдь не затем, чтобы произвести истину из самих себя, но лишь затем, чтобы показать, что учение церкви истинно, и каким именно образом оно истинно. Вначале философия получила ту же самую задачу в отношении к новому учению и у немецких протестантов, и стала у них служанкою Евангелия, как у схоластов она была служанкою церкви. В загранице, у которой или вовсе не было Евангелия, или же которая не постигла его истины с кристально чистой немецкой молитвенностью и душевной глубиной, свободное мышление, вдохновленное достигнутой блестящей победой, поднялось легче и вознеслось выше, не будучи сковано верой в сверхчувственное; но оно осталось в чувственном плену веры в естественный рассудок, выросший без всякого содействия нравов и образования; и заграница не только не сумела открыть в разуме источник на самой себе основанной истины, но приговор этого грубого рассудка стал для нее тем, чем была для схоластов церковь, и чем для первых протестантских богословов было Евангелие; в истине этого приговора не возникало никаких сомнений, и вопрос заключался только в том, как можно отстоять эту истину от оспаривающих ее притязаний.
Коль скоро же это мышление совершенно не вступало в область разума, возражения которого были бы более значительны, оно не находило себе иного противника, кроме исторически наличной религии, и оно легко разделывалось с нею, прилагая к ней мерку своего гипотетического здравого смысла и со всей ясностью обнаруживая при этом, что подобному здравому смыслу она именно что противоречит. И так получилось, что, как только все это вполне и окончательно выяснилось, за границей имя философа и имя невера и атеиста стали однозначительны, и служили одинаково почетным отличием.
Попытка совершенно возвыситься над всякой верой в чужой авторитет – а это то, что было верного в этих устремлениях заграницы, – стала новым источником вдохновения для немцев, от которых, через посредство церковного улучшения, эта попытка впервые и началась. Хотя второстепенные и несамостоятельные умы среди нас попросту повторяли это учение заграницы – предпочитая, кажется, это заграничное учение столь же легко доступному учению своих земляков потому, что первое воображалось им более благородным – и эти умы пытались, насколько им было возможно, убедить сами себя в его истине; но где пробуждался самостоятельный немецкий дух, там чувственного ему было уже недостаточно, и там возникала задача: искать сверхчувственное (в которое, впрочем, не следует слепо верить, полагаясь на чужой авторитет) в самом разуме, и только таким образом впервые создать подлинную философию, сделав свободное мышление, как и должно, источником независимой истины. К этому стремился Лейбниц2424
Лейбниц, Готтфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий философ, математик, физик и изобретатель. Основные сочинения на русском языке: Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. М., 1982–1989. О Лейбнице см.: Герье В. И. Лейбниц и его век. Т. 1–2. СПб., 1868– 1871. Фишер К. История новой философии. Т. 3. Спб., 1907.
[Закрыть], в борьбе с упомянутой заграничной философией; этого достиг подлинный основатель новой немецкой философии2525
Немецкий философ Иммануил Кант (1724–1804), создатель системы критического идеализма, развитием и завершением которого считал свою философию Фихте. См. о нем: Гулыга А. В. Кант. М., 1977.
[Закрыть], признаваясь, впрочем, что побудило его к тому одно высказывание заграничного ума, которое он между тем понял глубже, чем имел в виду его автор2626
Вот как говорил об этом сам Кант: «Я охотно признаюсь: указание Давида Юма было именно то, что впервые – много лет тому назад – прервало мою догматическую дремоту и дало моим изысканиям в области умозрительной философии совершенно иное направление. Но я далеко не последовал за ним в его заключениях, явившихся только вследствие того, что он не представил себе своей задачи в ее целости, а попал лишь на одну ее часть, отдельное исследование которой не может привести ни к какому результату. Когда начинаешь с основательной, хотя и не выполненной мысли, доставшейся нам от другого, то можно надеяться при продолженном размышлении довести дело дальше, чем докуда дошел проницательный человек, которому мы обязаны первою искрой этого света» (Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки / Пер. Вл. Соловьева. М., 1889. С. 10–11).
[Закрыть]. С тех пор задача эта у нас вполне решена и философия совершенно закончена, правда, нам приходится удовольствоваться признанием этого, пока не настанет эпоха, которая это постигнет. Предположим, что это случилось: тогда снова, по указаниям древности, прошедшей призму новоримского заграничного ума, совершится на нашей немецкой родине творчество нового, прежде решительно небывалого.
На глазах всех современников заграница легко и с пылкой храбростью взялась за решение другой задачи, которую разум и философия полагают для нового мира, – создание совершенного государства, – и вскоре затем столь решительно оставила эту задачу, что нынешнее состояние заграницы вынуждает ее проклинать как преступление даже мысль о подобной задаче, и что она должна была приложить все силы к тому, чтобы, если возможно, вычеркнуть эти попытки из анналов своей истории. Причина того, почему так случилось, очевидна всем: разумное государство невозможно построить искусственными мерами из любого налично данного материала, нацию нужно сначала образовать и воспитать до такого государства. Только та нация, которая решит сначала, действительным делом, задачу воспитания совершенного человека, решит затем и задачу создания совершенного государства.
Задачу этого последнего воспитания, со времени нашего церковного улучшения, заграница тоже много раз пыталась решать весьма остроумно, однако в смысле своей философии, и эти усилия поначалу находили себе у нас продолжателей и преувеличителей. Как далеко развила это дело одна опять-таки чисто немецкая душа – об этом мы сообщим Вам в свое время подробнее.
В сказанном мы представили Вам ясное обозрение всей истории образования нового мира, и всегда тождественного себе отношения различных элементов этого нового мира к этой истории. Подлинная религия в форме христианства была зачатком нового мира, и совокупной задачей его было – вплести эту религию в наличную образованность древности, и тем самым одухотворить и освятить эту древность. Первый шаг на этом пути состоял в том, чтобы отделить лишающий свободы внешний авторитет формы этой религии от самой религии, и ввести также и в религиозную область свободное мышление древности. К этому шагу побудила заграница, а сделал его немец. Второй шаг, который есть, собственно, продолжение и завершение первого, был тот, чтобы найти эту религию, а с нею и всяческую мудрость, в нас самих, – этот шаг также подготовила заграница, а осуществил его немец. Следующий шаг, который стоит сегодня на повестке дня в вечном времени духа – это совершенное человеческое воспитание нации. Без этого полученная нами философия никогда не станет широко доступной и понятной, и тем более не найдет себе общего применения в жизни; как, в свою очередь, и искусство воспитания без философии никогда не достигнет в себе самом полной ясности. Поэтому оба они, философия и искусство воспитания, тесно связаны друг с другом, и одно без другого неполно и бесполезно. Уже только потому одному, что до сих пор немец завершал все шаги образованности и для того собственно и сохранился в составе нового мира, ему подобает сделать то же и в отношении воспитания; но когда удастся привести в порядок воспитание, легко будет упорядочить и все прочие дела человеческие.
В таком отношении, следовательно, находилась до сих пор немецкая нация к образованию человеческого рода в новое время. Нам следует еще яснее высказаться об одном, уже дважды мимоходом сделанном нами замечании относительно естественного порядка, которому следовала при этом наша нация, а именно, что в Германии всякое образование исходило от народа. Что дело церковного улучшения было вначале изложено народу, и удалось единственно потому, что стало делом народа, – это мы уже видели. Однако нужно теперь доказать, что этот частный случай был не исключением, но именно правилом.
Оставшиеся на родине немцы сохранили в себе все те добродетели, которые обитали прежде на их земле: верность, порядочность, честь, простодушие; но образованности для высшей и духовной жизни они получили не больше, чем могли сообщить рассеянно живущим людям тогдашнее христианство и его учителя. Это было немного, и потому они отставали от своих ушедших в дальние страны соплеменников, и хотя были в самом деле храбрыми и порядочными, были все-таки наполовину варварами. Между тем среди них возникли города, построенные отдельными членами народа. В этих городах скоро достигли прекраснейшего расцвета все отрасли образованной жизни. В них возникли, пусть и рассчитанные на малые общества, но все-таки превосходные гражданские устройства и учреждения, и только из них образ порядка и любовь к порядку распространился по всей остальной стране. Их обширная торговля помогала открытию мира. Их союз был страшен для королей. Памятники их зодчества еще сохраняются у нас, презрев вековые разрушения, их потомство стоит перед ними в изумлении и сознается в собственном бессилии.
Я не стану сравнивать этих граждан немецких имперских городов средневековья с другими современными им сословиями, и не стану задавать вопроса, что делали между тем дворянство и князья. Однако сравнительно с прочими германскими нациями, – не считая некоторых уголков Италии, от которых между тем немцы не отставали даже и в изящных искусствах, а в полезных искусствах превзошли их и стали их наставниками, – не считая этих областей, говорю я, немецкие горожане были образованными, а прочие нации были варварами. История Германии – немецкой силы, немецких предприятий, изобретений, памятников, немецкого духа, – является перед нами в этот период времени исключительно только историей этих городов, и все прочее (как то аренда и обратный выкуп земель и тому подобное) не стоит даже упоминания. Этот момент был также единственным моментом в немецкой истории, когда эта нация жила в блеске и славе и в том достоинстве, которое подобает ей как изначальному народу. Когда корыстолюбие и властолюбие князей разрушило ее процветание и растоптало ее свободу, вся страна постепенно приходит во все больший упадок, и приближается к своему теперешнему состоянию. Но с упадком Германии мы наблюдаем такой же точно упадок в остальной Европе – в том, что касается существенного, а не одной только внешней видимости. Решающее влияние этого подлинно господствующего сословия на развитие имперского устройства Германии, на церковное улучшение и на все, что когда-либо обозначало немецкую нацию и что переходило от нее за границу, со всей очевидностью заметно повсюду, и можно доказать, что в его среде возникло все то, что еще и сегодня есть достойного среди немцев.
В каком же духе созидало это немецкое сословие этот расцвет и пользовалось им? В духе благочестия, пристойности, скромности, общественности. Для самих себя им было нужно немного, но для общественного дела они несли огромные расходы. Редко-редко где-нибудь стоит и выделяется отдельное имя, потому что все думали одинаково и одинаково жертвовали собою для общества. Совершенно при тех же внешних условиях, что и в Германии, возникли свободные города в Италии. Сравните их историю здесь и там; сопоставьте беспрерывные мятежи, внутренний раздор, и даже войны, постоянную смену устройств и правителей в последних с мирным покоем и единодушием в первых. Можно ли выразить яснее, что должно существовать некое внутреннее различие в духе двух этих наций? Немецкая нация – единственная из новоевропейских наций, доказавшая делом в своем гражданском сословии, вот уже в течение нескольких веков, что она способна выносить республиканское устройство.
Среди частных и особенных средств для того, чтобы вновь поднять немецкий дух, было бы весьма сильным средством, если бы мы имели воодушевляющую историю немцев этого периода, которая стала бы в таком случае национальной и народной книгой, подобно Библии или книге церковных песнопений, пока мы сами не произвели бы на свет нечто достойное пера историка. Но только подобная история должна была бы не исчислять просто, на манер хроники, деяния и события, но должна была бы, удивительно волнуя нас и незаметно и неосознанно для нас самих, перенести нас в самую гущу жизни этого времени, так чтобы нам казалось, будто мы сами ходим, стоим, решаем и действуем с этими людьми, и добиться этого она должна не детскими и игривыми вымыслами, как делали столь многие исторические романы, но силою истины. Она должна показывать нам, как из жизни этих людей распускается цвет исторических деяний и событий, как подтверждений этой жизни. Подобное сочинение могло бы быть, правда, лишь плодом обширных познаний и изысканий, которых, может быть, никто еще никогда не производил, но автор должен избавить нас от демонстрации всех этих познаний и изысканий и представить нам лишь их плод на нашем современном языке, так чтобы он был понятен всякому немцу без исключения. Кроме этих исторических сведений, для подобного сочинения потребуется еще и значительный философский дух, который так же точно не выставлял бы себя на всеобщее обозрение; а прежде всего, потребуется верная и любящая душа.
То время было отроческой мечтой нации в ограниченном кругу о будущих деяниях, битвах и победах; и прорицанием о том, чем она будет некогда, исполнившись силы. Соблазнительное общество и приманки тщеславия увлекли ее, подрастающую, в сферы, ей чуждые. Пожелав блистать и там, она стоит теперь, покрытая позором, и борется за самое свое выживание. Но действительно ли состарилась она и обессилела? Не бил ли для нее с тех пор, и всегда, и до этого дня, как ни для какой другой нации, источник изначальной жизни? Возможно ли, чтобы прорицания ее отроческих дней, подтверждаемые свойствами остальных наций и планом образования всего человечества, – возможно ли, чтобы они остались неисполненными? Отнюдь нет. Только верните сперва эту нацию с избранного ею ложного направления, покажите ей в зеркале ее отроческих мечтаний ее истинную наклонность и истинное предназначение, пока это созерцание не придаст ей силу для того, чтобы в могучем порыве принять это свое предназначение. Пусть и этот призыв хоть несколько послужит тому, чтобы в скором времени немецкий муж, наделенный нужными для того способностями, решил эту предварительную задачу!
* * *
Седьмая речь
Еще более глубокое постижение изначальности и немецкости народа
В прошлой речи мы указали – и доказали исторически – основные черты немцев, как изначального народа и такого народа, который имеет право называться просто народом, в противоположность другим, оторвавшимся от него племенам, – а ведь слово «немец» (Deutsch), в своем подлинном значении, как раз и означает только что сказанное. Целесообразно будет еще на час задержаться на этом предмете, и дать ответ на возможное возражение тех, кто скажет нам, что, если в этом заключается немецкое своеобразие, то нужно будет признать, что в настоящее время среди самих немцев осталось довольно мало немецкого. Поскольку же и мы отнюдь не могли бы отрицать этого явления, но намерены, скорее, признать его и обозреть его во всех его отдельных частях, мы начнем сегодня с того, что объясним его.
Отношение изначального народа нового мира к продолжающемуся образованию этого мира было, в целом, таково, что неполные и остающиеся на поверхности вещей усилия заграницы побуждали этот народ к более глубоким созданиям, которые он должен был развить из своей собственной среды. Поскольку от побуждения до творения, несомненно, проходит известное время, то ясно, что от такого отношения возникнут периоды времени, в которые изначальный народ почти совершенно сливается с заграницей и должен представляться подобным ей, именно потому, что он пребывает в состоянии простой побужденности, а предполагаемое в побуждении новое творчество еще не проявилось в мире. В таком-то периоде времени находится именно сейчас Германия, в огромном большинстве своих образованных жителей, и от этого происходят явления иностранщины, пронизывающие все внутреннее существо, всю жизнь этого большинства. Философия, как свободное мышление, избавившееся от всяких оков веры в чужой авторитет, – вот чем, как мы видели в прошлой речи, заграница побуждает ныне свою родину. Там же, где от этого побуждения не произошло нового творения, которое, поскольку для огромного большинства это побуждение осталось незамеченным, происходит у крайне немногих людей: там отчасти эта, уже описанная нами прежде, заграничная философия принимает все новые и новые формы, отчасти дух ее овладевает и другими, прежде всего граничащими с философией, науками, и рассматривает эти науки со своей точки зрения; и наконец, поскольку ведь немец никогда не может оставить своей серьезности и своего стремления непосредственно вмешиваться в жизнь, эта философия оказывает влияние на образ жизни общества и на общественные принципы и правила. Докажем это по порядку.
Во-первых, и прежде всего: человек образует себе то или иное научное воззрение не свободно и не по произволу, – его жизнь образует в нем это воззрение, и оно есть, собственно говоря, сам превратившийся в созерцание внутренний и ему впрочем неизвестный корень его жизни. То, что ты есть поистине в твоем внутреннем существе, всегда явно предстанет твоему внешнему глазу, и ты никогда не сможешь видеть что-либо иное. Если бы ты видел иначе, тебе пришлось бы сначала стать иным. Внутреннее же существо заграницы или неизначальности составляет вера в нечто последнее, прочное, неизменно наличное, в границу, по эту сторону которой хотя и играет свободная жизнь, но которую саму перейти, растворить ее собою и слиться с нею эта жизнь никогда не сможет. А потому эта непроницаемая граница когда-нибудь непременно предстает ее глазам, и она может мыслить или верить не иначе, как предполагая подобную границу. Допустить иное значило бы совершенно преобразить все внутреннее ее существо и вырвать сердце из груди ее. Она необходимо верит в смерть, как первоначальное и последнее, как основной исток всех вещей, а с ними – и жизни.
Здесь нам следует прежде всего указать, как выражается в наше время среди немцев эта заграничная вера.
Она выражается, во-первых, в собственно так называемой философии. Нынешняя немецкая философия, насколько таковая заслуживает здесь упоминания, желает основательности и научной формы, несмотря на то что не способна достичь ни того, ни другого, она желает единства, – и в этом ей тоже послужила предшественницей заграница, – она желает познания реальности и сущности – не простого явления, но являющейся в явлении основы этого явления, и во всех этих желаниях она права и далеко превосходит господствующие философские системы нынешней внешней заграницы, будучи в подражании заграничному намного основательнее и последовательнее этой заграницы. Эта основа, которую нужно усматривать за всеми явлениями, есть для этих философов (даже если они дают ей еще менее удачные дальнейшие определения) всегда некое прочное бытие, которое есть то, что оно именно есть, и ничто более, сковано в себе самом и привязано к своей собственной сущности; и так смерть и удаление от изначальности, которые в них самих, явно предстают их глазам. Поскольку сами они неспособны возвыситься до жизни вообще, жизни из себя самой, но всегда нуждаются для свободного полета в некотором носителе и опоре, поэтому и в своем мышлении, как отображении их жизни, они не могут выйти за предел этого носителя: что не есть нечто, то для них есть с необходимостью ничто, потому что между этим вросшим в себя бытием и ничто их глаз ничего более не видит, потому что в их жизни там ничего более не имеется. Их чувство, на которое только они и могут ссылаться, кажется им безошибочным: и если кто-нибудь не признает такого носителя, то они не только не умеют допустить, что он довольствуется одной только жизнью, но полагают, что он просто недостаточно остроумен, чтобы заметить носителя, который, без сомнения, носит и его самого, и что он лишен способности воспарить до их собственных высоких воззрений. Поучать их поэтому напрасно и невозможно; их нужно бы было сделать, и сделать иными, если бы мы только могли. В этой своей части нынешняя немецкая философия – не немецкая, но подражание загранице.
Истинная же философия, дошедшая в самой себе до конца и поистине проникшая за грань явления к его внутреннему ядру, исходит из единой, чистой, божественной жизни, – как жизни вообще, которой она и остается вовеки, и в том всегда остается единой, – а вовсе не из той или иной жизни. Она видит, что эта жизнь только в явлении снова и снова бесконечно замыкается в себе и опять открывается, и только вследствие этого закона возникает вообще некоторое бытие и некоторое нечто. Для нее возникает то бытие, которое философия первого рода принимает как заранее данное. А потому только эта философия есть в подлинном смысле немецкая, т. е. изначальная философия; и напротив: если бы кто-нибудь стал настоящим немцем, он не мог бы философствовать иначе как именно таким образом.
Эта система мысли, хотя и господствующая у большинства философствующих по-немецки, однако не являющаяся собственно немецкой, вторгается, – все равно, утверждают ли ее сознательно как собственно философскую систему, или она только неосознанно лежит в основании всего прочего нашего мышления, – она вторгается, говорю я, во все прочие научные воззрения нашего времени; и в самом деле, основное стремление нашего, вдохновляемого заграницей, времени в том именно и состоит, чтобы уже не просто охватывать научный материал в памяти, как делали наши предки, но обрабатывать его самостоятельной и философствующей мыслью. Что касается самого этого стремления, в нем наше время право; но если, как и следует ожидать, приступая к этому философствованию, оно станет исходить из мертвоверной заграничной философии, оно будет неправо. Мы здесь бросим взгляд только на те науки, которые ближе всего находятся к совокупному нашему замыслу, чтобы отыскать распространенные в них иностранные понятия и воззрения.
В убеждении, которое рассматривает учреждение государств и правление государствами как свободное искусство, имеющее твердые правила, – в этом убеждении, без сомнения, заграница – сама последовавшая образцам древности, – послужила нам предшественницей. В чем же подобная заграница, которой уже в самой стихии ее мысли и воли – в ее языке – дан прочный, законченный и мертвый носитель, и в чем все, кто ей в этом последует, будут усматривать это государственное искусство? Несомненно, в искусстве находить столь же прочный и мертвый порядок вещей, из которой смерти долженствует теперь возникнуть живое движение общества, и возникнуть таким, каким его задумало это искусство; в искусстве сопрягать все живое в обществе в большой и искусственный механизм как бы печатного станка, в котором каждый индивид постоянно воздействием целого понуждается служить этому целому; в искусстве решать арифметическую задачу сложения конечных и определенных величин в реальную сумму, предполагая, что каждый желает своего блага, и с целью, именно благодаря этому, заставить каждого против его воли и стремления содействовать общему благу. Заграница во множестве форм выражала это воззрение, и представила нам шедевры этой общественной механики; наша родина восприняла это учение и подвергла дальнейшей обработке применение этого учения к созданию общественных машин, будучи и в этом, как всегда, обстоятельнее, глубже, истиннее, и далеко превосходя свои образцы. Если прежний ход общественных дел застопорится, то эти знатоки государственного искусства не умеют объяснить себе этого иначе как тем, что, вероятно, в механизме износилось одно из колес, и для спасения дела не знают иного средства, кроме того, чтобы вынуть из машины поврежденные колеса и заменить их новыми. Чем более закоренеет человек в этом механическом воззрении на общество, тем большую он обнаруживает сноровку в упрощении этого механизма, стараясь сделать все части машины возможно более равными друг другу, и трактуя все части как однородный материал, – тем большим знатоком государственного искусства он слывет, и слывет, в наше время, по праву; ибо от колеблющихся в нерешительности, и неспособных усвоить себе никакое твердое воззрение, вреда бывает еще того более.
Это воззрение на государственное искусство, своей стальной последовательностью и присущим ему возвышенным видом, вызывает к себе уважение; и до известной точки, особенно там, где все жаждет монархического и все более чистого монархического устройства, оно может сослужить хорошую услугу. Но как только мы достигнем этой точки, нам станет очевидно бессилие этого воззрения. В самом деле, допустим, что вы вполне придали вашей машине задуманное вами совершенство, и что всякое нижнее звено в ней непременно и неодолимо принуждается к действию высшим, принужденным к принуждению, звеном, и так далее до самой вершины. Что же принуждает последнее звено вашей машины, от которого исходит все имеющееся в этой машине принуждение, к этому самому принуждению? Вам поневоле придется устранить всякое сопротивление, которое могло бы возникнуть из трения веществ об эту последнюю пружину механизма, и придать ей такую силу, против которой всякая иная сила будет ничтожно мала, а только этого вы и можете добиться вашим механизмом, и вам придется, стало быть, создать самое могущественное из монархических устройств; но чем же вы станете приводить в движение саму эту пружину общества и принуждать ее всегда и без исключения видеть и желать только правду? Как же внесете вы в ваш, пусть верно рассчитанный и плотно слаженный, но неподвижный механизм вечно движущееся начало жизни? Не сама ли эта машина в целом, как вы порой в смущении говорите, окажет обратное воздействие и побудит тем к жизни первую пружину? Это может совершиться или такой силой, которая сама происходит из исходящего от пружины побуждения, или же такой силой, которая не происходит из этого побуждения, но имеется в самом целом независимо от пружины; третьего не может быть. Если вы предположите первое, то окажетесь в логическом кругу, уничтожающем всякое мышление и всякий механизм: машина в целом может принудить пружину лишь постольку, поскольку сама пружина принуждает ее принуждать себя, а значит, поскольку пружина эта, хотя и косвенно, принуждает сама себя; если же она не принуждает сама себя, – а именно этот недостаток вы и желали исправить, то не произойдет вообще никакого движения. Если же вы допустите второе, то признаете, что начало всякого движения в вашей машине исходит от силы, совершенно не входившей в ваш расчет и устроение и никоим образом не связанной механизмом, которая, без сомнения, действует, как умеет, без всякого вашего содействия, по своим собственным, неизвестным вам законам. В любом из этих случаев вам придется признать собственное свое искусство лишь дилетантством и бессильным хвастовством.
Это и в самом деле чувствовали, и хотели, в этой системе, которая, полагаясь на свое механическое принуждение, может не опасаться всех прочих граждан, воспитать по крайней мере князя, от которого исходит всякое общественное движение, посредством всевозможных добрых наставлений и поучений. Но как же мы можем удостовериться, что нам попадется характер, вообще способный усвоить уроки княжеского воспитания? Или, если даже мы будем настолько счастливы, что этот воспитанник, заставить которого никто не вправе, будет наклонен и столь любезен, по собственной воле подчиниться дисциплине воспитателя?
Подобное воззрение на государственное искусство, находим ли мы его на иностранной или на немецкой почве, всегда есть иностранщина. Здесь следует однако заметить, к чести немецкой души и немецкой крови, что какими бы хорошими мастерами мы ни были в науке этого расчета принуждений, однако, если дело доходило до приложения к жизни, смутное чувство, что так не должно быть, очень и очень сдерживало наше старание, и по этой части мы отстали от заграницы. Если даже мы окажемся принуждены принять, как приготовленное для нас благодеяние, чуждые формы и законы, то нам, по крайней мере, не следует при этом сверх меры стыдиться, как будто наш острый ум неспособен одолеть и эти высоты законодательства. Поскольку же мы и в этом не отстанем ни от какой иной нации, если только сами станем направлять это дело, то пусть всю жизнь наше чувство говорит нам, что и это еще не есть наша настоящая правда, и потому пусть лучше мы пожелаем оставить в неизменности прежнее, пока не явится к нам совершенное, вместо того чтобы просто-напросто сменить прежнюю моду на новую, столь же преходящую.
Иное дело – подлинно немецкое государственное искусство. Оно тоже желает добиться прочности, надежности и независимости от слепой и непостоянной природы, и в этом совершенно согласно с заграницей. Только оно не желает создать, подобно первой, прочную и заведомо известную вещь, как первое звено, которое только и удостоверяет для нас будто бы дух, как второе звено, но с самого же начала, и как первейшее и единственное звено, оно желает полагать этот прочный и достоверный дух. Этот дух есть для него вечно движущаяся и из себя самой живая пружина, которая ныне и вовек упорядочивает и приводит в движение жизнь общества. Оно понимает, что создать этот дух могут не обвинительные тирады к уже потерянным для него и опустившимся взрослым, но только воспитание еще неиспорченного юношества; причем с этим воспитанием оно желает обратиться не к крутой вершине общества – князю, как то делает заграница, оно обращается с ним к обширной плоскости общества, ко всей нации, ибо ведь совокупность нации включает в себя, без сомнения, также и князя. Так же, как государство есть, в своих взрослых гражданах, продолжение воспитания человеческого рода, так же, полагает это государственное искусство, воспитание должно сделать самих будущих граждан восприимчивыми к этому высшему воспитанию. Тем самым это немецкое и новейшее государственное искусство становится, в свою очередь, наидревнейшим; ибо и государственное искусство греков желало основать гражданское достоинство на воспитании, и образовывало граждан, каких уже не видали следующие эпохи человечества. По форме то же самое, по содержанию же – не в мелочном и исключительном, но в общем и космополитическом духе, будет делать отныне и немец. Тот же самый дух заграницы господствует у огромного большинства наших соотечественников также и в их воззрении на совокупную жизнь человеческого рода и на историю как образ этой жизни. Нация, у которой основа ее языка мертва и законченна, может, как мы показали это в одной из прошлых речей, достичь во всех словесных искусствах только известной ступени совершенства образования, которую допускает для нее эта основа; и достигнув этой ступени, она переживет свой золотой век. Такая нация, если не свойственна ей величайшая скромность и самоотверженность, едва ли могла бы допустить более возвышенную мысль и обо всем человеческом роде, чем какой она знает сама себя; поэтому она необходимо должна предположить, что и для образования рода человеческого явится впоследствии некая последняя, высшая и непревосходимая цель. Так же, как животное племя бобров или пчел и сегодня строит свои дома так же точно, как строило тысячелетия назад, и за это долгое время нимало не продвинулось вперед в строительном искусстве, так же точно, по ее мнению, будет обстоять дело и с животным племенем по имени «человек», во всех отраслях его образования. Эти отрасли, влечения и способности можно будет исчерпывающим образом охватить мыслью, и даже, может быть, в одном-двух членах даже представить взгляду с полной наглядностью, и можно будет, как предполагают, указать для каждой из отраслей и способностей высшую ступень развития. Быть может, человеческому роду это удастся даже намного хуже, чем племени бобров или пчел, оттого что последнее, хотя и не научается ничему новому, однако искусство его и не убывает, человека же, если даже достигнет однажды вершины, посторонняя сила вновь отбрасывает назад, и тогда он может веками или тысячелетиями пытаться вернуться вновь в ту точку, где лучше было бы оставить его с самого же начала. И подобных точек зенита в своем образовании, подобного золотого века человеческий род, по мнению этих людей, без сомнения, уже достигал; отыскать эти точки в его истории, и оценить по мерке их все усилия человечества и возвратить человечество к этим точкам зенита – таково будет их самое усердное желание. История, по их мнению, давно уже готова и закончена, и бывала закончена уже неоднократно; по их мнению, нет ничего нового под солнцем, ибо они истребили, и под солнцем, и над солнцем, источник вечной жизни, и допускают только повторение и многократное полагание вечно возвращающейся смерти.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































