Текст книги "В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы"
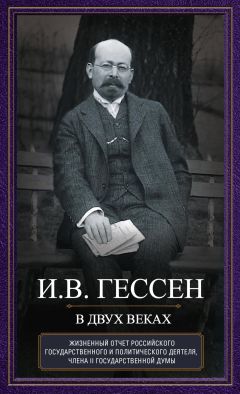
Автор книги: Иосиф Гессен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Когда после моего перевода в Петербург Давыдову удалось перевести Мясново в Москву, он, хотя и значительно поднаторел в гражданских делах, снова испугался – там дела были куда сложнее, разбираться придется в доводах крупнейших адвокатов – и приехал в Петербург с предложением мне перейти в московскую адвокатуру, обещая золотые горы, в частности, выгодное юристконсульство в невзрачном, но хранившем подлинно золотые горы текстильного товара «лабазе» старшего шурина его, миллионщика, на Никольской улице. Соблазн был большой, но, к счастью, я, опять поддерживаемый женой, устоял, в это время мы были уже на пороге издания «Права». А здесь, уже в эмиграции, я узнал случайно, что нелепо избалованный, болезненный сын Мясново героически участвовал в Белом движении и скитается за границей, а родители остались в Москве и прозябают на иждивении выраставшей в тени дочери, ставшей учительницей. Можно ли было предположить, что Мясново перенесет на старости лет безжалостное разрушение единственного жизненного убеждения в своем предназначении и приспособится к созданным большевиками ужасающим условиям. Для полноты картины нужно бы еще, чтобы Андриан – такие примеры я знаю – превратился в рьяного большевика.
Мои попытки всколыхнуть судебную рутину вполне совпали со стремлениями вновь назначенного товарища председателя Н. Г. Мотовилова. Николай Георгиевич, с добрейшей душой, но вспыльчивый, вводил свои порядки круто и с первых же шагов вооружил против себя всех членов своего отделения, тем сильнее, что был моложе их и возрастом, и служебным стажем. Окружившая его враждебная атмосфера и способствовала преувеличенной благосклонности ко мне, и уже после недельного знакомства мы из суда отправились в ресторан; обед, конечно, сопровождался возлиянием, сразу и сильно на него подействовавшим, я тут же узнал всю его биографию, и мы выпили на брудершафт.
Основной определяющей чертой его личности выступало, что он был, а главное – считал себя сыном знаменитости: отец был видным пионером судебных уставов, первым председателем первым открытого Петербургского суда[33]33
Отец Н. Г. Мотовилова, видный юрист Г. Н. Мотовилов участвовал в разработке судебной реформы 1864 г., занимался составлением судебных уставов и при их введении в 1866 г. был назначен председателем Санкт-Петербургского окружного суда, организованного по новым правилам.
[Закрыть], и его почтительно отметил в своих воспоминаниях А. Ф. Кони. Много раз я имел случай убедиться, что эта позиция крайне невыгодная. Она маскируется обветшалым заграждением, что по отцу и сыну честь, и лишает человека самостояния. Пока министром юстиции был Манасеин, друг и почитатель отца, вера Николая Георгиевича оправдывалась, и он делал быструю карьеру в Петербурге, но тем сильнее было разочарование после смерти Манасеина, вызвавшее чувство обиды и раздражительность. Не награди его судьба знаменитым отцом, широко развернулись бы лучшие свойства его ума и души – неподдельная искренность и прямота, рыцарская честность и природная интеллигентность, которыми он, вероятно, обязан был матери, очень толковой, чудесной старушке; отца я не знал, он рано умер. Благодаря этим качествам и влиянию на него Давыдова, сочувствовавшего модернизации суда, Мотовилову все же удалось преодолеть недружелюбие, в особенности среди дворянской части. Этому немало способствовала его очаровательная жена, выделявшаяся среди тульских дам свежей молодостью и подчеркнутой детской непосредственностью.
Мотовилов тоже не засиделся в Туле, и вскоре мы вновь встретились в Петербурге. Он настойчиво претендовал на пост председателя суда в Туле и пускал в ход все свои связи, особенно рассчитывая на брата жены, влиятельного при дворе лейб-медика. Но у него произошло резкое столкновение с прославившимся притеснением крестьян земским начальником Сухотиным. Сухотин бросился к губернатору, тот донес в Петербург, возникла переписка, завершившаяся назначением Мотовилова товарищем обер-прокурора Сената. В Петербурге он жил весьма скромно, сошла вся искусственная спесь, и мы встречались и друг у друга, и в заседаниях Сената. В 1910 году, на Масленицу по случаю приезда Давыдова у нас был завтрак, к которому пригласили и Николая Георгиевича с женой. Давыдов был в ударе, весело балагурил, а Мотовилов явно пересиливал себя, стараясь выдавить улыбку. Через два часа по уходе от нас он, сидя за изучением дел, внезапно скончался от кровоизлияния в мозг, как в свое время и его отец.
При Мотовилове я назначен был секретарем гражданского отделения, на место долго не соглашавшегося выйти в отставку старого служаки без всякого образования, которого молодой товарищ председателя сразу невзлюбил. Теперь преобразование канцелярии пошло быстрым темпом, и это было весьма кстати, потому что вскоре к нам на ревизию приехал известный юрист Носенко, занимавший в то время пост старшего консультанта в министерстве юстиции. Это не была ревизия в узком смысле слова – министр юстиции Муравьев решил подвести итог изменениям, внесенным в судебные уставы за тридцать лет их существования, и придумал созвать комиссию из юристов и судебных деятелей, которая должна была снять с него тяжесть ответственности. Изменения касались не только уголовного процесса, главным образом суда присяжных. В гражданском процессе тоже накопилось много изменений, но они имели более или менее удачный, чисто деловой характер и вызывались быстрым развитием и усложнением экономических отношений. Комиссия составила длинный список вопросов для выяснения фактического состояния правосудия, а в некоторые суды командировала своих членов для непосредственного обследования.
Еще до приезда Носенко я, по поручению прокурора, составил ответы по вопросам уголовного судопроизводства, теперь ревизор просил Давыдова предоставить меня на короткое время в его распоряжение, и в течение трех дней я выходил из его помещения в гостинице только для того, чтобы доставить из суда те или иные нужные ему данные. По окончании весьма детального обследования, давшего возможность установить правильность применения устава гражданского судопроизводства, Носенко поблагодарил меня и вдруг задал странный вопрос: «А почему вы тут сидите?» Я вздрогнул и смутился. Вздрогнул потому, что примерно за месяц до этого в Туле проездом останавливался мой кузен Владимир Матвеевич, только что выдержавший в Одессе магистрантский экзамен по государственному праву и направлявшийся в Петербургский университет в расчете получить там приват-доцентуру. Его приезд расшевелил меня, я почувствовал опасность засасывания провинциальной тиной, захотелось на вольный воздух, и мечты о Петербурге становились все настойчивее. Неожиданный вопрос заставил вздрогнуть, я смутился, потому что не знал, что ответить, и лишь пролепетал: «Я сюда назначен».
«А в Петербург хотели бы?» С неслужебной порывистостью и громче, чем следовало, я воскликнул: «Да, это моя сокровеннейшая мечта». Носенко загадочно улыбнулся и сказал: «Ну, посмотрим». Давыдов расшифровал этот разговор, углубив бас до самых низких нот: «Ну и отлично, и смотреть нечего, вы и будете назначены в министерство». Чтобы подготовить этот переход, мы устроили маленький трюк. Я подал прошение об отставке и получил «послужной список», а распухшее дело обо мне сдано было в архив, и таким образом отрезанный хвост неблагонадежности там упокоился. Через два дня по новому прошению я опять определен был на службу, о чем заведено было новое чистенькое дело, ничего, кроме послужного списка, не содержащее. А Носенко обо мне не забыл. Через месяц мне прислали решенное уже дело «из консультации, при министерстве юстиции учрежденной». Это учреждение представляло собой какой-то ненужный придаток к административно-судебным департаментам Сената. Если в одном из департаментов не могло состояться решение по делу из-за разногласий сенаторов, то дело переходило в общее собрание Сената. Если же и там не удавалось собрать требуемого числа голосов, дело передавалось в консультацию и подготавливалось в юрисконсультской части министерства к слушанию. Производство по таким делам, обычно чрезвычайно сложное и запутанное, длилось иногда десятки лет. Одно из таких головоломных дел, касавшееся каких-то прав туземцев в Туркестане, и было мне прислано для проверки моих знаний и способностей: согласительное предложение генерал-прокурора было изъято, и я должен был вновь таковое написать. По-видимому, работа признана была удачной, потому что еще через месяц я был вызван в Петербург…
Но я еще должен был посетить департамент полиции, чтобы ликвидировать тяготевшее запрещение въезда в столицу. Это легко удалось, да и обещание оправдалось – я был назначен, но, во-первых, со значительной задержкой, во-вторых, не в юрисконсультскую часть, а в самую захудалую, пенсионную, и, в-третьих, с некоторым понижением класса должности.
Мне, однако, не приходится жаловаться на отсрочку, ибо она дала мне счастье сохранить в памяти яркое воспоминание о целом дне, проведенном возле Л. Н. Толстого и с ним. Великий писатель закончил тогда «Воскресение» и читал его в рукописи Давыдову, навещавшему Ясную Поляну. Давыдов, между прочим, оспаривал печатное утверждение Кони, будто бы он, Кони, дал Толстому тему «Живого трупа». Не знаю, кто прав, во всяком случае, при разборе дел для составления ответов на запросы комиссии Муравьева я наткнулся на судебное производство по делу Гиммера, послужившему канвой для популярной драмы Толстого. Относительно же «Воскресения» Давыдов отметил несколько неточностей в изложении хода судебного разбирательства и условился дать знать в Ясную Поляну, когда в суде будет слушаться какое-нибудь интересное дело, чтобы Толстой приехал непосредственно ознакомиться с ходом судебного заседания.
Такой день наступил, но Толстому не дано было увидеть обычное заседание. Оно не было бы торжественней, если бы в зале присутствовал сам министр юстиции: судьи одеты были строго по форме, а не в разнокалиберное штатское платье с заменой лишь пиджака небрежно напяленным сюртуком, и не только докладчик, но и остальные судьи, обычно не отрывающие глаз от лежащих перед ними поверхностно подготовленных дел, внимательно следили за допросом подсудимого и свидетелей, и присяжные заседатели старались не ударить лицом в грязь, хотя украдкой все посматривали на знаменитого гостя, сидевшего в пальто в глубине зала и тщетно старавшегося сделать себя незаметным, и судебный пристав тоже отдавал себе отчет в величавости обстановки и громко и четко возглашал, обводя публику строгим взглядом: «Суд идет! Прошу встать!»
К слушанию назначено было дело по обвинению мещанина в нанесении раны девице, а сущность заключалась в том, что молодой молчаливый парень долго убеждал девицу из публичного дома бросить свое ремесло и выйти за него замуж, она же водила своего поклонника за нос, пока тот не вышел из себя и не пырнул ее ножом в живот. В качестве свидетельниц и были вызваны все девицы из публичного дома, в котором происшествие разыгралось, во главе с пухлой хозяйкой, все густо нарумяненные, в модных огромных шляпах, и насытили зал запахом духов. Конечно, и я не преминул забежать на короткое время в зал, чтобы внимательно разглядеть обожаемого писателя, которого видел впервые. А позже ко мне явился курьер Давыдова: «Вас просит председатель». В кабинете у него я увидел Толстого и переминающегося с ноги на ногу крестьянина. Представив меня Толстому, Давыдов сказал: «Возьмите, пожалуйста, этого просителя и выясните, что ему нужно. Это, очевидно, по вашей части».
Я поклонился и пригласил незнакомца следовать за мной, а Толстой, строго на меня смотря из-под густых бровей, заговорил своим грудным голосом, объясняя, о чем крестьянин ходатайствует. Не прошло и получаса, как меня вновь вызвали к Давыдову. Теперь я застал его одного и понял, что разговор предстоит неслужебный. «Я, собственно, и сам знал, что просителю не к вам, а в нотариальный архив следует обратиться, но не сетуйте, что вас потревожили, мне хотелось познакомить вас с Львом Николаевичем». Я рассыпался в благодарностях; если бы это было не в служебном кабинете, бросился бы его целовать. «Ладно, – продолжал он, – если вам приятно, приходите к обеду. Будет Толстой». Это лестное приглашение совсем вскружило голову. И такое исключительное внимание погубило меня.
Придя к Давыдовым, я застал дам в большой ажитации. Настроение было не менее торжественным, чем в суде. Первым делом приказано было убрать с закусочного стола водку, без которой никогда за обед не садились, той же участи обречено было и вино, и папиросы, и даже «зольницы» – так называл Давыдов пепельницы. Хозяин с гостем приехали с небольшим опозданием, и Лев Николаевич был явно раздражен. Присяжные заседатели вынесли – вероятно, не без влияния присутствия Толстого – оправдательный вердикт, которым пострадавшая и ее окружение остались очень недовольны. Лев Николаевич подошел к ней и стал убеждать выйти замуж за оправданного, чтобы искупить грех, в который она его вовлекла. А она вызывающе подбоченилась и нагло ответила: «А вам какое дело?»
Небрежно, так сказать, бесчувственно, здороваясь с нами, Толстой спросил: «А если бы его признали виновным, какое было бы наказание?» – и, услышав, что угрожали арестантские роты, всплеснул руками: «Как это ужасно! Какой размах маятника от свободы до арестантских рот! Что должен бы сегодня перечувствовать этот несчастный человек!»
Хозяйка пригласила к закусочному столу, и, разглядывая сощуренными глазами блюда, Лев Николаевич спросил: «А что это такое?» – «Это закуска, Лев Николаевич». – «А зачем закуска?»
Хозяйка смешалась: «Обед у нас не обильный, так подкрепим закуской». Но Толстой не унимался: «А зачем обильный обед?» Тут пришел на выручку Давыдов: «Не то чтобы обильный, но жена не рассчитывала, что мы будем иметь удовольствие видеть вас за столом, а вот и Иосиф Владимирович пожаловал, жена и испугалась, что все останутся голодными».
За столом Толстой сразу стал совсем другим: Давыдов только что вернулся из Москвы, где в театре Корша видел первое представление «Власти тьмы», и очень живо излагал свои впечатления. Толстой весь превратился в слух, но не сделал ни единого критического замечания, а как будто только себя проверял, сумел ли он правильно выразить то, что его гений подсказывал. Весь обед прошел очень оживленно, в рассказах и репликах Давыдова, после чего мы перешли в будуар, где на вопрос, желает ли он чаю или кофе, Толстой опять с раздражением ответил: «Я не потребляю ни того ни другого, но после этого ужасного дня разрешу себе выпить чашку кофе». Я сидел с дамами, а Лев Николаевич стоял у стола и взял в руки лежавшую толстую книгу Вышеславцева о Рафаэле. Давыдов заговорил об иллюстрациях в этой книге. Лев Николаевич несколько минут молча слушал, но становился все угрюмей и вдруг с силой швырнул книгу на стол. «Нет! Я не могу успокоиться. Помилуйте, схватили человека, проделали над ним отвратительную комедию и отпустили на все четыре стороны. Кто дал им право присваивать себе такую власть над человеком и издеваться над ним, устраивая эту комедию суда!»
Того, что за сим последовало, я и до сих пор простить себе не могу. Померещилось, что для того и позвал меня Давыдов, чтобы поддержать его в разоблачении ложности взглядов Толстого на роль и значение суда, и я воспылал желанием оправдать его надежды. Было, конечно, до дерзости наивно вообразить, что удастся поколебать тяжело выстраданные убеждения, и единственным утешением осталось, что Толстой обрушил на меня все накопившееся за несносный для него день раздражение и сразу успокоился, когда Давыдов догадался замять спор и что-нибудь почитать.
«Вы что любите, Лев Николаевич?» – «Из современных писателей я признаю только Чехова». Я и тут вскинулся: «А Короленко?» Уже совсем иным тоном, медленно, как бы про себя, Толстой сказал замечательные слова, которые многое мне осветили и позже, в редакторской деятельности, превратились в меру, которой я мерил. Лев Николаевич ответил мне: «Короленко – не художник. В одном из его сибирских рассказов арестант, в ночь под Светлое Воскресение, пытается бежать из тюрьмы, но, когда он перелезает через забор, часовой, увидев отбрасываемую луной тень арестанта, стреляет в него и убивает. Все это придумано. Пасхальная ночь всегда – безлунная. А художник не придумывает, а изображает лишь то, что перечувствовал и пережил».
Мысль эта кажется глубоко правильной, и еще выше оценил я его замечание, когда прочел позже изумительное описание пасхальной ночи в «Воскресении».
Давыдов принес томик Чехова и с неподражаемым мастерством прочел «Дочь Альбиона», мы все искренне смеялись, но Лев Николаевич буквально задыхался от хохота, и слезы катились у него из глаз. Было уже больше 9 часов, когда он попросил привести его упитанную смирную лошадку, легко на нее вскочил и ровной рысцой тронулся в Ясную Поляну, оставив в благодарной памяти неизгладимое впечатление.
* * *
Тем временем в феврале 1896 года, ровно через 10 лет после невольного расставания с Петербургом, пришло мое назначение туда. Не без сожаления расставался я с «теплой ароматной ванной» и завоеванным положением. Канцелярия поднесла трогательный адрес и альбом с фотографиями, но я отнюдь не обольщал себя, понимая, что с моим отъездом (моим преемником был человек без высшего образования) они вздохнут свободно, избавившись от инородного элемента. Дамы устроили в мою честь очень приятный прощальный вечер: к ним я искренне привязался в благодарность за то, что они с таким гостеприимством и радушием приняли чужака, который, вероятно, не раз шокировал своими повадками и манерами традиции их воспитания и уклада. Тут было, однако, довольно оригинальное взаимодействие. Мне эти традиции нравились, как невиданная до сих пор новинка. Для этого дворянского круга я, в свою очередь, тоже был новинкой, во всяком случае вносившей некоторое разнообразие в застоявшуюся атмосферу.
Проводили меня несколько членов суда во главе с Давыдовым, и расстались мы только на вокзале при отходе поезда. Испытывая сильную усталость, я надеялся тотчас же заснуть на приятно укачивавшем диване, но расчет тут же споткнулся о возбуждение последних шумных дней, прощальное шампанское разгоняло сон, и хаос мыслей тесно обступил меня. Отвязаться было невозможно, я почувствовал себя в полной их власти и должен был сдаться, несмотря на отвращение к бухгалтерии. Дебет получался весьма внушительный: способность противостоять окружающей обстановке, несомненно, была ослаблена, я приобрел вкус к чревоугодию, научился понимать тонкий букет вина и поддался головокружению от успеха, зависевшего больше всего от случая и капризов судьбы. Я защищался, уверяя самого себя, что здесь не было увлечения, а просто было интересно изучить дотоле неведомую любопытную среду, вспоминал, что для упражнения воли отказался от курения, но все же не мог отрицать, что погружение в эту жизнь доставляло удовольствие и даже возбуждало вспышки зависти к возможности так жить.
Да, оспорить дебет было трудно, и утешаться оставалось только тем, что теперь это все уже позади, что я вовремя опомнился и, выскочив из расслабляющей ванны, добровольно вступаю на путь, который розами усыпан не будет. Напротив, я был убежден, что в министерстве сосредоточена элита судебного ведомства, среди них тульским Савиньи никого не удивишь. С чем же я еду туда, в чем мой актив? Тульский суд оказался превосходной практической школой, и написанные мной тысячи полторы решений по разнообразнейшим гражданским спорам выработали здоровое юридическое мышление и способность к правильному анализу. А обследование состояния правосудия для комиссии Муравьева дало в руки новое оружие против опасной проповеди Боровиковского о приспособлении старого закона к изменившимся запросам жизни, и этим оружием я потом усердно в «Праве» боролся.
Быть может, тульская школа впервые заронила в сознание мысль о юридическом органе, которая через два года, неожиданно для меня самого, и осуществилась. Но тогда усталость брала свое, и в итоге опять получалось: «Пустяки! Все образуется». И я заснул с мыслью, что вот ведь в Туле и образовалось главное: перед моим отъездом в суде состоялось решение об усыновлении Сережи, и в кармане лежало, за подписью Мотовилова, судебное метрическое свидетельство, передававшее ему мою фамилию.
Министерство
(1896–1903)
Первое мое появление в скромном, ничем не выделяющемся здании на углу Екатерининской и Итальянской улиц ознаменовалось сюрпризом, не меньшим, чем первое мое пробуждение в Усть-Сысольске. Пенсионная часть, в которую я был назначен, включена была в «распорядительное» отделение, и когда я пришел представиться начальству, то увидел перед собой маленького пожилого человека с некрасивым, но ласковым лицом и довольно заметным еврейским акцентом. Неужели же в центральном ведомстве министерства начальник отделения – еврей? Эффект еще усиливался явным сходством с покойным отцом. И как же случилось, что меня именно к нему назначили, не опасаясь, что он будет мирволить соплеменнику? Я долго не верил глазам, думал, что это просто игра природы, пока, сблизившись с сослуживцами, не узнал, что Яков Маркович Гальперн действительно еврей и некрещеный. Их только и оставалось тогда двое – он и Я. Л. Тейтель, но этот застрял на должности провинциального судебного следователя и лишь к концу своей карьеры стал членом Окружного суда, а Гальперн свыше 40 лет прослужил в центральном ведомстве, досиделся до должности вице-директора, имел звезду и красную ленту и вышел в отставку уже при Щегловитове, превратившем суд в капище беззакония. Яков Маркович, родом из Вильны[34]34
Вильна – ныне Вильнюс (с 1940 г.).
[Закрыть], происходил из бедной семьи и всем был обязан своему трудолюбию, исключительной добросовестности, высокой честности и порядочности. Он ко всем относился благожелательно, и решительно никто не мог отказать ему в уважении, а кто ближе знал его, искренне любил. И ко всем поступавшим в отделение прошениям он относился с вниманием и сердечностью, и эти качества делали его в министерстве чудаком, ибо здесь было настоящее бумажное царство, культ стилистики в значительной мере поглощал интерес к содержанию бумаги. Нельзя было дважды на одной странице то же слово употребить, и, чтобы такого несчастья не случилось, самая пустячная бумага проходила через несколько рук. Мне, например, нужно было сочинять ответы вроде следующего: «На прошение вдовы тайного советника Имярек по приказанию его высокопревосходительства г. министра юстиции, сим объявляется, что ходатайство об определении сына ее на казенную вакансию в Императорское училище правоведения оставлено без удовлетворения». Такой ответ поступал к делопроизводителю, вносившему свои поправки: он заменял слова, «ходатайство» заменяя «прошением» и наоборот, и так далее. От делопроизводителя бумага переходила к начальнику отделения, который тоже вносил поправки, иногда восстанавливая прежний текст, и возвращалась для переписывания набело и составления препроводительной бумаги для доклада министру или товарищу. В переписанном виде ответ вновь поступал ко мне для проверки и затем проделывал прежний путь, а начальник отделения представлял директору или вице-директору, который уже докладывал министру. Кроме того, для вящего сохранения незыблемости традиций архивариус – старая канцелярская крыса, – кладя на мой стол порученное начальством для ответа прошение, должен был еще приложить «примерное» (то есть аналогичное) дело, которым и надлежало строго руководствоваться. Отнюдь не следовало думать, что вносимые поправки должны были только доказывать усердие и оправдывать получаемые по службе содержание и чины, нет! – среди однозначных выражений, из которых профан готов был бы выбрать любое, в бюрократической практике каждому довлела своя интонация, и нужно было иметь особый нюх, чтобы выбрать для данной тайной советницы надлежащее выражение.
При назначении пенсий чиновникам выработался особый, предвосхищавший тенденцию Боровиковского порядок. Установленные устарелым законом, времен очаковских и покоренья Крыма, оклады пенсий давным-давно уже отстали от реальной стоимости жизни и теперь стояли в резком несоответствии даже с потребностями полуголодного существования: высший оклад за 35-летнюю службу составлял 428 рублей в год и обрекал бы и самого крупного сановника буквально на нищенское прозябание. Никакого труда не стоило бы приноровить отжившие свой век оклады к новой экономической обстановке. Но вместо того, чтобы издать закон, обеспечивающий чиновнику на старости лет определенные требования к государству, бюрократия не упустила случая расширить пределы своего усмотрения: по соглашению с министерством финансов в Комитет министров вносились представления о назначении, в виде исключения, усиленных пенсий, до 5 тысяч рублей в год, и такие исключения превратились в правило – законная пенсия назначалась лишь захолустным чиновникам, не знавшим о практике усиленных выдач, страдали, как полагается, слабейшие. А размер усиленных пенсий определялся в зависимости от благоволения начальства, от связей просителя и т. п. Затем «положение» Комитета министров представлялось при всеподданнейшем докладе на утверждение государя.
Изготовление докладов царю составляло интенсивную, углубленную напряженнейшим вниманием часть работы. Это было настоящее священнодействие. В десять рук рассмотренный и исправленный доклад нерешительно – не посмотреть ли еще раз – сдавался наконец в переписку особым каллиграфам. Пишущая машинка еще только входила в употребление, но пользование ей для всеподданнейших докладов считалось недопустимым. Два чиновника вслух сверяли изображенную на толстой веленевой бумаге рукопись. Тем же порядком сверял ее начальник отделения с помощником, затем, при особой препроводительной бумаге, доклад представлялся директору и товарищу министра, которые тоже с изощренным вниманием его читали и отмечали свое участие на препроводительной бумаге. Наконец, министр, одобрив доклад, отчетливо выводил под ним свою подпись, чтобы назавтра отвезти в Царское Село или Петергоф. И тем не менее – у семи нянек дитя без глазу – случались комические описки. Какая была паника, когда однажды на благополучно вернувшемся от государя докладе увидели, что перед подписью стоит: «за министра товарищ финистра».
На первой странице доклада царь писал, обычно цветным карандашом, свою резолюцию или, большей частью, ограничивался небольшой косой чертой между двумя точками (парафа), означавшей, что он ознакомился с докладом. По возвращении с аудиенции министр под упомянутой чертой писал: «Собственной его императорского величества рукой начертана парафа (или такая-то резолюция) в Царском Селе такого-то числа», а самая парафа или резолюция покрывалась лаком, и доклад передавался в архив для хранения в качестве реликвии.
Переход от живой, разнообразной работы в Тульском суде к бюрократической переписке с тайными советницами нельзя было воспринять иначе как издевательство. Но независимо от личной обиды нельзя было не удивляться, что как раз там, где такое решающее значение имело юридическое образование, с этим не считались, и даже члены суда не все имели университетский диплом, а здесь, напротив, все щеголяли университетскими значками, однако, вопреки моим провинциальным представлениям, не только не хватали звезд с неба, но все были ниже среднего уровня. Очень красочную фигуру представлял делопроизводитель – сын царского кучера, женатый на богатой купчихе, могучий, краснощекий, кровь с молоком, считавший себя наверху блаженства, если ему удавалось получить билет в Михайловский манеж на военный развод в высочайшем присутствии. На другой день все служебное время было занято пережевыванием с другим сослуживцем сладостных впечатлений, вынесенных из общения с high life[35]35
Высшее общество (англ.).
[Закрыть].
Службу нашу никак нельзя было назвать обременительной. До половины второго дня министерство вообще являло пустыню. А после шести начинали уже собираться домой, так что служба походила больше на five o’clock[36]36
Традиционное английское чаепитие в пять часов вечера (англ.).
[Закрыть], и все интересы лежали вне ее. Я нашел тотчас же дополнительное занятие, с лихвой возместившее утрату тульской работы. Министр Муравьев задумал оживить никем не читаемый официальный орган «Журнал министерства юстиции» и назначил редактором профессора В. Ф. Дерюжинского. Он горячо взялся за дело и, в свою очередь, пригласил в сотрудники несколько молодых ученых, в том числе и моего кузена, обратившего уже на себя внимание профессуры. А кузен порекомендовал редактору меня для постоянной работы, на которую я и набросился с жадностью: редакция получала большое количество лучших иностранных юридических изданий – германских, австрийских, швейцарских, французских, – поступивших в полное мое распоряжение и давших уму изысканную пищу, какой мне еще не доводилось отведать. В Австрии, Германии, Швейцарии введены были новые гражданские, материальные и процессуальные кодексы, построенные на началах, противоположных нашему, и применение их на практике представляло для России сугубый интерес. Во Франции, напротив, царил кодекс Наполеона 1805 года, совсем уже не видный за лесами кассационных решений, старавшихся приспособить его к существенным изменениям в социальном укладе страны. Мне кажется, что окаменелость наполеоновских кодексов служит обвинительным актом против революции, поскольку революция ищет оправдания в ударных темпах, в необычайном ускорении, пусть болезненными толчками, развития страны. Если это и так, то судьба кодекса 1805 года, остающегося до сих пор действующим законом, свидетельствует, что ударные темпы потом компенсируются чрезмерно долгим и прочным застоем на многие десятки лет, в течение которых ускоренные завоевания революции могли бы осуществиться нормальными темпами, и что болезненные толчки никакого выигрыша не дают.
Сопоставление юриспруденции различных государств и противопоставление ее нашей судебной практике давало неистощимый увлекательный материал, и в журнале стали появляться ежемесячные обзоры, для которых я старался выбирать темы, имеющие животрепещущее значение для нас и, в качестве новинки, привлекшие внимание юристов и послужившие толчком для создания «Права». Но случилась и курьезная характерная неприятность: А. Ф. Кони выпустил блестящую монографию о докторе Ф. П. Гаазе, имя которого давно было забыто, а нашему поколению и совсем не известно. Кони своей книгой, лучшей из всего его богатого литературного наследства, воздвиг нерукотворный памятник подлинному герою, вся жизнь которого буквально исчерпывалась самоотречением, самопожертвованием и беззаветной любовью к обездоленным. После появления моей рецензии на эту замечательную книгу Дерюжинский огорченно сообщил, что получил выговор от министра. «Кони, – сказал ему Муравьев, – открыл нового святого, а Гессену хочется канонизировать и Кони. Надо бы больше сдержанности и такта». Они были непримиримыми соперниками и никак не могли поделить между собой славу.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































