Текст книги "В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы"
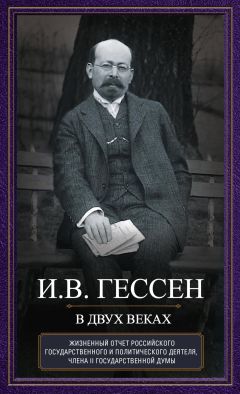
Автор книги: Иосиф Гессен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
На своих ежедневных послеобеденных прогулках я обычно встречал коллегу по несчастью – польского ксендза, пострадавшего за совращение униатов в католичество. Он весь пропитан был ненавистью к русскому правительству и презрением к народу, но держался осторожно. Был неизмеримо интеллигентнее православного батюшки, обо всем имел свое мнение, и я донимал его вопросами веры, жалуясь на свое неверие. Сначала он со мной спорил, я же настойчиво излагал свои сомнения, и вдруг голос его понизился до свистящего шепота, и он мне сказал буквально так: «Вы человек умный, вам я могу сказать, что и сам не верю. Ну а если я ошибаюсь, если Бог есть? Каково же мне будет на том свете? Не лучше ли на всякий случай верить?»
Я невольно отшатнулся и был рад, когда вскоре приехала к нему высокая, полная бальзаковская женщина, которую он выдавал за свою племянницу, и он прекратил совместные прогулки и даже стал избегать меня. Но вместо него появилась другая, еще доселе невиданная мною фигура – уже немолодой, отлично сложенный человек с барским, сильно поношенным лицом, окладистой бородой и зычным голосом. Это был присяжный поверенный[25]25
Присяжный поверенный – в Российской империи адвокат при Окружном суде или Судебной палате.
[Закрыть] округа Петербургской палаты, запойный пьяница. В трезвом виде он горько жаловался на людскую несправедливость, явно стараясь в напыщенности речи растворить конкретные указания на причину ссылки своей. Когда же наступал период запоя, он большими шагами мерил улицу, не переставая во весь голос орать: «Сейте разумное, доброе, вечное!» – и перемежая этот лозунг грубейшими ругательствами. Уже издали заслышав его, прохожие бросались в подворотню, а знавшие его запирались на замок, чтобы избежать визита. Трудно понять, как он существовал: получаемое ссыльными казенное пособие в 6 рублей с копейками он пропивал немедленно после получения, становился буйным и попадал в каталажку. Через несколько дней его выпускали оттуда трезвым и невероятно грязным, и как он умудрялся питаться и даже напиваться до следующей получки, понять невозможно.
Первым политическим ссыльным был крестьянин Пензенской губернии, внешностью совсем похожий на описанного барина, но в неотесанном виде. Он был на сходе избран ходоком к начальству с жалобой на аграрные притеснения со стороны помещика и угодил в ссылку. Мне предстояло серьезное практическое испытание: это был представитель народа, которому я служил, сам тоже пострадавший, как и я, «за правду», и, очевидно, я должен держаться с ним на равной ноге как товарищ. Но я никак не мог найти с ним общего языка и чувствовал себя невыносимо, в фальшивом положении. В это время, так как портной стал нередко запивать и надоедать мне разговорами, я переехал в крошечный домик из двух комнат с кухней и пригласил к себе этого крестьянина. Он охотно принял приглашение, но, будучи очень себе на уме, решительно уклонился от равноправия и стал в отношения слуги к барину, который был ему в душе очень за это признателен, так что жили мы очень дружно, да к тому же и недолго: срок его ссылки месяца через три кончился, и, взвалив котомку за спину, зашагал он в далекий путь, рассчитывая, что в дороге не без добрых людей, нет-нет, кто-нибудь и подвезет.
А вскоре после его ухода ввалилось ко мне целое семейство: супружеская чета с двумя детьми, переведенная к концу срока своего из соседнего Яринска. Оба, и муж и жена, были уже настоящими политическими ссыльными, хотя тоже не любили рассказывать, за что именно они пострадали. Во всяком случае, гораздо больше пострадали они не от ссылки. Они (больше она) были типичной жертвой того поветрия, которое бурно пронеслось в 70-х годах под влиянием начавшейся острой борьбы за эмансипацию женщины, за освобождение от родительской опеки. Одним из наиболее распространенных проявлений опеки было решительное противодействие неравным бракам детей, породившее немало тяжелых семейных драм, но гораздо больше молодых жизней было замучено и загублено карикатурным возведением неравного брака в принцип, в демонстрацию отказа от сословных привилегий и презрения к «священным узам законного брака». Если родительская опека не считалась с сердечными влечениями детей, то теперь дети сами подчиняли голос сердца требованиям принципа. Муж – мелкий мещанин и жена – столбовая дворянка были совершенно чужими, и оба безнадежно опустились, утратив всякий интерес к духовным запросам. Он, поджарый, с неприятной змеиной улыбкой, стал чуть ли не профессиональным картежником. Хотя они очень нуждались, у него был неприкосновенный карточный фонд, которого он не трогал, даже если в доме недоставало хлеба. Случилось, что я не удержался и высказал ему негодование, но он совершенно спокойно ответил: «А что же дальше? Через неделю мы будем в том же положении, с той лишь разницей, что я буду лишен единственного удовольствия». Увы! Безупречная логика может сожительствовать с величайшей гнусностью.
Таково было мое окружение в первые полтора года пребывания в Усть-Сысольске. Ну а я сам? Новая обстановка не могла не занимать, ведь я впервые видел подлинную будничную жизнь, спустился с заоблачных высот на грешную землю и, преодолевая свои недоумения и отталкивания, повторял себе: полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Мы были во власти аберрации, принимая тонкий слой интеллигенции за всю Россию, и, когда Чехов – осторожно и нежно, но безжалостно – вскрыл удручающую пошлость сереньких, мертвящих будней провинции, то есть всей матушки России, прогрессивный Петербург решительно отказался ему верить, готов был разбить зеркало, так тонко и талантливо Чеховым отшлифованное. Как я был изумлен, когда уже после Первой революции один из выдающихся представителей русской интеллигенции В. А. Мякотин, руководитель «Русского богатства»[26]26
«Русское богатство» – ежемесячный общественно-политический, научный и литературный журнал, издававшийся в России в 1876–1918 гг.
[Закрыть], категорически отклонил предложение посмотреть «Три сестры» в незабываемом исполнении Московского художественного театра, пояснив, что для Чехова только и света, что в окошке его мещанского дома в Таганроге, и что с него, Мякотина, довольно скуки, испытанной при чтении произведений Чехова… Быть может, именно ссылке, подневольному трехлетнему барахтанью в засасывающей будничной гуще я обязан тем, что уже не мог закрывать глаза на действительность, что она, напротив, глухо волновала и растравляла скептицизм.
Однако первые месяцы пребывания все помыслы и чувства были прикованы еще к Петербургу, к Невскому за Николаевским вокзалом. Не считаясь с тем, что Альберт Львович не предоставлен всецело себе, а очень занят по-прежнему, я писал ему длиннейшие письма, которые помогали самому кое-как разобраться в хаосе мыслей и ощущений… Памятно мне, что в последнем письме, полученном от бесценного друга, Альберт Львович с присущей ему мягкостью убедительно возражал на мои доказательства, что человек должен вести себя так, чтобы в любую минуту быть готовым спокойно встретить смерть.
Упоминание о последнем письме подводит к страшной драме, можно сказать, трагедии, ибо в том, что произошло, звучал для Альберта Львовича голос рока. На упомянутое письмо его я немедленно ответил весьма обстоятельным посланием, которое недели через три (письмо в Петербург шло 10 дней) получил обратно от жены Альберта Львовича, сообщавшей, что 17 апреля он был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Впоследствии выяснилось, что Анатолий действительно приехал с грузом подпольной литературы, но за ним уже следили, и, когда установлены были все его связи, он был схвачен. Арестован был и Альберт Львович, и в Одессе группа во главе со Штернбергом, причем один из арестованных обнаружил излишнюю словоохотливость и был выпущен из тюрьмы без наказания. Все остальные подверглись тягчайшим карам… Альберт Львович около двух лет просидел в казематах Петропавловской крепости, после чего был отправлен по этапу в Якутскую область. За ним последовала жена с дочерью, а в Якутске, как подробно рассказано в известной книге Кеннана[27]27
Русское издание: Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. СПб., 1906.
[Закрыть] о Сибири, заключенные отказались повиноваться зверскому приказу губернатора, распорядившегося отправить их в разгар зимы в расположенный за полярным кругом Нижнеколымск. Губернатор приказал применить силу и отрядил взвод пехоты. Из дома, в котором ссыльные заперлись, раздался выстрел, войска стали стрелять, одного убили, другого тяжело ранили. Поведение ссыльных квалифицировано было как бунт, и военный суд жестоко расправился с ними, приговорив тяжело раненного Когана-Бронштейна и Гаусмана к повешению. Вдова с дочерью вернулась в Петербург, в 1896 году, когда и Штернберг туда приехал, я предложил навестить ее, чтобы от живого свидетеля узнать о последних днях друга. Мы очень волновались перед свиданием, я душевно трепетал, но нашел не то, что ожидал. Она мало изменилась внешне за десять протекших лет, только глаза стали еще печальнее, и, сообщив, что вторично вышла замуж, тем же спокойным, скорбным голосом отвечала на наши вопросы о якутском происшествии. Моей очаровательной Нади, тоже вышедшей замуж, не было дома, и все показалось так чуждо, так остро ощущалось исчезновение былых сердечно-дружеских отношений, что внутри что-то оборвалось, и, когда мы вышли на лестницу, я, как мальчик, истерически разрыдался, а Штернберг, всегда сдержанный и нежно меня успокаивавший, сам был недалек от моего состояния.
Однако забежал я далеко вперед, за эти десять лет так много переменилось в жизни. Тогда же, в ссылке, по получении известия об аресте Альберта Львовича я почувствовал себя осиротевшим, и, вероятно, чувство это не было свободно от эгоистического элемента: мне не с кем было больше делиться моими теориями и душевными тревогами, и только теперь я болезненно ощутил свое одиночество. Но мысль о смертной казни, конечно, в голову не приходила, хотя заключение в Петропавловку и предвещало суровый приговор. В дальнейших письмах жена Альберта Львовича предупредила, что, как рассказал ей муж на свидании, его несколько раз допрашивал П. Н. Дурново, тогда директор департамента полиции, а потом задушивший, в качестве министра внутренних дел, Первую революцию 1905–1906 годов. Дурново неизменно допрашивал Альберта Львовича о его отношениях ко мне… Когда же отец вновь приехал в Петербург и перед тем же Дурново ходатайствовал о сокращении срока ссылки, тот недвусмысленно намекнул, что мое наказание не соответствует содеянному, что вряд ли оно ограничится назначенным сроком. Но намеки и угрозы не реализовались, и так и осталось загадкой, чья рука и почему выхватила меня из западни, в которой уже находились обе группы – в Петербурге и Одессе. Если они так подробно были прослежены, то департаменту не могло не быть известно мое участие. Правда, после разоблачений Азефа[28]28
Евно Азеф – лидер боевой организации эсеров, проводившей террористические акты; оказался одновременно агентом полиции.
[Закрыть] выяснилось, что такие капризы судьбы, и много более странные, не раз случались и объяснялись желанием укрыть роль предателей, но в данном случае и такого мотива найти мне не удалось. А дважды все же пришлось пережить минуты неприятные: казалось, что мой час пробил.
В первый раз – это было вскоре после ареста Альберта Львовича – ко мне явился исправник с помощником и полицейскими и, не объясняя причин, сказал, что имеет приказ произвести обыск, забрал несколько писем, а попутно обратил внимание на охотничье ружье: я пытался развлекаться охотой (отлучки за город были молчаливо разрешены, я лишь предупреждал моего цербера), но, по близорукости, только смешил людей. Исправник напомнил, что держать огнестрельное оружие ссыльным запрещено, а по окончании обыска, уходя, заметил, что у него есть отличная двустволка, которую он мог бы дешево уступить…
Второй случай оставил в памяти болезненный рубец, который долго не заживал. В 2 часа дня, сильно проголодавшись, я посматривал в окно, не несут ли обеда, который тогда я получал из местного клуба. Вместо этого я вдруг увидел большую процессию, конную и пешую, остановившуюся у ворот: в почтовом тарантасе сидели жандармский полковник и штатский, это был товарищ[29]29
Товарищ – заместитель прокурора.
[Закрыть] прокурора, они прикатили за несколько сот верст из Вельска. Пешком шли исправник с надзирателем и цербером, а за ними почтительно продвигалось несколько обывателей, которые должны были исполнять роль понятых при обыске. Процессия заполонила всю комнату, жандарм предъявил ордер на обыск, который и был произведен с большой тщательностью, и большая часть бумаг и писем была забрана; а затем, ни слова не говоря, незваные гости удалились, и меня вдруг обуял животный, безумный страх… Было невыразимо стыдно, тщетно я пытался логическими доводами это отвратительное чувство пересилить. Измученный внутренней борьбой, я часов в шесть вышел погулять, но в это время с двух противоположных сторон прибежали полицейские и повели меня в полицейское управление.
Исправник, недовольный пренебрежительным отношением к нему приезжих, успокаивал, наивно уверяя, что меня никому не отдаст, а я, стискивая зубы, отвечал, что нисколько не волнуюсь. Мы вошли с исправником в его кабинет, где уже сидели жандарм и товарищ прокурора, развалившись и ковыряя в зубах после сытного обеда. Предложив исправнику оставить их одних со мной, они еще с минуту продолжали сидеть молча, и вдруг страх как рукой сняло, он уступил место злобному раздражению. Странно было, что как бы в ответ их отношение изменилось, у прокурора послышались даже заискивающие нотки, когда он пояснял, что при аресте в Одессе найдено было письмо на мое имя, которое не успели отправить: некоторые места представляются загадочными и требуют с моей стороны разъяснений, которые я, конечно, не откажусь дать. Я просил дать мне письмо, чтобы ориентироваться в его содержании, они не согласились, прочитывали мне отдельные предложения, из которых нетрудно было понять, что письмо составлено крайне неосторожно. Однако отказ дать прочитать письмо очень облегчал задачу, и ответы мои явно раздражали, чему я злорадствовал, как бы вымещая позорное чувство страха. «Мы вас сейчас же отпустим, если вы объясните, что означает фраза: „Вообще перспективы проясняются“». – «Если я не знаю связи этой фразы с предыдущей, то могу лишь предположить, что корреспондент мой, собирающийся вскоре жениться, предстоящей радостной перемене жизни приписывает прояснение перспектив». Опять, как и в Петербурге, резкая перемена тона, сухое: «Запишите!» и потом: «Можете идти!» А в соседней комнате торжествующий исправник: «Я же сказал вам, что никому не отдам!»
За вычетом этих сюрпризов, жизнь отличалась усыпляющей монотонностью, которой нужно было противопоставить разнообразие умственных занятий. С таким увлечением и настойчивостью предался я изучению английского языка по отличному самоучителю, что через два месяца мог не читать, а жадно глотать «Записки Пиквикского клуба» и вырос в собственных глазах.
Труднее было справиться с главной задачей – подготовиться к окончательному университетскому экзамену. Полнейшее отсутствие руководства, системы и последовательности в изучении юридических наук оставило зияющие пробелы, и если впоследствии удавалось кое-как их заполнить, то недостаток фундамента так уж и остался навсегда, и не раз я испытывал горькое бессилие развить и обосновать мысли, которые тревожно копошились в голове. Мне прислали лекции по римскому праву пользовавшегося большой популярностью профессора С. А. Муромцева. Предложенное им историческое изложение русского римского гражданского права заронило догадку, что развитие гражданского права, определяющего область частной инициативы, похоже больше на качание маятника, что границы этой области то сокращаются, то раздвигаются. Казалось непонятным, что об этой, для меня ставшей основной, проблеме исторического изложения Муромцев говорит мимоходом, в примечании, а утверждение, будто «развитие индивидуализма идет рука об руку с развитием общественности», ударило по больному месту и вызвало протест, которого обосновать я не мог бы.
Лет через пятнадцать я имел высокое удовольствие познакомиться с Муромцевым – невозмутимым благородным красавцем, с изящными, с оттенком торжественности манерами и такой же размеренной и внушительной речью. Это было в начале 1905 года, на крутом подъеме освободительного движения, когда все кругом возбужденно волновалось, а Муромцев властно заставлял нас, как учеников, корпеть над выработкой деталей «Наказа» для Государственной думы, которая только еще в перспективе вырисовывалась. Эта вера в силу и значение «Наказа», который потом он с таким неподражаемым величавым достоинством тщетно пытался проводить в бурной Первой Думе, живо напомнила «примечание», которое так легко и просто разрешало на бумаге трагическое противоречие между человеком и человечеством.
Если лекции Муромцева вызвали неудовлетворенность и поставили вопросы, которые я тогда даже и формулировать отчетливо не мог, то другая книга озарила и совсем покорила меня. Еще будучи студентом в Одессе, я приобрел в русском переводе два тома «Логики» Милля, но, почтительно на нее поглядывая, все не решался приняться за штудирование. Я опасался, что, отвлекаемый принятыми на себя общественными обязанностями, не одолею ее, и это удерживало: берясь за толстую серьезную книгу, я как бы вступал в бой с ее автором, и отложить ее неоконченной – значило потерпеть поражение, которое подрывало неустойчивую веру в себя и потому неприятно всегда ощущалось.
Я захватил Милля с собой в Петербург, но там еще меньше было возможности посвятить себя чтению с надеждой дойти благополучно до конца. Теперь, в ссылке, став полным хозяином своего времени, я решил уделять ежедневно два часа штудированию «Логики». С большим трудом, как наложенное послушание, преодолевал я отвлеченные рассуждения первого тома о названиях, вещах, определениях, силлогизмах, несколько раз порывался бросить, не будучи в состоянии дать себе отчет, правильно ли я усваиваю сущность мыслей автора. Но упрямство брало верх, и в таком мучительном настроении я подошел к отделу об индукции и ошибках мышления. Сторицей была вознаграждена настойчивость. Передо мной открылось нечто совершенно неведомое и неподозреваемое, точно покров сняли с глаз, и бурная радость охватила меня. Конечно, ярко вспыхнувшая вера во всемогущество разума и логики в дальнейшем не выдержала испытания жизни, немало ошибок весьма чувствительным грузом лежит на совести, но Миллю я обязан умственной честностью и искренностью, которая заставляла сознавать и сознаваться в своих ошибках.
А после Милля меня уже ждала другая вдохновенная радость. Надо же было так случиться, чтобы в это время появилось первое дешевое издание полного собрания сочинений Льва Толстого. Некоторые произведения я уже знал, но они не находили в душе такого горячего отклика, как романы Тургенева, да и в кружках самообразования Толстой был не в чести. И как поверить, что революционеры только тогда стали пропагандировать Толстого, когда он оборвал свое несравненное художественное творчество ради проповеди непротивления злу насилием, которая резко противоречила народовольческому лозунгу: «В борьбе обретешь ты право свое!» Вспоминаю свое недоумение, когда, еще в Одессе, член ЦК «Народной воли» передал мне для продажи тючок гектографированных изданий «В чем моя вера» и «Исповеди», под фирмой «Народной воли» выпущенных. Эти запрещенные цензурой проповеди имели в публике большой успех и распространялись по высоким ценам… Был тут, впрочем, и другой своеобразный расчет: пусть эта проповедь вредит нам, но, как антиправительственная, она содействует разложению режима. А значит, как это выражено в грубоватой народной поговорке – хоть морда в крови, а наша взяла.
Я прочел все, кажется, их было десять, пухленькие тома от доски до доски. Читал и перечитывал, иногда сердце так колотилось от радостного волнения, что приходилось откладывать книгу, и я все вспоминал Надю, которая, бывало, вдруг расплачется от жалости или ужаса, так что я должен был прерывать чтение.
Впоследствии мне много раз приходилось по поводу разных юбилейных дат писать и выступать с публичными речами о Толстом, и я так формулировал свое восприятие его творчества: оно впервые приподняло перед нами завесу повседневной жизни, с гениальной простотой показало, что именно здесь лежит центр нашего бытия, а не в тех мимолетных героических взлетах души, которые остаются лишь тяжелым напоминанием о глубине падения. Я так возгордился Толстым, точно в его творчестве было нечто мое – в благородной простоте, углубленной до мистической проникновенности, в дерзновенном срывании покровов, под которыми задыхается живая мятущаяся жизнь, ощущался национальный характер его гения. Для меня лично он был в полном смысле слова учителем жизни: если логика Милля принесла умственное откровение, то сочинения великого писателя земли русской дали нравственное просветление.
Поделиться обуревавшими меня мыслями было не с кем. Таить их в себе я не мог, они переливались через край. Я стал испытывать страстное желание изложить свои мысли на бумаге, это был, вероятно, что называется, писательский зуд, который с тех пор и перешел в хроническую болезнь. Однако все мои литературные упражнения в ссылке постигла странная судьба. Я получал из редакций лестные отзывы, но статьи не появлялись, а мне тогда казалось, что не может быть высшего счастья, чем увидеть свою статью напечатанной и, вместо одиночества, вдруг ощутить духовное общение с тысячами людей.
Сколько, однако, ни ходи вокруг да около, надо переходить к тому, что сильнее всего давило в разгар моих занятий и литературных упражнений на настроение и стало серьезным жизненным испытанием. Я снимал тогда две комнаты в семье сидельца одной из винных лавок, очень доброго, иногда запивавшего. Зато жена его, еле объяснявшаяся по-русски, была сварлива и вечно ссорилась с детьми – двумя взрослыми дочерьми и сыном – писцом в управе. С младшей дочерью, прошедшей через русскую начальную школу, я сошелся, и результат, которого следовало ожидать, для меня был неожиданным. Помню – в начале лета, на обратном пути с дачи доктора, я рассказал ему о своих отношениях к Анне Ивановне и просил освидетельствовать ее состояние, внушавшее подозрение. Вернувшись домой, истерзанный комарами, грязный от пота, в отвратительном настроении я направил Анну к врачу. Через полчаса она вернулась и огорченно сообщила, что подозрения оказались правильными.
Я стал ее успокаивать, но сам почувствовал себя в тупике, не понимал, как связать настоящее с будущим, не представлял себе, что можно было найти какой-нибудь выход. Но доктор ждал меня к чаю, и, переодевшись в чистое белье, освободившись, после умывания, от зуда, я почувствовал себя бодрым и жизнерадостным. Я пытался конкретней представить себе, что ожидает ее и меня и как преодолеть предстоящие осложнения, но легкомыслие рассеивало все комбинации и властно подсказывало: «Все образуется!» И что же – ведь действительно все образовалось. О, были минуты тяжелые и бурные тревоги. Кажется, никогда больше я не волновался так, как при разговоре с отцом Анны. Но вероятно, это волнение в связи с полной искренностью и способствовало тому, что объяснение закончилось более чем миролюбиво. Он обещал воздействовать на семью, чтобы она не причиняла дочери никаких неприятностей, и лишь старуха не отказалась от своей ворчливости.
Мальчик родился 20 августа 1887 года. Еще накануне родов я совсем не представлял себе сущности и силы отцовского чувства, а на другой день после рождения само собой, именно само собой решилось, что с этим беззащитным, безответным существом я не расстанусь. Как это осуществить, я не задумывался, напротив – всячески заглушал тревожный вопрос, потому что ответа на него не было, но достаточно было взять ребенка на руки, чтобы сложился разливавший душевную теплоту ответ: пустяки, все образуется. Ребенок доставлял большую радость, смущало лишь, что он спокоен до флегматичности, и тогда меньше всего можно было угадать в нем будущего до суетливости подвижного, беззаветно доверчивого, страстно работоспособного профессора, ставшего, кстати, вместо меня специалистом по педагогике и, в противоположность мне, охотником до абстрактного мышления.
Чтобы еще больше воздействовать на семью, мы устроили торжественные крестины с отцом Константином, доктором-крестным. Акушерка, добродушная немолодая женщина, была крестной и потом очень о ребенке заботилась. Месяца через три меня потрясла внезапная смерть ее: она звала меня в лес по грибы, но в последнюю минуту я был чем-то задержан, и она отправилась вдвоем с девочкой-подростком. На обратном пути лошадь чего-то испугалась, понесла, выбросила седоков, и Мария Ивановна, ударившись виском о выступ избы, на месте скончалась.
* * *
Положение осложнялось тем, что как раз в это время, после рождения ребенка, стали прибывать один за другим новые ссыльные, и это меня сильно стесняло, я чувствовал себя виноватым. Уже на крестинах присутствовал такой новенький, немолодой, совсем лысый кавказец Голиев, бывший сельский учитель, неугомонное, но добродушнейшее, безобиднейшее существо, и, вероятно, я очень обязан был дружескому, за моей спиной, вмешательству Голиева, что фактически ни малейшей неловкости не пришлось испытать.
А в общем, жизнь заметно изменилась. Образовалась целая колония из людей, как на подбор разных, друг другу чуждых, так что состав был центробежный. Я и думаю, что она распалась бы, не будь среди нас замечательного В. Ф. Данилова. Сын вдовца-священника Курской губернии, инженер – он имел невзрачную внешность: маленький, лысый, с вьющимися на затылке остатками волос, широким лицом, всегда готовым расплыться в добрую улыбку, он был олицетворением доброты, мягкости и нежности, услужливости и отреченности от своего «я». Казалось, у него нет вообще никаких желаний и потребностей – хотите веселиться, читать, в винт играть, песни петь – за чем же дело стало? Давайте, я с вами. Хочется ли о чем-нибудь попросить, он непременно предупредит: а вам ведь статью перебелить нужно, давайте-ка, у меня почерк лучше, а делать мне нечего. Только возникнет недоразумение, он, как будто не замечая его, вмешивается и отвлекает внимание в другую сторону. По окончании ссылки он занял самое недоступное для «неблагонадежного» место – был директором технического училища в Баку и, несомненно, показал себя выдающимся педагогом. Думаю, что и к нам он относился как к детям, несмышленышам, и нельзя сказать, чтобы для этого в обстановке вынужденного безделья не было никаких оснований. Он вошел в сношение с Академией наук, и нам прислали приборы для метеорологических наблюдений[30]30
Как правило, ссыльным либо членам их семей, производившим регулярные метеозамеры (температуру воздуха и воды и т. д.) в отдаленных областях, выплачивали за это жалованье.
[Закрыть], в которых человек пять принимали участие.
Полную противоположность ему представлял студент Петровско-Разумовской академии Щекотов. Профессиональный забияка и спорщик, он представлял живой календарь революционного движения и в этом видел свое бесспорное превосходство над всеми прочими, для которых у него и было любимое словечко – балда, получившее широкое право гражданства в колонии.
Совсем бесцветным, но уже вполне законченным обывателем был московский юрист Степанов, которого сильно тянуло в усть-сысольское общество. Он и застрял навсегда в Усть-Сысольске, женившись на смазливой вдове умершего при нас фельдшера. Степанов имел литературную работу – для какого-то московского народного издательства составлял отрывные календари.
Двое рабочих, как теперь выражаются, от станка, тоже представляли друг другу яркую противоположность. Лютеранин Райх, здоровенный слесарь, всегда и надо всем язвительно подшучивал, в том числе и над собой, а сам был очень себе на уме. Другой, Ильченко – простой, добродушный, с ленцой, беззаботный хохол с застывшей улыбкой, оживлявшийся, как только начинали петь хором малороссийские песни. Я не мог понять, как и почему жена его решила соединить жизнь свою с таким простофилей. Винцентина Болеславовна, на мой взгляд, была женщина совершенно исключительная, от нее веяло святостью, и мне больше не пришлось встретить человека, к которому я бы относился с таким любовным, почтительным уважением: высокая, хрупкая, идеально сложенная, с безукоризненно правильным, точеным лицом, омраченным прозрачной тенью неизбывной грусти, и большими серыми глазами… Думаю, один взгляд этих глаз мог бы расшевелить сердце закоренелого грешника еще до того, как она начинала говорить своим проникновенным, ласковым, чуть надтреснутым голосом. Совершенством было каждое движение ее, каждый жест, поворот головы, все дышало покоряющим благородством, и все было в ней так просто и естественно. Через несколько лет после окончания ссылки она скончалась в Саратове от туберкулеза. Ревниво берегу о ней светлую память и горячую благодарность до последнего издыхания: у нее около года пробыл Сережа (сын) в обществе ее дочурки, его сверстницы, прежде чем я смог взять его к себе.
Самой видной фигурой, занявшей особое положение, был молодой врач, окулист, Ф. П. Поляков, с которым и после ссылки судьба меня тесно сводила и вновь разводила по разным местам. Не раз я буду возвращаться к нему на дальнейших страницах с дружеской признательностью. Всех он располагал к себе приятной наружностью, веселым смешком, мягкими, вкрадчивыми манерами и чуткой отзывчивостью. Получив, в виде редкого исключения, разрешение заниматься медицинской практикой, он произвел в больнице настоящий переворот, которому благодушный толстяк нимало не препятствовал. Больницу узнать нельзя было – в приемные часы она переполнена была пациентами, приезжавшими часто за сотни верст, ибо слава о чудотворце все дальше распространялась. Да, никогда не видевшие настоящей медицинской помощи зыряне искренне считали его чудотворцем. Как же иначе, если они вдруг прозревали после снятия катаракты и т. п. Но ему приходилось лечить от всяких болезней и делать разные операции, и руки у него были подлинно золотые: какое-то чудесное умение, усиливаемое психическим воздействием и сердечной заботливостью, умалять боль и, главное, своими манерами вызывать безграничное доверие. В больнице Федор Петрович работал бесплатно, но небольшие средства, достаточные для жизни в Усть-Сысольске, зарабатывал частной практикой среди чиновников и служащих, которые теперь впервые стали вообще лечиться.
Для полного счета нужно упомянуть еще о Князеве, московском студенте пятого курса, коренастом, невысокого роста человеке, и жене его… Они держались упорно в стороне, и можно было только понять, что он сознательно чуждается нашего общества и совершенно случайно попал в ссылку.
С каким волнением я перехожу к последнему члену нашей колонии А. Н. Александровскому, сознавая, что не найти мне слов, чтобы передать отраду и тревогу, которую мне доставляло близкое общение с ним – несколько месяцев мы прожили в одной квартире. У него было много общего с обаятельной Винцентиной Болеславовной: такой же высокий, тонкий, хрупкий, чудесное бледное лицо с небольшой темно-русой бородой казалось совсем прозрачным, такое же благородство манер и движений. Но такие же большие серые глаза застыли в беспокойстве и избегали смотреть на собеседника, а были обращены внутрь, как бы для того, чтобы не выдать своей глубоко затаенной грусти. Он рад был случаю посмеяться, но именно смех его, надрывный смех сквозь слезы, вызывал прилив участливой симпатии, желание обнять и приласкать его, как встревоженного ребенка.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































