Текст книги "В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы"
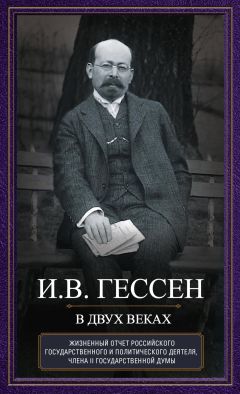
Автор книги: Иосиф Гессен
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Мне думается, что его сходство с женой Ильченко определялось одинаковым мироощущением, а разница – что ее это мироощущение привело к святости, а его – к душевному надлому, который он тщетно пытался залечить.
Попробую рассказать все по порядку, отрешившись от личных впечатлений. А. Н. был сыном священника подгородной Саратовской слободы. Отец общался с Чернышевским до осуждения его на каторгу, мать не позволяла никому повышать голос в присутствии детей. По окончании гимназии в Саратове А. Н. поступил в Киевский университет и, получив диплом кандидата филологических наук, назначен был учителем русского языка в высших классах кременчугской женской гимназии и оставался в этой должности в течение трех лет, до своего ареста, который в захолустном Кременчуге, где его знал весь город, произвел, конечно, большую сенсацию. В тюрьме по провинциальным порядкам его продержали долго, месяцев восемь, и камера всегда была заполнена разнообразными приношениями учениц, родителей и друзей. Беда была лишь в том, что в тюрьму не пропускали ничего алкогольного, и это было для А. Н. большим лишением.
Приговоренный к ссылке в Вологодскую губернию, А. Н. решительно отказался от собранных его поклонниками денег для поездки на свой счет и предпочел идти этапом, в партии, состоявшей из нескольких десятков арестантов, преимущественно беспаспортных бродяг. Выросший на Волге, среди народа, он знал и любил его не абстрактно, как мы, а подлинной живой любовью и воспользовался случаем, чтобы после долгого пребывания среди оторванных от народа слоев снова поглубже заглянуть в душу его.
Этапный путь из Вологды в Усть-Сысольск длился 55 дней – два дня ходьбы по 20–30 верст и «дневка» – отдых на третий день. На остановках и в особенности на дневках А. Н. вел беседы со своими подневольными спутниками и читал им народные произведения Толстого. Сельское начальство на этапных пунктах смотрело, конечно, косо… А. Н. отнюдь не имел в виду заниматься антиправительственной пропагандой и только давал толчок беседе, чтобы развязать языки, наслаждаться и жадно впитывать в себя слышанное.
Он пришел к нам физически измученный и весь переполненный путевыми впечатлениями, совершенно неспособный ориентироваться в новой обстановке. Встретив на улице через несколько дней после его прихода, исправник задержал меня, остановился и, заботливо показывая пальцем на лоб, сказал: «За ним надо присмотреть. Все ли у него тут в порядке?»
В этом действительно можно было усомниться. Домишко, в котором мы обитали, всего-то состоял из двух комнат с кухней, а он путался, и приходилось водить его в уборную. В первые дни трудно было вытянуть из него слово. Он то лежал на диване, то кружил по комнате, то присаживался к столу, на котором лежала стопка почтовой бумаги, и медленно писал крупным, заостренным, четким почерком. Все, что было написано, отсылалось в Париж, где в Сорбонне училась его невеста – медичка, обрусевшая француженка-киевлянка. Почта приходила к нам по понедельникам и четвергам, а на другой день уходила, и большую часть привозимой и увозимой из Усть-Сысольска корреспонденции составляла переписка ссыльных. В эти промежутки между прибытием почты и укладывались отрезки жизни А. Н. Отнеся на почту толстое письмо, он возвращался домой, заметно успокоенный, заходил в мою комнату, усаживался на лежанку и пытался заговаривать… Я пытался взобраться на своего конька и вовлечь его в беседу о Толстом – он вообще прекрасно знал всю русскую литературу, он начинал рассказывать о Кременчуге, о своем младшем брате, который сознательно отказался от университетского образования, по отбытии воинской повинности поселился в уездном городе на должности библиотекаря и жил затворником, подробно и интересно описывая брату свою жизнь. С течением времени он постепенно оттаивал, его научили играть в винт, и то была потеха, когда партнером его был Щекотов и слово «балда» гудело в воздухе, а он заливался своим больным смехом. Но с приближением весны, которая обычно сразу вступала в свои права, он проявлял все больше беспокойства, совсем перестал обращать внимание на внешность – я называл его Прекрасной Еленой, потому что одна штанина распоролась снизу до колена, и Данилов тщетно упрашивал отдать ему для починки.
Наконец, А. Н. открылся мне, что с началом судоходства по Двине приедет из Парижа его невеста; он снял для нее комнату и стал ждать, так мучительно и болезненно напряженно, что заразил всех, и все утратили душевное спокойствие, точно к каждому должна невеста приехать. На пароходе она могла добраться до Сольвычегодска, и 400 верст ей нужно было отмахать в безрессорной таратайке, а кроме того, нельзя было точно предупредить о времени приезда. Поэтому с момента получения телеграммы из Сольвычегодска А. Н. стал сам не свой, последние ночи спал, не раздеваясь, вернее, не спал: просыпаясь, я слышал, как он тяжело ворочается и что-то бормочет. В последнюю ночь и мной овладела неуютная тревога, и, услышав около 6 часов утра почтовый колокольчик, я громко крикнул: «А.Н.!» – но он уже стремительно выскочил из дома, только я и видел его. Я оделся, бесцельно вышел на улицу и, проходя мимо дома, где была наша «столовка», к величайшему своему удивлению, увидел, что там собралась уже вся колония. Не только я, но, как оказалось, все прислушивались и облегченно вздохнули, когда колокольчик зазвенел… Кто-то сбегал на реку, зачерпнул ведро воды, раздули самовар и стали пить чай за здоровье жениха и невесты. Она пробыла у нас месяца три и уехала с последним пароходом, но мы впервые ее увидели за несколько дней до отъезда, когда уже началась неприветливая осенняя погода, увидели настоящую француженку – изящную, подвижную, светски общительную и совсем непринужденно державшуюся (она, конечно, всех нас знала до тонкостей по рассказам А.Н.), с энергичным выражением лица, ясными черными глазами и уверенным тоном речи.
В течение этих трех месяцев они всецело принадлежали друг другу, ни с кем не виделись, утром уезжали на лодке к затону на реке, днем он приходил к нам с судком за обедом, в жаркие дни возвращались на реку, и я тревожился, как он перенесет разлуку. Такой беззаветной, всепоглощающей любви мужчины к женщине мне больше не приходилось видеть, а А. Н. потом поразил меня, рассказав, что больше трех месяцев подряд они жить не могут, приходится разъезжаться. А. Н. проводил ее до пересадки на другой пароход (для этого пришлось сломить свое органическое игнорирование всякого начальства и просить разрешение у исправника), а вернувшись через три дня, съехал, как и надо было ожидать, от меня в комнату, которую она занимала, чистенько, даже нарядно убранную, и сам имел теперь опрятный, франтоватый вид. Но не прошло и месяца, как он снова превратился в Прекрасную Елену, и комната пропахла табачным дымом…
Переезд А. Н. дал возможность углубиться в подготовку к университетскому экзамену, и это было необходимо, ибо наступала для меня последняя зима. Я сходился с товарищами за обедом и ужином, вечером оставался редко, только когда получалась новая книжка журнала (редакции либеральных газет и журналов посылали нам свои издания бесплатно) и происходило чтение вслух. Но я не помню, чтобы происходило обсуждение и споры по поводу прочитанного. Еще решительнее можно утверждать, что ни разу не возникало принципиального разговора о революционном движении, к нему как-то не проявлялось интереса, определилось молчаливое соглашение о прошлом не говорить. Правда, все были только сочувствующие, и все пострадали из-за оплошности… именно поэтому, вероятно, разложение «Народной воли», к которой наша колония имела отношение только по касательной, сразу и легко дало почувствовать оторванность от революционной деятельности. Когда через несколько лет снова стала подниматься волна подпольной работы и на сцене появились социал-демократы и социалисты-революционеры, сменившие народовольцев, – идейные споры определяли все бытие ссыльных колоний. Кажется, для всех членов нашей колонии ссылка была лишь эпизодом, замутившим на время ровное течение жизненного ручейка, но не засорившим русло и не свернувшим его в другую сторону.
Пост директора технического училища, занятый очаровательным Даниловым, несомненно, как нельзя лучше соответствовал его душевным влечениям. Рейх умудрился устроиться в Петербурге на известном заводе «Айваз» и переменил лютеранскую веру на православную. Ильченко после смерти жены переселился в Саратов, где вновь женился и приезжал в Петербург на какой-то съезд освободительного движения, был очень оживлен и ко мне, как к кадету, относился несколько свысока. От прежнего Щекотова ничего не осталось, он как будто сознавал это и стеснялся. Приехал он в столицу к профессорам, чтобы лечить одного из сыновей своих от туберкулеза. Окончив после ссылки Петровско-Разумовскую академию, он вернулся на родину свою в город Тотьму, дослужился до лесничего, женился и имел кучу детей. Он сильно обрюзг, утратил весь свой молодой задор, «балда» исчезло из лексикона, и говорил он только о житейских заботах, о том, как трудно жить. У меня были тогда связи в министерстве земледелия, и я предложил ему помощь для перевода на службу в Петербург, но он только руками замахал: пусть в Тотьме никаких перспектив не имеется и приходится перебиваться с хлеба на квас, но там свой домишко, огород, и тронуться с места большой семьей было бы неоправданной авантюрой. Блестящий успех сопровождал врачебную деятельность Полякова, сначала в Туле, потом в Петербурге, куда он переселился годом позже меня и получил звание лейб-медика: его имя упоминается в переписке государя с государыней в связи с болезнью наследника, которого он лечил.
Остался в полном смысле слова неприкаянным только А. Н. Александровский, уехавший после ссылки в Париж, где занял место преподавателя в русской школе. Невеста его тем временем получила диплом врача, и они поженились. В старых моих записях упомянуто, что «ему предстояло получить кафедру», но теперь не могу сообразить, о какой кафедре идет речь. Во всяком случае, он предпочел принять приглашение известного киевского миллионера-сахарозаводчика Терещенко поступить к нему воспитателем сыновей. А. Н. соблазнился яхтой, на которой семья проводила значительную часть года – это отвечало его непоседливости, душевному беспокойству. Одним из его воспитанников был М. И. Терещенко, сначала чиновник особых поручений при Императорских театрах, впоследствии министр финансов и иностранных дел Временного правительства.
Мы с А. Н. долго поддерживали переписку, два раза он обрадовал присылкой оттисков своих очерков, помещенных в «Русском богатстве» и напоминавших лучшие рассказы Глеба Успенского. Два раза мы виделись в Туле, где А. Н. проездом на короткое время останавливался для свидания с Поляковым и мною, и впечатление беспомощности и душевной растерянности было еще ярче и тревожнее. Во времена Третьей Думы я ежедневно видел в недолговечной газете «Страна» подпись издателя: А. Н. Александровский, но бесконечно далека была мысль, чтобы это был мой А.Н., такое предположение никак не могло бы прийти в голову. А потом, уже в начале войны, он явился ко мне, постаревший, осунувшийся и съежившийся, с потухшими глазами, робкий и молчаливый. Явно делая над собой усилие, он на мои вопросы рассказал, что издателем «Страны» был именно он: Терещенко, дав профессору М. М. Ковалевскому, воскресившему на рубеже нынешнего столетия русское масонство, средства на издание газеты, возложил на А. Н. распоряжение ими – менее подходящего человека для этого найти было бы невозможно. Когда «Страна» закрылась, он уехал в Киев к жене и детям, а сейчас приехал навестить старшего сына, студента политехникума. «Чем же вы теперь заняты?» – продолжал я донимать его. Я чувствовал, что вопросы ему удовольствия не доставляют, но и сам не мог тогда похвастаться душевным равновесием… «Да, так, вообще, ничего! Так, старые книжки хорошие перечитываю, по букинистам хожу, много забавного, интересного найти у них можно и поговорить с ними любопытно. А вечерами с младшим сыном Чехова в лицах читаем».
Революция, беспорядочно разбросавшая близких людей в разные стороны, разлучила меня с А.Н., больше о нем я не слышал, но нет никаких оснований утешать себя, чтобы его хрупкая душа, с трудом переносившая «нормальную обстановку», могла уцелеть в революционном хаосе. Я спрашивал себя: вот чудесный человек, умный, образованный, добрый, страстно любящий свою «нищую Россию» и народ ее, готовый все силы и способности отдать ему. Для чего же нужно было парализовать эти недюжинные силы, дав и ему «трепещущее сердце, истаивание очей и томление души».
Трагическая судьба А. Н. опять увлекла на многие нелегкие годы вперед, а мне предстоит еще расстаться с Усть-Сысольском. Предвкушение конца ссылки отравлялось опасениями, что срок будет продлен. Эти опасения настойчиво поддерживались Щекотовым, авторитетно ссылавшимся на ряд случаев, когда ссыльному преподносили сюрприз в последний момент или даже возвращали с дороги. Теперь, когда на руках был сын, а из дома приходили самые неутешительные известия о материальном положении семьи, мысль об оставлении в Усть-Сысольске приводила в содрогание. А вместе с тем не давала покоя забота, на кого же оставить Сережу, каково будет к нему отношение семьи матери и ее самой, когда меня тут не будет.
Но пессимизм революционного оракула не оправдался, а судьба, напротив, улыбнулась. Незадолго до отъезда мы получили известие, что в Усть-Сысольск по этапу идут два старых друга моих – Перехватов и Демяник, – и я решил встретиться с ними дорогой и умолить понаблюдать за мальчиком. Трогательно напутствуемый товарищами, я уезжал в конце января. Стояла суровая зима, морозы доходили до 35 градусов по Реомюру. Ехал я на «вольных» – это обходилось много дешевле, но езда была медленнее, ночью ямщики с трудом соглашались везти, кроме того, нужно было так приноровиться, чтобы встретить этап на дневке.
Останавливался я в курных крестьянских избах, обычно заставал только хозяйку, которая, склонившись у дымящей лучины и ногой качая зыбку с ребенком, занята была плетением знаменитых вологодских кружев. Разъедало глаза дымом, и больше получаса оставаться в избе было невозможно. Но страшнее была темнота духовная: горизонт женского миросозерцания обрывался у крайней избы, мужчины имели превосходство: они доезжали до соседних деревень. Усть-Сысольск здесь представлялся чем-то сказочным, и меня о нем жадно расспрашивали. Было такое ощущение, что духовных интересов здесь вообще не существует и что с этими людьми меня объединяют только животные инстинкты. Теперь-то я понимаю, что это была гордыня невежества, мне самому можно было кое-чему здесь поучиться. Но тогда мысль работала в другом направлении, и за время бесконечного пути, под унылое позвякивание бубенцов, я терзался неотвязным вопросом, что же мы сделали за три года пребывания среди этих людей, бросили ли в них хоть «единый луч сознания», какую память о себе оставили? А бубенцы все так же уныло позвякивали, и так мы доехали наконец до этапа, сразу заставившего обо всем остальном позабыть. Я опасался помехи со стороны конвойных, потому что свидания и разговоры с препровождаемыми по этапу были строго запрещены, но взволнованная просьба нашла отклик в сердце молодого солдата, лицо которого до сих пор помню. С расцветшей улыбкой, точно ему самому предстоит получить удовольствие, он проводил меня к совершенно изумленным неожиданностью друзьям, и мы часа три провели вместе. Оба были бодры, но у Перехватова заметна была нездоровая полнота и тюремная желтизна лица, оба горячо отозвались на мою мольбу, обещав поселиться в моих комнатах и оградить ребенка от нежелательных влияний.
К концу десятого дня я добрался до Вологды и, сев в вагон, испытал чувство, как будто приехал с того света. Вагон был до отказа набит, и один купец громко выражал свое недовольство, а когда другие пассажиры пытались его урезонить, он отвечал: «Вам-то с полгоря, вы только что сели, а я уже третий день мотаюсь».
«А я вот, – как-то само собой вырвалось у меня, – уже одиннадцатый день передвигаюсь». Он так и замер с широко расставленными руками: «Да что ж вы, с того света, что ли?» Это неожиданно громкое чтение моих мыслей вызвало настоящий припадок смеха, а пассажиры стали требовать, чтобы я рассказал им, в чем дело, и рассказ привлек единодушное сочувствие.
Москва буквально оглушила меня уличным шумом, звонками конки, окриками кучеров, колоссальными расстояниями. Здесь встретил меня первый родной человек, двоюродный брат – адвокат. И он, и жена его ни за что не соглашались отпустить меня тотчас же дальше, но, на манер пушкинской капитанской дочки, я не захотел посмотреть Москву и вечером выехал дальше в Екатеринослав, где в то время проживал с дедом и дядей отец. Здесь меня ждала необычайно горячая встреча, мы с трудом сдерживали слезы. Отец, видимо, был доволен новинкой на мне: в Усть-Сысольске я отрастил рыжеватую бороду: он расстался три года назад с юношей, а встретил мужа, вероятно, он надеялся, остепенившегося. Через два дня, согретый и ободренный родственными ласками, я радостно выехал в Одессу, не подозревая, какими тяжелыми годами окажется чревата столь много давшая мне ссылка.
Тяжелые годы
(1889–1893)
Явкой в полицию по прибытии на родину и обменом проходного свидетельства на паспорт формально ликвидировалась административная ссылка. Фактически же негласный надзор, оставление на примете сохранялось и давало себя знать еще пять лет спустя, когда я уже состоял на государственной службе в Туле, а еще двумя годами позже, когда из Тулы я был назначен в Петербург, в министерство юстиции. Состоявшие под негласным надзором являлись для полиции неприятной обузой – мало ли, что им в голову может взбрести, и естественно, что одесская полиция, помещавшаяся в двух шагах от нашего дома, в мрачном здании с высокой пожарной каланчой, гостеприимства не проявила. Но это возмещалось горячими родственными объятиями, братья и сестры встретили меня как героя и проявляли трогательную заботливость, а мать энергично взялась меня подкармливать, она была убеждена, что вне ее попечения я голодал.
За время моего почти четырехлетнего отсутствия в семье произошли большие перемены. Половина большой квартиры сдана была внаем, но уплотнение служило лишь подтверждением, что в тесноте, да не в обиде. Отец большей частью жил в Екатеринославле или в Белгороде, управляя снятым в аренду большим винокуренным заводом, хотя и это дело было ему совершенно незнакомо и тоже принесло большие убытки. Две сестры-погодки кончили гимназию, имели много поклонников, и дом совершенно преобразился: табу, наложенное на лучшую комнату-залу, было снято, она стала центром домашней жизни, там танцевали, вели разные игры, среди поклонников были отличные рассказчики анекдотов, и смех и веселье, сопутствуя разорению, сменили прежнюю тишину и угрюмость, царившую при материальном благосостоянии. Так и прожили, пока дом не продали с молотка, и семья не распалась, совсем по-дворянски, как в «Вишневом саду», чудесное представление которого в Художественном театре всегда заставляло вспоминать эти годы.
В числе сестриных гостей частыми посетителями были два кузена, окончившие гимназию в Николаеве. Оставшись круглыми сиротами, они переселились в Одессу, к своим деду и бабке. Они тоже были погодками, но один – высокий, видный красавец, а другой – маленький скромный добряк. Я только теперь с ними познакомился и с первым постепенно все дружественнее сближался – это был Владимир Матвеевич, будущий профессор государственного права, а тогда студент, пленявший всех недюжинным поэтическим талантом. Он тоже страдал гессенской неуверенностью в себе, я же был большим почитателем его таланта и тайком посылал его стихотворения в печать, рискуя его гневом в случае отказа, впрочем, нестрашным – сердиться он не умел, да и поводов жизнь ему не давала: все его любили и баловали.
Из прежних товарищей я нашел в Одессе только Ф. и Пекатороса. Ф. уже кончил университет, был женат и собирался в Лодзь, где получил должность в конторе текстильной фабрики. Тяжелое разочарование принесла встреча с Пека-торосом. Я считал его крепким, негнущимся дубком, а он оказался гибким и податливым, и передо мной стоял другой, совсем чужой человек, который так и смотрел, точно спрашивая недоуменно, зачем я пришел и что мне от него нужно. Он был всецело на стороне ретроградного режима Александра III, как отвечающего требованиям национализма, которым он оправдывал и воздвигнутые тогда московским генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем жестокие гонения на евреев. Мне впервые пришлось тогда увидеть столь резкую перемену миросозерцания, и я отказывался верить ушам, сначала думал, что он меня мистифицирует, тем более что внешне он совсем не изменился. Но чем настойчивее я выспрашивал, тем он становился резче и определеннее. Я думаю, однако, что и теперь он был честен и искренен, но бывает у людей такая же чрезмерная, иногда даже патологическая восприимчивость к идеологическому заражению, как к физическому. Больше я его и не видел, но в начале нового столетия, уже будучи в Петербурге, встречал в газетах его имя среди видных деятелей освободительного движения. Он был очевидно гораздо более экспансивен, чем позволяло предполагать его вдумчивое лицо и спокойная, уравновешенная речь.
С первых же дней в центре внимания встал вопрос об экзаменах, предстоявших весной. Я стал усиленно готовиться и неформально сдал даже несколько экзаменов по соглашению с более покладистыми профессорами, как вдруг разразился удар. В этом, 1889 году осенью должны были состояться впервые государственные экзамены, введенные университетским уставом 1886 года. Новизна казалась молодежи очень страшной, и много студентов третьего курса бросали университет, чтобы держать экзамены экстернами весной по прежним правилам. Так как это явление приняло массовый характер, оно обратило на себя внимание министерства, и граф Делянов издал циркуляр, воспретивший допущение экстернов к экзамену. Этот циркуляр рикошетом больнее всего ударил по мне.
Покровитель мой профессор Барановский телеграфировал Делянову, прося сделать для меня исключение, а тот через полную тревоги неделю ответил на манер пифии: «Ввиду циркуляра Гессен должен держать экзамен в государственной комиссии». Это само по себе было бы еще с полгоря, но к экзамену допускались студенты, имевшие свидетельство о зачете восьми семестров, такового у меня не было и быть не могло, и так до самого начала экзамена я оставался в неопределенном положении, не зная, согласится ли председатель государственной комиссии истолковать слово «должен» в смысле разрешения быть допущенным к экзамену без соблюдения требуемых уставом условий. К счастью, председателем был назначен профессор Киевского университета Владимирский-Буданов, человек столь же ученый, сколь и добрый, и он принял телеграмму за министерское разрешение. Мой диплом и представлял некоторый уникум, так в нем и напечатано было: вместо слов: «по предъявлении свидетельства о зачете 8 полугодий» – «на основании телеграммы его сиятельства г. министра народного просвещения».
Нас держало экзамены 60 человек, я был 61-й, они были разделены на четыре группы по 15 студентов в день. Накануне первого экзамена по римскому праву вывешен был в университете список распределения по группам, и – о ужас! – моей фамилии в списке не оказалось. Сомнения оправдались, я к экзамену не допущен. Но, бросившись к Буданову за разъяснением, я узнал, что пропуск – случайный, и тут же он записал меня в первую группу. На другой день, уже достаточно истомленный сомнениями и усиленной подготовкой, я далеко не оправился от вчерашнего потрясения и явился на экзамен в состоянии тупого безразличия от нервной усталости. Но выручил меня благодетельный курьез: я вынул билет, на котором, между прочим, значилось – вещи движимые и недвижимые. После короткого ответа профессор Табашников перебил меня предложением объяснить разницу между названными вещами, на что я сказал, что недвижимые прикреплены к месту, а движимые могут быть переносимы. Профессор, мне показалось, насмешливо, спросил: «А вот в Америке нашли способ передвигать дома с места на место?» Не без раздражения я ответил, что если бы римляне этот способ знали, то, несомненно, нашли бы другое определение, и считал, что диплома первой степени уже в любом случае не получу. И вдруг председатель улыбнулся и, обратившись к профессору со словами: «Я думаю – довольно!», протянул мне руку: «Отлично!» Я вышел в недоумении. Вероятно, неожиданным успехом я обязан был каким-то личным счетам между профессорами, во всяком случае, после этого чистосердечно не понимаю, как это произошло – экзамены сходили очень легко, и я не только получил диплом первой степени, но предложено было оставить меня при университете для подготовки по кафедре гражданского права.
Радость продолжалась недолго, министерство отказало в утверждении ввиду политической неблагонадежности. Оставалось записаться в помощники присяжного поверенного, и меня принял известный тогда на юге адвокат В. Я. Протопопов. У жены его, жеманной генеральши по первому браку (в будуаре стоял портрет бравого генерала), было большое состояние, и они занимали роскошную большую квартиру. Уезжая в провинцию по делам, Протопопов оставлял на меня кабинет, а возвращаясь, проходил со мной гражданские законы, которые благодаря ему я отлично изучил. Позже он был выбран городским головой Одессы, а во времена Третьей Думы вдруг появился в Петербурге и оживленно рассказал, что, так как падчерица, вопреки его настояниям, вышла замуж за несимпатичного ему инженера, «я схватил шапку в охапку и переехал к вам в Петербург, принимайте гостя!».
У Протопопова я работал с полгода, пока в Окружном суде затягивалось рассмотрение моего ходатайства, завершившееся отказом в зачислении в адвокатуру – патент неблагонадежности и тут проявил свое действие. Председателем Одесского суда был М. Г. Акимов, впоследствии министр юстиции и председатель Государственного совета. Теперь, после отказа Окружного суда начались бесконечные мытарства. Куда я только ни бросался и чем только ни готов был заняться, лишь бы добыть заработок. Знакомые исхлопотали место в конторе крупного торгового дома готового платья Мандель и даже вызвали меня в Москву, но, по-видимому, я не понравился хозяевам и принят не был. Обещана была должность в одном из многочисленных банков еврейского миллионера Полякова, если я готов ехать в Персию. Хотя я, не задумываясь, согласился, но и из этого тоже ничего не вышло.
Однажды пришел я с отцом к виднейшему одесскому адвокату Т. для консультации по сложному гражданскому процессу, возникшему из аренды упомянутого винокуренного завода в Белгороде. По окончании консультации Т. предложил мне заведовать его канцелярией за вознаграждение в 75 рублей в месяц. Нечего и говорить, что я с радостью и благодарностью согласился, и мы условились, что я уже с завтрашнего дня приступлю к работе. В сущности, это предложение ничего заманчивого не представляло, не открывало никаких перспектив, но на голодухе по занятию и какому-нибудь заработку смущаться не приходилось, и мы вышли с отцом довольными совершенно неожиданной удачей. Но радость была опять непродолжительна. Уже через несколько часов получено было извинительное письмо, в котором Т. запутанно объяснял, что он несколько поторопился, что он известит, когда можно будет приступить к работе, если, конечно, к тому времени я еще буду свободен.
После этой неудачи, столь нелепой и тем более обидной, юридический факультет по собственной инициативе профессора Табашникова постановил вторично возбудить перед министерством ходатайство об оставлении меня для подготовки по кафедре гражданского права. Но так как со времени окончания университета уже прошло два года, то для проверки, не отстал ли я в науке, мне предложено было представить новую письменную работу, а тема для нее выбрана была весьма актуальная, поставленная А. Л. Боровиковским в наделавшей много шума книге его «Отчет судьи». Приведя ряд решений из своей практики, Боровиковский выставляет основным тезисом, что судейская совесть должна служить коррективом оказавшегося несправедливым закона. Трудно, думается мне, найти более яркую жизненную иллюстрацию к афоризму, что добрыми намерениями дорога в ад вымощена, и наш автор сам же напоминает, что «никакая благонамеренность побуждений не может оправдать смуты, вносимой в гражданскую жизнь судейским произволом». Проповедь Боровиковского пробуждала засыпавшее уже неуважение к закону, нашедшее презрительное отражение в народной поговорке: закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло.
Как выяснилось потом, одесская профессура, считавшая откровение Боровиковского ересью, не решалась открыто выступить против своего коллеги и воспользовалась случаем, чтобы пустить меня в ход, как голову турка. Но во всю жизнь я оставался очень плохим чтецом задних мыслей, а тогда даже не предполагал их. Тема же была весьма увлекательная, и я с удовольствием принялся за работу. Предварительно прочел ее в небольшом товарищеском кружке и встретил безоговорочное одобрение. Весьма положительно отнесся и факультет (Боровиковский, как приват-доцент, в заседаниях факультета не участвовал) и направил вторичное ходатайство в Петербург об оставлении меня при университете. Кажется, уже после получения вторичного отказа из министерства Боровиковский выразил мне удивление, что до сих пор незнаком с моим произведением, о котором в университетских кругах все только и говорят, отзываясь с большой похвалой. Мне ничего не оставалось, как принести рукопись, от которой он пришел в ярость и вернул исчерканной возмущенными пометками вместе с очень обиженным письмом, полным упреков.
От своей губительной тенденции Боровиковский ни на йоту не отказался, но в отношении ко мне быстро и великодушно сменил гнев на милость. Но как же мне отказаться видеть перст судьбы в том, что навязанная мне с задними мыслями тема, непосредственно ничего, кроме неприятностей, не принесшая, пять лет спустя стала боевым лозунгом всей дальнейшей жизни и воспитала общественного деятеля.
Тогда я об этом не гадал и не думал, а лишь еще согнулся под новым отказом министерства народного просвещения и стал искать других путей для получения заработка. Не помню, какие деловые соображения побудили меня попытать счастья в Кишиневе, среди тамошней адвокатуры, с которой, однако, удалось установить только личные хорошие отношения. Не оправдались надежды и на знакомства старшего брата, тогда он владел в Кишиневе аптекой. Но главным притяжением было то, что там поселилась моя будущая жена с детьми. В Кишиневе жили многочисленные родственники ее покойной матери и среди них дядя, доктор М. О. Блюменфельд, пользовавшийся большой популярностью во всей Бессарабии и даже за пределами ее. Сын просвещенного кишиневского раввина, Михаил Осипович, сухопарый, подвижный, приветливый, был блестящим хирургом и выдающимся врачом-терапевтом, излюбленным одинаково и всей молдаванской, очень притязательной аристократией, и еврейской беднотой. Трудно было понять, как он справляется со своей домашней практикой, будучи и ординатором еврейской больницы, и остается неизмеримо бодрым, добродушно спокойным, неистощимо терпеливым с невежественной беднотой, которая, уплачивая за совет 10–15 копеек, проявляла капризную требовательность. Блюменфельд был не только врачом, но фактически по наследству нес на себе и отцовские обязанности: его осаждали и просьбами о житейских советах, об улаживании семейных недоразумений, избирали арбитром в спорах и тяжбах, и никому никогда любвеобильное сердце этого идеального бессребреника не в состоянии было отказать в помощи и содействии.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































