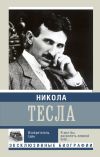Текст книги "Белый, красный, черный, серый"

Автор книги: Ирина Батакова
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
13. Мавка
– Что у нас дальше?
– Семицветова Анна Игнатьевна, 67 лет. История: гистерэктомия с последующей ТКВО-РС1.[10]10
Трансплантация клонированных внутренних органов репродуктивной системы
[Закрыть] Операция проведена вами пять лет назад. Послеоперационное ведение пациента…
– Зови, – сказал Леднев. – И переведи ассистентов на время приема в спящий режим, они мне сейчас не нужны.
– Вы уверены, что хотите…
– Уверен.
Вошла Семицветова. «До чего ж она все-таки огромна», – подумал Леднев, глядя, как широко и крепко она переставляет страусиные свои ноги, двигаясь к нему навстречу.
– Садитесь, драгоценная моя, садитесь. Прошу. Рад, рад. А вы все хорошеете.
Семицветова сдержанно улыбнулась, сверкнув дорогими зубами.
– А что еще остается, – махнула она рукой. – Статус не позволяет расслабляться.
Белые волосы уложены в четкую скульптурную волну, слегка побитую дождем. Никаких украшений, кроме сапфировых сережек-гарнитур – в тон туфлям и объемной парафиновой накидке, которая сейчас, в тепле, медленно оттаивала до жидкого состояния, обтекая мощные античные стати Семицветовой.
Леднев выжидательно посмотрел на нее.
Ее глаза ответили «да».
– Итак, – сказал он.
– Что-то меня беспокоит. Не знаю. Может, я придумываю, но что-то как-то…
– Ох уж эта ваша мнительность. Но давайте посмотрим.
– Давайте.
– Но я, как всегда, обязан вас предупредить: вы имеете право потребовать перевести наши линзы в режим невидимости, но тогда вы – понимаете, да? – оказываетесь на все это время беззащитны перед врачебным произволом.
– О господи, Дмитрий Антонович! – засмеялась она басом. – Что за формальности? Какой врачебный произвол? Сколько лет мы знаем друг друга… Разумеется, невидимость.
Леднев кивнул, отправил запрос: «Отключиться от Спутника согласно пункту 153-б о лимитированном праве на врачебную тайну по требованию вип-клиента». Сразу пришел неизменный ответ: «Разрешено» – и таймер на 10 минут. Он не очень-то доверял всем этим «разрешено» – трудно представить, чтобы Комитет сам себе ограничивал контроль из-за какого-то там вшивого пункта в законе о чьих-то там собачьих правах. Но что же делать – других лазеек не было. Тем более что, вопреки всем его опасениям, за целых два года, пока длится эта авантюра с «профилактическими осмотрами», ни его, ни Семицветову не тронули. Чем это объяснить, он не знал, и перестал беспокоиться. Вероятно, комитетчики и правда соблюдали некие правила игры – исключительно для собственного удовольствия. Ведь это, должно быть, очень скучно – жить, ни в чем себя не ограничивая.
– Что ж, душа моя, – сказал он, с треском натягивая перчатки. – Раздевайтесь и ложитесь.
Она долго копошилась, скрипела – наконец, замерла. Любая женщина – даже такая царица, как Семицветова, – укладываясь на гинекологическое кресло, теряет свою величественность. И все-таки… Все-таки… Эти чудовищно распахнутые, исполинские ляжки… Что-то в этом есть языческое, первозданное. Он испытал трепет, когда заглянул внутрь. Сокровищница моя…
– Только, бога ради, аккуратнее, – прошептала она.
– Не беспокойтесь, я очень, очень аккуратно… Расслабьтесь.
Леднев просунул резиновые пальцы, нащупал канатик, потянул… Семицветова томно вздохнула. Он продолжал тянуть, помогая пальцами другой руки… Она затрепетала, подалась вперед, сдерживая стон… Есть! Вот оно, сокровище! Моя Речная Мавка! Глина, терракотовая глазурь, великий Илларион Супримов, начало нулевых. Моя, моя! Он замер, любуясь.
– Ну, что? – хрипло выдохнула Семицветова.
– Одну минуту.
Он бережно отложил статуэтку в сторону, подошел к настенной полке, где стояла разная декоративная чепуха – как бы для украшения кабинета: стеклянные «магические шары», керамические безделушки и множество всяких шкатулок, в том числе – разных размеров коробки-головоломки, покрытые деревянной мозаикой. Леднев взял самую большую коробку, в 5 ходов открыл ее, достал оттуда зашитый в целлофан «рулетик» червонцев, окунул в стерилизатор, вернулся к Семицветовой и так же деликатно, как извлекал Мавку, просунул на ее место деньги.
– Можете одеваться.
Семицветова пошевелилась в кресле, опять вздохнула и зачем-то сказала:
– Все-таки золотые у вас руки, Дмитрий Антонович… Знаете, а я была бы и не против этого вашего… как вы там говорите… врачебного произвола.
Леднев предостерегающе покачал головой. Воздев указательный палец горе, очертил им круг в воздухе – мол, осторожней: хоть мы и отключили наши линзы, но в кабинете ведется прослушивание.
– Ай-я-яй, Анна Игнатьевна. Вам бы все шутки шутить со стариком, – с нарочитой строгостью сказал он, занимаясь между тем Мавкой: протер ее влажными салфетками, обернул несколькими слоями воздушной бумаги так, что получился кокон…
– Не сердитесь, друг мой, – Семицветова, тряся перламутровыми телесами, грузно слезла с кресла и зашуршала одеждой. – Не над вами смеюсь, над собой. Скажите лучше, каковы мои перспективы?
– Перспективы самые радужные, – Леднев положил кокон с Мавкой в коробку-головоломку и принялся закрывать ее – 5 ходов в обратном порядке. – Эффект стабильно держится. У вас прекрасный организм, сильный и пластичный, одно удовольствие работать с вами. Хотя, по расхожему мнению, для клиники здоровые пациенты невыгодны, – он сделал последний ход, вернул шкатулку на прежнее место, и в тот же миг зазвонил таймер, оповещая о восстановлении связи со спутником. – Но это миф, предрассудок! – крикнул, проходя к рабочему столу. – Слабые и больные обходятся государству всегда дороже. Всегда! Но вы, дорогая моя Анна Игнатьевна… Я редко видел столь цветущее здоровье. И – красоту! Неудивительно, что до сих пор вы не прибегли к нашей «Кощеевой игле».
– Вы мне льстите, – отозвалась Семицветова, выходя из смотровой. – Ваша волшебная игла мне попросту не по карману. Да и боюсь я, честно говоря. Знаете, все эти вмешательства в голову… Я не хочу вас обидеть, друг мой, недоверием, но лучше уж я останусь собой.
– Вы всегда будете собой. Что ж… – он вошел в базу данных и внес изменения в ее амбулаторную карту. – Вот список анализов, пройдете за пару дней. Это так, на всякий случай – если пациент жалуется, мы обязаны все проверить.
Исполнив все формальности, они расстались. Леднев откинулся в кресле, закрыл глаза – и только теперь почувствовал дрожь и тошноту под ложечкой. Казалось бы, все уже отработано до автоматизма. А страшно – как в первый раз. Как два года назад, когда все только начиналось.
14. Сквозняк времени
По ночам я вижу один и тот же сон: мне снится Люсина рука на краю проруби, прозрачная и серая, как мокрый лед, – но самой Люси, ее лица не видно. Я вновь и вновь бросаю ей платок: хватайся! Но едва ее пальцы вцепляются в платок, как он превращается в нечто другое, нелепое и бесполезное – то в нитку, то в бумажную ленту, то в каких-то крохотных тварей, разбегающихся врассыпную. Иногда все-таки платок остается платком, она хватается – я дергаю изо всех сил и вытаскиваю на берег… только руку, кисть до запястья – она бежит ко мне, быстро-быстро перебирая тонкими паучьими пальцами, я радостно прижимаю ее к груди – спасена, спасена! – и потом весь остаток сна бережно ношу за пазухой, опасаясь причинить ей какой-нибудь вред, сломать или испортить. Но в самой атмосфере сна что-то портится, нагнетается какая-то угроза – ворочается, томится и вздыхает в тесноте своего еще не явленного бытия, и сердце тоскует, провидя неминуемую беду.
Вскоре после трагедии на Вихляйке в Детском Городе началась эпидемия кори, в школе всех погнали на срочный медосмотр – и тут случилось новое ЧП: взяли невидимку. При сканировании одного из пионеров врачи не засекли сигнала светляка. А на его месте обнаружили свежий неумелый шов – мальчишка выковырял чип и заштопал рану. В одну руку или таг[11]11
Сокр. от «доттаг» (чеч.) – друг.
[Закрыть] пособил – это уже будет выяснять следствие. Сразу вызвали охрану, и бедолагу забрали. Вывели из кабинета под микитки – птенец взъерошенный, вихрастая голова вдавлена в острые плечики, одежка топорщится, сам еле-еле идеткриволапит… Теперь его в карцер дней на двадцать – по принципу: лечить подобное подобным. Хочешь одиночества? На, получи. Безотказно работает. После карцера никто одиночества больше не хочет.
Ну, тут, как водится, пошло бритье голов и шмон на целый день. Пользы в этом ноль, но для порядка надо ведь что-нибудь изобразить – вот, изображают меры. Отобрали, у кого нашли, все острые предметы – перочинные ножи, резцы по дереву, ножницы, стилосы, брадобрейные бритвы – все, вплоть до булавок и чернильных перьев. А чем писать? Чем рожу отрокам скоблить? И дня не проходит, как назад все отдают: да ну вас к лешему, идите хоть зарежьтесь, олухи царя небесного! Или – головы обреют всем ученикам мужеского полу. Ладно, тут есть резон. Опять же, профилактика от вшей. Но для системы безопасности нет разницы, брит затылок или нет. Да будь у невидимки хоть волосы Самсона – систему не обманешь. А начни администрация усердствовать с бритьем голов для перестраховки – выйдет, будто она системе не доверяет, а где нет доверия системе – там жди бунта.
Они всегда попадаются. И все равно эдак раз в три года какой-нибудь чумной режет себе голову в сортире, воображая, что уж ему-то повезет, уж он-то хват – возьмет и изловчится, придумает какую-то особенную хитрость, чтобы не угодить под сканер. Уловки не срабатывают никогда – всех выявляют, всех. Некоторые заваливаются уже на первом шаге – вот, говорили, был случай: нашли головореза-недотыку возле унитаза в крови и без сознания. Остальные срезаются кто на медосмотре, кто на контрольной рамке, замаскированной на входе в какой-нибудь кабинет – никогда не знаешь, стоит на входе рамка или нет и включена ли. А самое простое – кто-нибудь заметит шрам и донесет.
– Странно, – шепчет Рита после отбоя. – Почему Воропай не попался? Значит, он не такой, как другие невидимки…
– Угу, – говорю.
– Что «угу»? Так он преступник, значит! Враг. Обучен как-то обходить систему…
– Он просто рептилоид, это всем известно. Инопланетянин.
– Или андроид? – подхватывает Рита, не замечая в моем голосе ойланзы.[12]12
Ойланза (сленг от чеч.) – легкомыслие, ирония, стеб, легкость, несерьезность.
[Закрыть] – Знаешь, говорят, во всяком коллективе есть внедренный киборг, машина, неотличимая от человека.
– Для машины он слегка психованный, тебе не кажется?
– В том-то вся и соль, а? Чтоб никто не догадался.
– Байки это все, – я отворачиваюсь к стене.
– Ну, ты зануда… Что с тобой случилось? Будто подменили.
Молчит минуту.
– Скажи по-честному. Ты злишься на меня из-за Юрочки? Он ведь нравился тебе, да? Динка? Э-эй!.. Ну, точно… Так я и знала. Слышь, но разве я виновата, что все в меня влюбляются… Что мне? Паранджу носить? Ну?
– Я сплю.
А только не спится мне. Лежу, боюсь пружиной скрипнуть – Рита начеку, опять пристанет с разговором – месяц назад я бы прошушукалась с ней полночи – про Юрочку, про Воропая, про роботов, големов, репликантов, домовых, про шпионов внешнего мира, предателей, замаскированных врагов, про доблестных сотрудников КТД – легальных одиночек, правомочных невидимок, про любовь и тайны: «ты целовалась с ним?» – «а ты как думаешь?» – «не знаю, я не смотрела» – «но хочешь знать?» – «не знаю» – «хочешь, покажу?» – соскользнет с кровати, руками обовьет, и руки движутся тягуче, будто в сонной неге, оплетенные по плечам распущенными косами, прохладными, как речные струи, – «кто-нибудь услышит» – «тогда молчи» – блеснет улыбкой в темноте и накроет мои губы своими бархатными, как тополиный лист, губами… В сентябре она мне показала, как целуется Лезга: смазно, широко открытым ртом, в ноябре – как это делает победитель математических олимпиад Сухотин: быстрыми отрывистыми клевками, в январе – как Васька Цыганок: впиваясь жадно, покусывая и сверля змеиным языком… Я никогда не видела, как она с ними целовалась, а было так: во время прогулки наступал момент – они сближались, словно в танце, или в игре с каким-то запретным правилом, или в шутейном сговоре, как будто пряча что-то, известное только им двоим, и дразня этим секретом друг друга, не замечая моего присутствия – и я невольно отворачивалась всякий раз. Так было и с Юрочкой, когда они вдвоем боролись в снегу… А ночью Рита то ли в благодарность, то ли все еще томясь воспоминанием о поцелуе, передавала мне свои опыты любви. Как волчица кормит своего голодного щенка кусочками проглоченной еды – из пасти в пасть. Наверняка сейчас она намеревалась показать мне Юрочку, поделиться кусочком Юрочки со мной в награду за умение вовремя слепнуть, глохнуть и неметь.
Я лежу, уставившись в стену, но вижу только темноту. Долго-долго. И темнота начинает шевелится, плыть куда-то, а на стене медленно проступают буквы, белым по черному, складываясь в непонятное, страшное слово: «Хаканарх»… Сморгнула – и увидела его негативный отпечаток: черным по белому… И снова темнота плывет… И – чувство, неприятное до тошноты, будто помню что-то, о чем хотелось бы забыть. Но не Люся, не ее отвратительная рука, которая преследует меня во сне и наяву. А что-то неуловимое. Что? Откуда? Протянуло холодным сквозняком – и вмиг исчезло… Бывают такие вечно убегающие воспоминания – без корня времени, и такая с ними мука – как от щекотки или зуда, даром что не почешешь. Дразнит, дразнит – а не поймать, не разобрать ничего, кроме какой-то детали, на которой если попробовать сфокусироваться – она тотчас гаснет, как далекая звезда от прямого взгляда. Эта мука похожа на дежавю, только в дежавю тебе память на пятки наступает, а тут – словно издали подует, словно от неба волосок отделится, сердце пощекочет…
И не о прошлом это. Когда о прошлом вспоминаешь – все иначе. Все – телесно и беззащитно. Даже самое далекое – оно не вдали, а прямо в тебе. Достаточно одного случайного удара – запахом, звуком, касанием – чтобы давно забытое событие развернулось, словно еж, брошенный в воду. Идешь себе в толпе по коридору из кабинета в кабинет, кругом – привычный гул, беготня и крики мелюзги, и вдруг – дзыньс-с-с-с! – рассыпной, хрустальный, разреженный эхом звон разбитого стекла – где-то в столовой кто-то уронил стакан. И вмиг тебя уносит куда-то в дошкольное детство: родная комната, окно, гроза идет навалом – все гуще, все быстрей, и сразу – шквал!
Резкий удар ветра – створы настежь, залп дверей по всему дому – и в обратной сквозной тяге окно захлопывается – ба-бах! – с грохотом пушечного выстрела. Звон. Лопается, обрушивается стекло – и в этот момент картина как бы застывает: сквозь ощеренную осколками раму зияет, дышит холодом пасть глубокой перспективы: на первом плане – машут рукавами рубахи, срываясь с бельевых веревок, несется пыль, трава, клочки, пакеты, мусор человечьего жилья; на втором – курятся угольные кучи у сараев, кусты сирени ломятся через забор, на колья которого насажены, как головы врагов, глиняные жбаны. А дальше – луга-поля-холмы-леса, разбросанные, развернутые, как в скорняжной лавке рулоны разноцветных тканей – поверх друг друга и наискось разостланные пространства, а над ними ходят на цепях дождя грозовые тучи.
– Спишь? Дин? – зовет Рита.
Я молчу.
– Да ладно тебе! Я же знаю, что не спишь. Слышь, чо?
Откуда-то издалека, из-за Четвертого кольца, доносится горестное «у-у-у!» – собака воет за семью болотами, за тридевять земель, где-то в зоне грязи безводопроводной. Тоска и жуть. Или не собака, а птица-пересмешница какая – Бог ведает… А только этот вой тебя врасплох берет – душа вздрогнет, задышит побито, торопливо, будто перед смертью – и остро, иглой, прямо в сердце входит иное – горячее, нежное, сладостное – имя. Тимур.
15. «Кошки» Семицветовой
Все началось два года назад, с кошки.
В то утро позвонила Семицветова – перенести запись на прием, поболтали между делом, как старые, давно притертые друг к другу приятели, почти родня, столько лет знакомы, и в конце она вдруг говорит:
– Думаю, вам нужна переноска для кошки.
– О чем это вы? У меня нет кошки.
Леднев удивился не столько ее словам – Семицветова держала кошачий питомник и это было не первое ее предложение, – сколько загадочному и в то же время категоричному тону.
– Ну, так будет, – все тем же тоном сказала она. – Чудесная кошка – воды не боится, еды не просит. Породы «датская королевская».
Тут он сообразил, что Семицветова пытается донести до него какое-то секретное сообщение.
– Никогда не слышал о такой породе, – осторожно сказал он.
– Слышали, даже видели. Редчайшая порода. Можно сказать, – она сделала многозначительную паузу, – музейная.
Он покрутил в уме ее слова и внезапно понял: речь идет о статуэтке из музейной коллекции – фарфоровой пантере Кнуда Кюна, мастера датской королевской мануфактуры.
– Ах, да, припоминаю, – пробормотал он. – Но… помилуйте…
– Не возьмете – ее усыпят.
Это означало, что статуэтка списана и вскоре будет уничтожена согласно Закону о Второй Заповеди.
Он обещал подумать. И в тот же день, еще ничего не решив, заказал в магазине «В гостях у сказки» коробку-головоломку подходящей емкости. Это была идеальная «переноска» – он уже много лет покупал китайские шкатулки, все в клинике знали о его увлечении, охрана на вахте никогда не проверяла их содержимое. И хотя он понимал, что Семицветова вовлекает его в смертельно опасную авантюру – это называлось хищением государственной собственности и каралось вышкой, – но что-то взыграло в нем.
Со временем у них сложился свой метафорический язык – стихийный шифр, для каждого случая – новый, изобретаемый ею на ходу, однако для него, реликта сгинувшей эпохи, всегда прозрачный. Обычно она звонила записаться на внеочередной прием с какой-нибудь вымышленной жалобой, не забывая сокрушаться: «ах, Дмитрий Антоныч, я такая мнительная», чтобы у прослушивающих складывалось впечатление, будто дамочка – невротична и тревожна, что, в общем-то, обычно в ее возрасте, да еще после перенесенной «женской» операции.
«Друг мой, – смущенно басила она. – Я понимаю, что надоела вам своими страхами, но что-то меня беспокоит». Он сразу включался в игру: «Вы плохо себя чувствуете?» – «Ох, – вздыхала Семицветова. – Я чувствую себя доисторической развалиной! Обломком Гомеровской эпохи», – и он понимал, что речь идет о субмикенской керамике, и готовил «переноску». Или, предваряя ее жалобы, сам, по праву лечащего врача, спрашивал: «Ну, как наше самочувствие?» – «Хуже – только у мумии Тутанхамона», – отвечала она, и это означало, что для него приготовлена какая-то египетская фигурка периода Нового царства, 18-й династии. Если что-то шло не так, она отменяла назначенную встречу: «Не могу сегодня, кошка заболела».
Леднев поначалу ломал голову: каким образом ей удается обманывать линзы и незаметно выносить «кошек» из запасников Пушкинского музея? – пока однажды, в каком-то отвлеченном разговоре, она сама не намекнула: брешь нужно искать в наиболее укрепленном месте. И тогда он догадался: Семицветова обратила в свою пользу самый жесткий рычаг надзора – «наказание слепотой». Эта мера была введена лет десять назад, чтобы устранить косяк, обнаруженный в системе линз-контроля: до комитетчиков вдруг дошло, что каждый раз при банальной разрядке ПНК наблюдаемый на время ускользает от наблюдателя – пока вновь не подключится к зарядному гнезду. Что тут началось! Угроза безопасности! Диверсия врагов! Полетели головы «китайских шпионов» из звена высших сотрудников по ИТ-связям с Поднебесной – откуда и пришла в Россию технология следящих линзовых дисплеев с видеоядром в наушном компьютере. Государь бросил клич: «Новаторы, дерзайте! Высочайшим повелением Мы назначаем награду тому, кто придумает, как обеспечить бесперебойное питание каждого ПНК».[13]13
Персональный наушный компьютер (в народе – «серьга»), от которого работает линзовый дисплей, выполняющий как прием, так и передачу сигнала (видеона-
[Закрыть] Из лучших умельцев сформировалось Особое ИТ-бюро КТД, где в кратчайшие сроки разработали метод «наказания слепотой»: теперь, при критически низком уровне заряда ПНК, в линзах автоматически включается «бельмо» – и недотепа, не успевший вовремя добежать до розетки, слепнет. А что крамольного может предпринять слепой человек?
Человек – да. Но Семицветова – не человек. Она – чертов ангел. И директор Пушки. Она там все знает на ощупь. И за пять минут, находясь в нужной точке локации, успеет предпринять что угодно крамольное. Ведь пять минут слепоты – это и пять минут невидимости. Главное – заранее рассчитать заряд батареи и геометрию своих передвижений по музею. Чтобы ослепнуть в нужное время и в нужном месте. А когда дело сделано, с притворным квохтаньем метаться и причитать: «черт меня побери, старую дуру, опять забыла вовремя подзарядиться! Где же это чертово гнездо! Эй, кто-нибудь, помогите, я ничего не вижу!», ударяясь мягкими частями об углы стеллажей. Кто заподозрит интеллигентную, не от мира сего, пожилую даму?
И все-таки Леднев понимал: сколько веревочке не виться… Нет, все, хватит, пока не поздно. Надо остановиться. Вот еще Мавка – и все. Невозможно было отказаться от Мавки. Но теперь – все. Больше никогда. Теперь уж точно. Сколько раз он себе обещал: это – в последний раз. Каждый раз, все эти два года.
Два года – с тех пор, как вышел Закон о Второй Заповеди: «Запрещено создание, хранение и распространение любых произведений искусства, двухмерных и трехмерных, которые содержат изображения живых существ – как телесных (людей, животных), так и бестелесных (ипостасей Бога, ангелов, бесов, райских птиц и зверей, адских чудищ, языческих идолов, потусторонних сил и т. п.), воплощенных в конкретных тварноподобных образах».
Конечно, закон не требовал уничтожить все сразу. На первом этапе – только то, что не представляло ценности для казны, всякую кустарную мазню, поделки дилетантов и непризнанных гениев. Иное дело – шедевры мирового значения. Они перешли под особую опеку государственных торговых агентов, которые сбывали их за границу, подыскивая самых щедрых покупателей. И дело шло быстро. Труднее было с мастерами второго и третьего ряда – возни больше, денег меньше. Однако – несмотря на то, что мгновенный выброс на рынок огромного количества произведений искусства из русских музеев поначалу вызвал их резкую девальвацию – торговля наладилась и на этом фронте: угроза скорого и окончательного уничтожения всего фигуративного русского искусства заранее переводила все его наследие в раритетный статус и возбуждала мировой ажиотаж, иногда поднимая стоимость даже неизвестных авторов.
Казна пополнялась с волшебной скоростью. А Третьяковка, Эрмитаж, Пушкинский и Русский музеи, фонды ЦДХ и многочисленных уездных галерей – с еще более волшебной скоростью пустели. Баснословные деньги. Легкие деньги. Вот где открылась золотая жила для государства. И для всевозможных тайных махинаций, о масштабах которых нельзя было и помыслить. Что там какая-то мелкотравчатая авантюра двух старых дураков с «кошками»? Так, плевок в море грязной пены.
Все исчезло. А что же осталось? Натюрморты. Безлюдные пейзажи. Супрематисты – все эти образцы чистого искусства, воспетые когда-то нули форм, треугольники и квадраты, точки и линии… Тут без вопросов – разрешено. А вот с кубистами поначалу не знали, что делать: вроде бы и есть тварноподобные образы, а вроде бы и нет. Даже придумали пропускать их через распознаватель лиц – и, конечно, машина никаких лиц на картинах не увидела. Но духовная комиссия все равно запретила. На всякий случай. Хотя несколько беспредметных шамотов и декоративных плиток спаслось.
Что еще?.. Новейшее искусство роботов. Архитектурные голограммы. И портреты Государя-Помазанника на разных исторических этапах правления – образ, который выше закона.
Ну, еще обломки утилитарной архаики. Кривая посуда из раскопок древних поселений, какие-то истлевшие онучи, звенья кольчуг, ржавые наконечники, подвески, отбитки на глиняных досках… Да и то: не всякая тарелка и булавка имеют право на жизнь – любая мелочь, в которой угадывается что-то одушевленное, заносится духовной комиссией в запрещенные списки. Все эти египетские палетки в форме слонов и крокодилов, гребни-лошади и ложки-девушки, кошачьи мумии и канопы с головами павианов, шакалов и людей, сосуды с благовониями в виде беременных женщин…
Или те же греки. Вся их древняя утварь. Попробуй найти вазу, кратер, фиалу или там какой-нибудь жалкий килик, чтобы без крамолы. Видно, скучно им было в своей Элладе – две тысячи лет меж винноцветным морем и медными небесами. Всю посуду от нечего делать расписали фигурками. Что ни возьми – везде боги и звери, атлеты и гетеры, сцены пиров, оргий, битв и состязаний… Все это теперь вне закона. Все, что не смогут продать на восток и запад, за пределы Оклада, – будет уничтожено с истечением семилетнего срока. Все, что не успеют здесь спрятать где-нибудь глубоко в запасниках, в тайниках, в каменных пещерах – так глубоко, чтобы никакая духовная комиссия не раскопала.
Уж Семицветова придумает, как. Она баба умная и жертвенная – редкое сочетание. Рискуя жизнью, спасает произведения искусства, как своих родных чад, приговоренных к смерти. Буквально – выносит их во чреве. Великая Мать! И бессребреница. Отказывалась от платы, но Леднев настоял – мол, дело чести. Он ведь тоже немного спасатель. Сколько они спасли за эти два года «профилактических осмотров»?
И еще он втайне надеялся спасти саму Семицветову – кто знает, может, поднакопив денег, она забудет свои страхи и решится на Кощееву иглу… Такие женщины не должны умирать в обычный срок. Такие должны жить долго, очень долго, дольше безумных законов и сочиняющих их живоглотов-законодателей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?