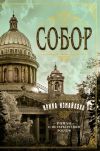Текст книги "Собор. Роман с архитектурой"
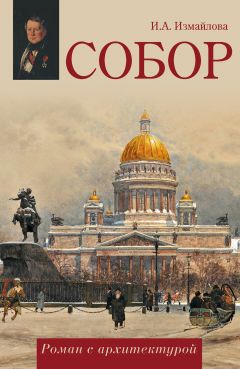
Автор книги: Ирина Измайлова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Он вытянул обе руки ладонями вверх. Пальцы его были сплошь покрыты желтоватой коркой несходящих мозолей, а ладони как будто слегка вдавлены, словно навеки приняли форму рукояти каменнотесного молота и тесла. Но в этих, казалось бы, грубых руках ощущалась неуловимая тонкость, точность, как в скрипичном смычке. То были руки не просто мастерового, но скульптора и художника.
– Работал я и с вашим братом, архитекторами, знаю их, вас то бишь… И чиновников знаю, и с князьями дел поимел, и с купцами, что меня побогаче. Разбираюсь, что тут к чему.
– Я знаю, я вижу это, – серьезно сказал Монферран, сгибаясь над столом и рассматривая бумаги, которые ему во время разговора небрежно подсовывал мастер. – Но только я тоже не ворую и работаю честно, к чему же вы так со мной говорите? Да, я еще чего-то не умею, но я научусь. И вы же не сразу научились отламывать от скалы куски в двести тонн, так, чтобы они не раскалывались, не давали трещин. Это многим кажется чудом, но это чудо и есть – чудо работы.
Мастер тяжелым своим кулаком сильно треснул по крышке стола, в восхищении прищелкнул языком.
– Опять хорошо сказал, сударь ты мой! Да нет, что ни говори, из тебя толк будет, я ж вижу. Ну и что вы, бумажки смотреть кончили, али как? Чай-то пить пойдете? Право, пошли. Я сам самовар распалю, да и назад, в карьер. Без меня у них не пойдет.
Самовар в избе подрядчиков стоял большущий, ведра на четыре, и у Огюста невольно захватило дух, когда Алексей спокойно, будто и без напряжения, схватил его за деревянные ручки и, подняв с пола, увесисто водрузил на стол, где красовались в миске крупные желтые сухари, и розовели на блюдце ломтики нарезанного мелко сала.
– Сколько в тебе силы, Алеша! – улыбаясь, проговорил архитектор. – И где только твоя сила помещается?
– Ну, я что! – Алексей, не спеша, раскрыл принесенный с собою саквояж и начал доставать оттуда заранее прихваченную хозяйскую одежду. – Я что? Вот мой отец, помню, шестипудовое бревно на плече один нести мог, и не шатало его. И дед такой был. Говорят – прадед тоже. А я в голодные годы рос, мне силы поменьше досталось. Сейчас вот, правда, чувствую, сильнее делаюсь. Ну, так это вы меня откормили, Август Августович. Вы погодите за чай садиться – пока нет никого, переоделись бы, на вас нитки нет сухой.
– А на тебе? – рассердился Огюст. – Ведь притащил, не поленился. Ну что я, умру, если в мокром похожу, а? Ты тоже весь мокрый!
– Я мужик, мне Бог велел. – Алеша плечом подпер дверь, чтобы в нее никто не вошел, скрестил на груди руки. – Ну, живо, переодевайтесь, пока самовар не простыл.
Архитектор нехотя подчинился настоянию своего слуги. Он действительно ощущал легкую лихорадку после перенесенной морской болезни и из-за липнущего к телу мокрого платья. После всех страданий переодеться в сухое было наслаждением.
Потом они оба уселись за стол. В первый, да и во второй год своей службы у Монферрана Алексей никак не мог привыкнуть, что заходя с ним в какой-нибудь трактир, хозяин всегда сажает его вместе с собою за один стол, но Огюст не принимал никаких его возражений.
– Слушай, Алеша, – проговорил Огюст, дуя на дымящийся чай и не решаясь еще отпить его. – А ты мне про родителей своих никогда не говорил. Они рано умерли, да?
– Мамка очень рано, – тихо, но спокойно, будто даже без печали в голосе, ответил Алексей. – Мне шести годов не было. В голодную зиму заболела и померла. И брат мой с сестрой померли тогда же. Нас трое было детей. А батька сильно любил ее, матушку мою, молодой был еще, ему все жениться советовали, а он не стал. Так с дедом да с бабкой жить и остался, ну и со мной… Только бабка тоже вскорости померла.
– А отец? – Огюсту вдруг показалось, что Алеша сознательно чего-то не договаривает. – Если он такой сильный был и здоровый, то отчего же?..
– На войне, – просто, не опуская глаз, сказал Алеша. – И дед на войне. Оба они в двенадцатом воевать-то у барина отпросились. Дед под Бородином остался. Ядром его… А отец там ранен был, крест получил Георгиевский. Ну а после, на Березине, и он сгинул. Так вот и не знаю, где могилки, если и есть они. Жалко! Отцу только-только к сорока шло.
Монферран поставил недопитую чашку на стол и долго разглядывал ее щербатый краешек. Потом, подняв глаза, спросил:
– А как же ты теперь служишь у меня, а? И говоришь по-французски?
Удивительные Алешины глаза расширились, начисто пропала их еле заметная раскосость.
– А язык при чем, Август Августович? Не оттого же вас погнали с русскими воевать, что вы французы, а оттого, что Наполеону этому Франции мало показалось. Вон, сколько народу сгубил ни для чего… А вы… вы Бородино видели?
– Нет, нет! – Огюст взмахнул руками, и по его лицу разлилась краска. – Нет, Алеша, я не был тогда в России, я не воевал в двенадцатом году. Я не видел ни Бородина, ни Березины. Я воевал раньше, в седьмом году. И позже – в тринадцатом и четырнадцатом…
Чуть заметно улыбнувшись, юноша спросил:
– А воевать оно как, страшно?
– Да, – просто ответил Огюст. – Страшно, что убьют, но еще страшнее, когда убиваешь сам. Вот этот молодой рабочий в карьере… Может, это я его убил, а?
– И вовсе не вы! – возмутился слуга. – Работа такая. Не умеют так работать, чтоб не убивались люди.
– Но надо уметь! – горячо воскликнул архитектор. – Надо учиться! Придумывать машины… Однако, пока их придумывают, пройдет еще лет сто. А я свой собор строю сейчас. Я буду строить его лет двадцать пять. Сколько людей умрет за это время?
– Немало, – вздохнул Алексей. – Вы вот бумажку напишите, чтоб бараки наладили, глядишь, уже лучше будет. Не то, и правда, зима скоро.
VI
Около восьми вечера, с наступлением полупрозрачных осенних сумерек, слуги опустили шторы в салоне и зажгли свечи в высоких золоченых торшерах. Венецианская люстра и хрустальные бра на стенах уже горели, и теплые красные блики играли в малиновых штофах, падали на мозаичный паркет.
Из зала долетали звуки котильона, и слышно было, как около сорока танцующих пар одновременно делают легкий прыжок под сильный всплеск музыки, а затем тихо шуршат в плавном движении пируэта.
В салоне находилось всего несколько человек – четверо из них устраивались за мраморным столиком, собираясь составить партию в карты, две дамы беседовали, устроившись на софе в нише, у ног маленькой Венеры, созданной неизвестным итальянским скульптором.
Двое мужчин стояли возле окна, один – с бокалом шампанского, в котором не было уже ни одного пузырька, другой – с длинной трубкой на манер турецкой.
– Напрасно вы ушли, князь, – обратился господин с бокалом к господину с трубкой. – Мне, право, жаль, что мое появление помешало вам танцевать. Вы, я знаю, любите…
– Полноте, Василий Петрович! – возразил на это господин с трубкой. – Бал только начался. И потом, котильон я танцую дурно, куда хуже мазурки. А вас я так давно не видел, что, признаться, ради вашего общества готов не танцевать весь вечер!
– Ну, ну! – темные выразительные глаза Василия Петровича на живом и умном лице заблестели лукавством. – Вам просто не терпится выслушать мои восторги по поводу вашего восхитительного дворца, Николай Владимирович.
– Сознаюсь, вы правы! – улыбнулся князь, поднося ко рту свою трубку, но не затягиваясь, а лишь слегка посасывая ее кончик. – Быть может, это и громко называть дворцом, но мало найдется и дворцов в Санкт-Петербурге, а кстати и в Европе, которые привлекли бы к себе сразу такой же интерес. Вы видите, я вынужден давать третий бал за месяц, потому что едва отделка особняка завершилась, все захотели его увидеть…
– И немудрено! – воскликнул Василий Петрович. – Красота этих помещений просто несравненна. Вкус, тонкость, изящество, разнообразие… А эти великолепные фасады! А само расположение дома – треугольником! Он – гений, этот ваш маленький француз! И я бесконечно вам благодарен, мой милый князь, что вы мне его представили, и теперь он принялся и за мой особняк.
Николай Владимирович развел руками, при этом чубук его трубки запутался в складках золотистой шторы, и князю пришлось долго, старательно его освобождать.
– Я не мог поступить иначе! – проговорил он, возясь со шторой. – Все равно бы вы, любезный Кочубей, сами до него добрались. Кроме того, я продал вам мой бывший дом, и все это знают, кроме того, Монферран входит в моду, и было бы странно, если бы, выстроив дом для меня, он не перестроил бы дом для моего доброго знакомого князя Кочубея, в обществе этому весьма бы удивились… И потом… О, Боже мой, как приятно видеть! Добрый вечер, уважаемый и долгожданный Николай Михайлович!
С этими словами князь Николай Владимирович кинулся к двери салона, куда входил в это время, миновав танцевальный зал, господин лет пятидесяти, строго, но изысканно одетый, подтянутый, сухощавый, с красивым резким лицом, исполненным ума и, казалось, нечаянной грусти, которая могла быть, впрочем, просто меланхолией, навеянной какими-то воспоминаниями.
Князь Кочубей, увидев этого гостя, поспешно поставил свой недопитый бокал на поднос лакею и тоже поспешил к двери.
– Николай Михайлович, сердечно рад вас видеть!
– Здравствуйте, здравствуйте! – вошедший пожал руки обоим и изящно поклонился дамам на софе, при его появлении прекратившим свою беседу. – Князь Николай Владимирович, мое почтение. Рад вас видеть, князь Василий Петрович! Ну, Николай Владимирович, знаете, я чего угодно ожидал, собираясь взглянуть на ваш новый дом, однако же это… Примите мои восторги! И знайте, что из моих знакомых ваш дом никто домом не величает. Все говорят: «Дворец князя Лобанова-Ростовского!»
Вошедший был человеком знаменитым и не только в Петербурге. Это был не кто иной, как Николай Михайлович Карамзин, историк и писатель, автор не так давно потрясшей общество «Бедной Лизы», составитель «Истории государства Российского».
Обмен любезными словами продолжался несколько минут и был прерван одной из дам, сидевших за карточным столом. Она, заметив Карамзина, привстала в кресле и воскликнула:
– Сударь мой, Николай Михайлович, что же вы в сторонке от нас встали, да с одним князем Василием и князем Николаем Владимировичем беседу ведете? Извольте-ка сюда, я вас давненько не видала, а глаза мои слабоваты становятся, чтобы на вас смотреть издали!
Некоторая бесцеремонность в обращении, допущенная дамой, никого не смутила и не обидела. Карамзин улыбнулся и, легко шагая, приблизился к мраморному столику. За ним, кроме дамы, окликнувшей писателя, расположились еще трое мужчин, двое – пожилые солидные гренадеры, один в полковничьем, другой – в генеральском мундире, третий – молодой человек лет тридцати или чуть поменьше, с полным свежим лицом, темными курчавыми волосами и в маленьких круглых очках. Все трое привстали, раскланиваясь с Карамзиным, и тот ответил им таким же поклоном, одновременно поднося к своим губам руку дамы, обтянутую лиловой щелковой перчаткой.
– Рад вас видеть, дорогая Наталья Кирилловна! – произнес он очень просто, без ложной любезности. – Мое почтение, господа. А, Петр Андреевич, и вы здесь! Что так? Вы не любитель были княжеских салонов.
Молодой человек, к которому обращены были последние слова, немного покраснел, потупился и пробормотал:
– Ну, мог ли я не прийти полюбоваться на сие чудо – дом князя Лобанова-Ростовского…
– Это я Петра Андреевича привела с собою! – заявила Наталья Кирилловна. – Он, сударь мой, нынче в моей свите, я никуда его от себя не отпускаю. И вас теперь не отпущу, Николай Михайлович. Садитесь-ка, да составьте нам с господами партию. И вы, князюшки, пожалуйте! Будет вам курить да тянуть шампанское! Николай Владимирович! Прошу! Князь Василий, будь любезен…
Это приглашение, а вернее сказать, приказание все трое мужчин восприняли весело и, не заставляя даму его повторять, уселись к ней за столик. Они знали, что возражать бессмысленно.
Наталья Кирилловна Загряжская, родственница Кочубея, была женщина примечательная. Ей было семьдесят лет, но даже те, кто это знал, с трудом этому верили. При самом ярком освещении ей нельзя было дать больше пятидесяти, а ее туалеты, умение держаться, легкость походки, свободная смелая речь совершенно сбивали с толку человека постороннего.
В этот вечер на ней было черное с сиреневым платье, совершенно закрытое, но столь изящно сшитое, что выглядело легким бальным туалетом. Голову ее, породистую, красивую, обрамленную пепельными буклями (никто так и не мог догадаться, чем же она моет волосы, чтобы придать им такой оттенок и скрыть седину) украшала наколка: пышный черный бант с лиловыми кружевами, пеной рассыпанными по затылку. С левого плеча небрежно скользила, обвивая руку, шелковая сиреневая шаль. Словом, Наталья Кирилловна была одета смело, но ни одна напыщенная ханжа не посмела бы шепнуть своей приятельнице в порыве самой неистовой зависти, что туалет Загряжской вульгарен, или «не по возрасту». В этом наряде все было «очень» и все «в меру».
– Так вам, любезный Николай Михайлович, понравился дворец сей? – раскладывая карты, без предисловий спросила Загряжская.
– Дворец этот – чудо! – совершенно серьезно сказал Карамзин. – Вы знаете, я много нахожу чудесного среди строений Санкт-Петербурга, но надобно заметить, что в этом доме есть много особенного. Он весьма нынешний, в духе лучших веяний моды и построен и украшен, однако, если вдуматься, то в этих прекрасных залах есть что-то доселе нам неведомое. Совершенно, я бы сказал, новое. Тут все дышит ампиром, однако же, и в рамки его не вмещается.
– И я, и я заметил это же! – воскликнул молодой человек, названный Петром Андреевичем. – Тут ничто не сковано традицией, канон скорее намечен, чем соблюден. Архитектура сия свободна!
– Любимое словцо ваше, Вяземский, – «свободно», – без всякого раздражения, с небольшой улыбкой заметил князь Кочубей. – Вам бы только о свободе поговорить.
– А господину Карамзину о романтизме! – отпарировал Петр Андреевич, разворачивая карты веером и утыкаясь в них носом, потому что был близорук и плохо видел знаки на них. – И то правда, тем и хорош дом, в нем любой найдет то, что ему мило: богач – роскошь, прелестная дама – изысканность, романтик – загадку…
– А старая картежница вроде меня – удобный мраморный столик! – подхватила Загряжская. – Князь Николай Владимирович, я бы, право, хотела от вас самого услышать то, что мне князь Василий рассказывал. Правда ли, что вы чуть ли не первый в Петербурге познакомились с господином Монферраном?
– Это правда, – подтвердил Лобанов-Ростовский, который не играл, а, сидя возле стола, продолжал посасывать свою трубку и только наблюдал за игрой. – Случилось это четыре с лишним года назад, господа. Я куда-то или откуда-то ехал, не помню, право… Лето было, дожди… И вдруг экипаж мой на одном повороте едва не сшибает с ног какого-то прохожего. Он вслед мне: «Невежа!» Я кучеру тотчас велел остановиться, да после его отчитал, как следует. Говорю: «Ты ж, мерзавец, мог зашибить человека!» А он мне: «Нет, ваша светлость, я его за сажень целую объехал, да вот, видать, чуток обрызгал…» Это я потом уже узнал. Ну, я тут извинился, тот, прохожий-то, любезно ответил, что сам, мол, виноват. Я было подумал, что он совсем юн, вид у него был… Да он и сейчас ненамного старше выглядит, потом: ростом невелик, блондин такой, что даже лицо в веснушках… Вижу – приезжий, наверное, только-только из Парижа. Я из одной любезности предложил ему помощь в поисках службы, ежели трудно придется. Ну, вот тут он и показал характер: глаза засверкали, лицо побледнело, и говорит: «Если вы хотите предложить мне место учителя или гувернера, то это мне не подходит, я имею счастье быть архитектором!» Я подумал – бахвалится, какой он там архитектор… Ну, назвал ему себя, на всякий случай, что-то в нем меня весьма расположило. А он мне тоже себя называет: «Огюст Рикар де Монферран!». И говорит, что если я в свою очередь буду нуждаться в его услугах, то, мол, он милости просит!
– Дерзкий малый! – заметил гренадерский генерал, крутя седоватый ус и вытаскивая из колоды червового туза так, что всем это было видно.
– Помилуйте, где ж тут дерзость! – удивился Кочубей. – Человек знает себе цену, а что она не мала, так это мы знаем теперь…
– О да! – усмехнулся князь Лобанов-Ростовский. – Ну, так вот, представьте, через год я ведь и явился к нему сам! Дом этот заказывать. Как раз вот рядом с его будущим великим творением – собором, если только он умудрится построить его, пока мы будем еще живы, господа. Четыре архитектора отказались строить на треугольном участке, а он ведь взялся, Монферран этот. И вот что выстроил! А теперь Василию Петровичу особняк на Фонтанке перестраивает. И когда только его на все хватает?
– Одного не могу понять… – задумчиво произнес Вяземский. – Как это такому молодому и неизвестному архитектору, приезжему, да без связей, такой заказ доверили? Как он сумел понравиться Бетанкуру? Ведь генерал суров, его улыбками да лестью не проймешь!..
– Пф, пф! – вскричал, едва не выронив карты, гренадерский полковник, подвижный, краснолицый толстяк. – Да вы что же, господа, не слыхали, что ли, что этот господин весьма ловкий пройдоха? Он во Франции еще государю нашему альбомчик своих проектов преподнес, да своей лестью сумел ему, видно, запомниться… И здесь он сразу же стал при дворе себе поддержку искать, и сыскал…
– Простите меня, граф Аркадий Андреевич, – сухо возразил полковник Кочубей. – Но слова ваши лишены смысла. Разве ж только пройдохи делают подарки императорам, и разве такой подарок, да еще Бог весть, когда сделанный, мог обеспечить господину Монферрану любовь и даже внимание императора, ежели он и подарков получает немало, и лести слышит предостаточно ежедневно? Ну, а связей у господина Монферрана при дворе не было, да и нет, я уж знаю это хорошо, я ведь сам при дворе, да не первый год. Нет, что хотите, а мне он нравится. Он гениален, оттого-то его Бетанкур и выделил, он видит это.
– Согласна с вами, князь Василий! – поддержала родственника Наталья Кирилловна. – Я вот приобрела альбом, изданный сим архитектором, с описанием и рисунками будущего собора. Диво, да и только! Это в тридцать лет такое придумать! Боже мой! Говорят, он альбом этот издал в долг, разорился на нем, в долги вошел. Ты бы, князюшка Васильюшка, ему побыстрее за особняк-то расчет выдал…
– Ну, прежде, чем закончит, как я могу?.. – поднял брови Кочубей.
– А я тут встретил вчера господина Оленина, президента Академии художеств, – подавая взятку Загряжской, заметил Карамзин. – Мы как раз много говорили о проекте Исаакиевского собора, о господине Монферране… Ох, Алексей Николаевич и не любит его… Ох, и не любит… Такого наговорил мне… Я, признаться, удивился…
– И что он вам сказал? – поинтересовался Лобанов-Ростовский.
Писатель усмехнулся. Его выразительное лицо на миг сделалось жестким, но тут же смягчилось.
– Да ведь он все по обществу измеряет, – проговорил Николай Михайлович. – У него, хоть он и умница, и учен, и способностями обладает немалыми, свое мнение всегда как-то исподволь от общественного проистекает, да не от того общественного, которое мы вот с Петром Андреевичем каждый на свой лад сделать стараемся, а от того, что из салонов течет, из самых изысканных… Он свое мнение высказывает обыкновенно тогда, когда оно ему безопасно кажется. А тут, видите ли, больно уж неожиданный и яркий случай попался – новый гений на голову упал! Да еще какой-то своевольный, да еще иностранец, а у нас сделалось модно иностранцев ругать… Впрочем, президент Академии не удаляется от мнения своих академиков, а большинство из них, как я слышал, сомневаются в талантах господина Монферрана.
– От зависти, что ли? – резко спросил Кочубей.
– Почем же мне, к ним не имеющему отношения, знать, кто и почему? – развел руками Карамзин. – Говорят, проект для молодого такого, а они его молодым именуют, хоть ему и за тридцать уже, говорят, слишком смел. И потом, альбом он издать издал, да без чертежей, ну, по нему и не видно, как рассчитано здание, фундамент, стены. Сомнения вызывает. Так мне господин Оленин сказал.
– Да ведь у нас издательства чертежей не публикуют! – воскликнул Вяземский.
– Ну да, так вот и получилось, что вышли одни картинки.
– Но какие! – Загряжская хлопнула последней картой по карте Карамзина, как всегда первой выйдя из игры. – Какие картинки… Какая мысль… Ах, что за скучные люди эти академики! Неужто они свободы в мыслях не терпят?
– Осторожно, Наталья Кирилловна! – усмехнулся Петр Андреевич. – Так вы и до «свободомыслия» договоритесь!
– А кого мне бояться? – повела плечом достойная дама. – Ежели только заподозрят меня в связи с каким-либо тайным обществом… Их, говорят, много теперь завелось. Все от французов набрались идей!
– Свое бы лучше знали, чем в чужие идеи поигрывали! – морщась, бросил Карамзин и тоже сдал карты. – Революционеры… Ну кому в России нужна революция, милостивые государи?
– Тем же, кому и во Франции! – вспыхнув, воскликнул Вяземский. – Передовым и свободномыслящим людям – во-первых, народу – во-вторых! И самой России, России, Николай Михайлович, хоть вы и видите для нее рай в умиленных сельских идиллиях!
Карамзин бросил на молодого человека взгляд, в котором недоумение смешалось с сожалением, и ничего не сказал.
– Вы мне не отвечаете? – поправляя очки, с вызовом проговорил Петр Андреевич.
– Ответил бы, голубчик мой, – грустно сказал Карамзин, – если бы вы, во-первых, не вывернули все наизнанку – не поставили бы Россию на последнее место, а передовых людей на первое. А во-вторых, если бы верил, что ваши убеждения суть ваши, и вы за них отвечаете, как я за мои… Но спорить с вами не буду, потому как надобности в том не вижу.
Вяземский открыл было рот, чтобы ответить что-то язвительное и злое, но Загряжская движением руки велела ему молчать.
– Петр Андреевич, вы паж мой сегодня, и я вам ссоры за столом учинять не дозволю, хотя бы и за карточным столом! А вы, душечка, князь Николай Владимирович, могли бы мне представить вашего гениального архитектора, мне уж очень хочется на него посмотреть. Он у вас сегодня?
– Что?! – переспросил совершенно ошеломленный Лобанов-Ростовский. – У меня?! Как у меня?!
Загряжская махнула рукой.
– Ах, Боже ты мой, я и позабыла, что сие неприлично – на великосветский бал зодчего пригласить. А что, он ведь дворянин, как мне говорили…
– Да… Но… Но…
Князь не знал, что еще сказать.
– Но не звать же на бал, скажем, мужиков, что кирпичи укладывали! – рассмеялся гренадерский полковник. – Хотя я опять же слыхал, что сей архитектор кровей благородных, да и притом русских. Говорят, он побочный сын нашего графа Строганова, который, помнится, живя во Франции, изрядно там победокурил!
– Ну, это уж просто чистый вздор! – расхохотался князь Василий Петрович. – Еще одна попытка наших взбешенных академиков объяснить, как это Монферрану такой заказ доверили… Лишь бы не признать, что Бетанкур его по таланту выбрал. Надо же, придумали, граф Строганов…
– А мне говорили, – пробурчал генерал, задремавший было над картами, но проснувшийся от чужого смеха, – мне говорили, что собор Исаакиевский так, как он задуман господином Ман… Монферраном, выстроен быть не может… Государь ведь заставил оставить от старой церкви алтарные стены, старые опорные столбы и фундамент. Ну и вот, старые столбы сильно мешают новому куполу.
– Да не мешают… – пожал плечами Карамзин. – Оленин объяснил мне – там что-то не так ложится – купол вроде бы опору имеет не такую, как обычно. Ну так и что в том? Разве все делается в мире по-старому? Разве нельзя ничего нового изобрести? И мне так славно думать, что такое грандиозное и совсем новое здание, как этот собор, будет в России возводиться, вот уже возводится! Я к вам сюда ехал, так еще гул раздавался оттуда, из-за забора высоченного – сваи забивали… Разве это не диво – на болоте такую громадину ставят! А что француз ставит – так в этом ли дело? Вдуматься – и это хорошо – значит хороша в России почва для новой мысли, для смелых затей, не то бы сюда ваш белобрысый гений не приехал…
– Как вы иногда говорите, Николай Михайлович! – проворчал Вяземский, все еще обиженный на Карамзина. – Послушать такие ваши речи, так вы – самый передовой человек.
– Да уж от века нашего я не отстану! – улыбаясь мягкой улыбкой, заметил Карамзин.
В это время один из слуг, быстро пройдя через салон, подошел к хозяину и, нагнувшись, что-то тихо ему сказал почти на ухо. Николай Владимирович слегка передернулся, недоуменно поднял брови и довольно поспешно встал из-за стола.
– Простите, господа, – обратился он к своим гостям. – Вынужден вас оставить. Неожиданно меня почтил посещением сам великий князь Николай Павлович. Вроде бы, проезжая мимо, решил заглянуть.
И он вышел из салона.
– Принесла нелегкая! – еле слышно прошептал Вяземский.
– Как это он так, не предупредив, пожаловал? – изумилась во всеуслышание Загряжская. – В бытность мою фрейлиной при дворе так поступать было не принято. Что за воспитание!
Остальные лишь ошарашено молчали.
В это время князь Лобанов-Ростовский был уже в зале, где за минуту прекратились танцы, и вся толпа гостей, почтительно расступившись, образовала полукруг возле августейшего гостя.
Царевич Николай Павлович, двадцатипятилетний красавец, высокий, породисто белокурый, стоял посреди сияющего серебром и хрусталем, светлого, как дворец феи, танцевального зала, держа под руку свою молодую жену, которая оглядывалась вокруг себя с нескрываемым восхищением.
Поприветствовав царевича и спокойно, с чувством собственного достоинства выслушав его ответное приветствие и шутливое извинение за неожиданный визит, князь спросил новых гостей, как они нашли его особняк.
– Невозможно описать, как он удивляет и пленяет! – искренно проговорила великая княгиня. – Поздравляю вас, князь, – это один из лучших дворцов Петербурга!
Николай Павлович, чуть улыбнувшись, ласково кивнул молодой жене, затем серьезно посмотрел на Лобанова-Ростовского и сказал, неторопливо обводя взглядом гостей, как только что обводил взглядом лепку потолка и изысканные узоры карнизов:
– Я сам не отказался бы иметь такой дворец, князь. Он и царю под стать… Во всяком случае, я скажу его величеству, моему брату, чтобы он за этим архитектором смотрел получше, чтоб его не сманили отсюда в какую-нибудь иную державу… Однако же, не будете ли вы любезны показать нам с супругой и другие апартаменты, не то мы видели лишь лестницу, пару салонов, да вот этот зал. Мы посмотрим и не станем более злоупотреблять вашим гостеприимством.
Сказав это, он довольно весело кивнул гостям и в сопровождении Николая Владимировича, все также, прижимая к себе локоть великой княгини, прошел в смежный с залом белый салон, затем в следующий и пропал в длинной анфиладе покоев.
Князь Кочубей, незаметно проскользнувший в зал, вышел на его середину, еще свободную, повернулся лицом к хорам, где застыли раззолоченные лобановские музыканты, и на правах хозяйского приятеля махнул им рукой.
– Мазурку!
Взвилась музыка. Зал ожил, вновь наполнился танцем, и бурное движение танцующих, как теплая струя, смыло легкий холод напряжения, на несколько минут заливший серебряное царство феи.
VII
– В шкафу места уже скоро не будет! Покупай еще один. Не то куда мы будем их ставить?
Говоря это, Элиза как можно выше поднимала над головой свечу, чтобы осветить верхнюю полку небольшого книжного шкафа, куда Огюст в это время старательно вставлял толстый старинный том в истрепанном кожаном переплете.
– Принимаю как упрек твои слова! – вздохнул он, соскакивая с табурета и старательно одергивая на себе халат. – Я понимаю, что покупать столько книг, когда у тебя нет даже вечернего платья, не говоря уже об украшениях и о собственной карете – чудовищный эгоизм. Но, Лиз, я всю жизнь мечтал о библиотеке… Собрал немного книг в Париже и почти все продал, чтобы было, на что сюда уехать… Ты прости меня! Я не виноват, что они такие дорогие!
Не говоря ни слова, Элиза прошла со свечой из кабинета в гостиную, поставила свечу на стол и только потом, улыбаясь, обернулась.
– А если я не прощу? А если стану требовать бриллиантов, жемчуга? Если затопаю ногами и скажу, что не желаю больше ходить пешком по этим скверным тротуарам и прыгать через лужи? Что ты тогда станешь делать?
Он поставил возле стола тяжелый стул, который старательно притащил из кабинета, и, переводя дыхание, ответил:
– Тогда я встану на колени и попрошу еще немного подождать.
– Вот видишь! – Элиза сморщилась. – Так какой же мне прок бунтовать? Все равно ты не переменишься. Но если говорить серьезно, то мне ведь ничего не нужно, Анри. В вечернем платье мне некуда ходить, украшения некому показать, а ходить пешком я очень люблю, так же, как и ты. Лучше покупай книги. Ведь кое-какие из них и я могу прочитать.
– Опять упрек! – воскликнул с досадой Огюст. – И этот еще похуже. Да, некуда пойти, некому показать… Ну, хочешь, хоть завтра пойдем куда-нибудь. В театр пойдем? А?
– А потом на тебя станут показывать пальцами? – Черные глаза Элизы только на миг блеснули вызовом. – Здесь ведь еще хуже, чем в Париже. – «А вы видели с кем он был?» – «А что это с ним была за девица?» – «Ба! Да он притащил в Петербург любовницу! Точно здесь не мог найти!» Думаешь, будет иначе?
– Мне на это плевать! – в бешенстве вскрикнул Монферран.
– Не плевать тебе, Анри, и не притворяйся, тебе это не идет. Никогда не шло, – она спокойно вытащила из вазочки, стоявшей на камине, букет лилий и принялась маникюрными ножницами подрезать их стебли. – Ты стал известен. Тебя представили ко двору, назначили придворным архитектором. О проекте собора, о строительстве говорит весь город. И ты согласишься себя скомпрометировать? Чего ради?
Он опустил голову. Вид у него при этом сделался такой обиженный, что Элизе тотчас стало досадно, как если бы перед нею был ребенок, которому она незаслуженно причинила боль. Она подошла к нему сзади, обвила его плечи обеими руками и белой лилией на тонком стебле пощекотала кончик его носа.
– Не дуйся! Это ужасно, когда ты вот так дуешься. И не думай о том, о чем сейчас думать не стоит. Разве ты не видешь, что мне и так хорошо?
– Тебе хорошо? – он взял у нее лилию и обернулся. – Ты уверена? Или ты только так говоришь, Лиз?
– Только так я бы говорить не стала, Анри. Нет, правда… Я сейчас удивительно спокойна. Я никогда столько не думала, сколько сейчас. Думаю, думаю и умнею. Просто самой странно. Уже скоро стану совсем умной. И еще читаю, как никогда, много. Чуть меньше тебя. Вот прочитала Дидро, и такие мысли полезли в голову, даже жутко… Только мне бы хотелось больше говорить с тобой о том, что я читаю, а я боюсь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?